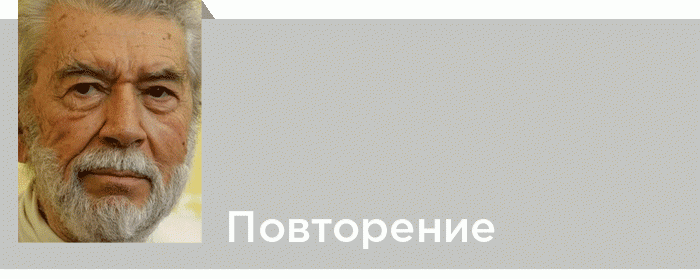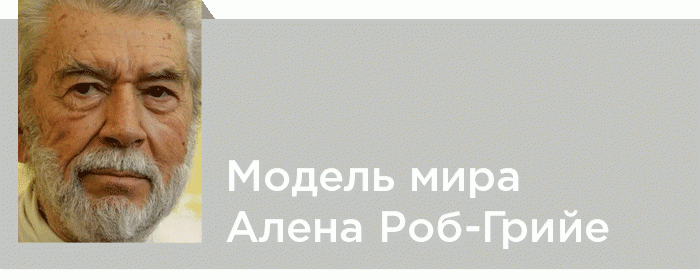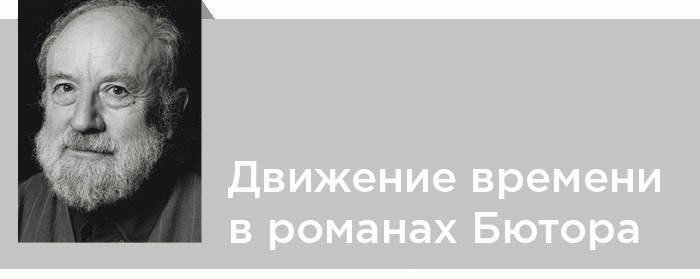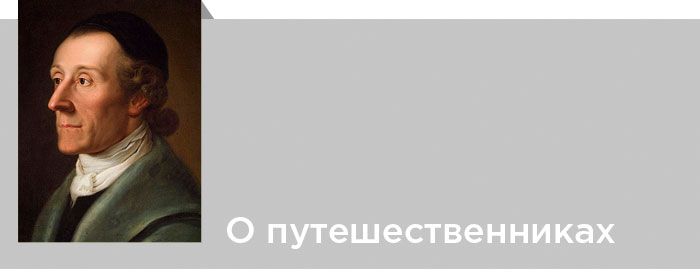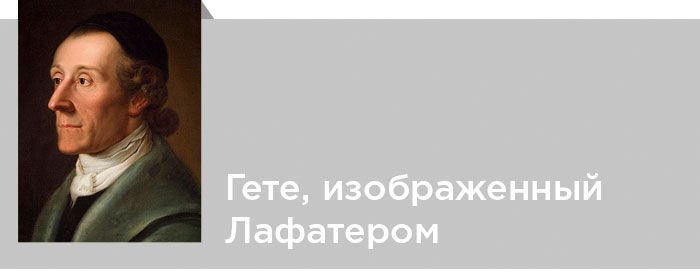Мишель Бютор. Изменение

(Отрывок)
Часть первая
I
Ты ставишь левую ногу на медную планку и тщетно пытаешься оттолкнуть правым плечом выдвижную дверь купе.
Ты протискиваешься в узкую щель между дверью и косяком, затем, сжимая разгоряченными от натуги пальцами липкую ручку чемодана — нелегко было дотащить его сюда, твой чемодан из шершавой темно-зеленой кожи, хоть он вовсе не так велик и тяжел, настоящий чемодан бывалого путешественника, — ты поднимаешь его, чувствуя, как напрягаются мышцы и сухожилия не только в пальцах, кисти и предплечье, но также и в плече, во всем правом боку и вдоль позвоночника — от шеи до поясницы.
Нет, эту непривычную слабость не объяснишь только ранним часом, тем, что утро лишь начинается, — это годы уже предъявляют права на твое тело, а ведь тебе всего сорок пять.
Глаза у тебя слипаются — они словно подернуты мутной пеленой, сухие веки больно трут их, виски стиснуты обручем, и кожа на них словно покоробилась и омертвела, волосы твои, уже начавшие редеть и блекнуть, — это пока незаметно для посторонних, но заметно тебе самому, и Анриетте, и Сесиль, и с некоторых пор даже твоим детям, — волосы твои сейчас слегка взъерошены, и все твое тело в неудобном, сдавившем и отяготившем его костюме, твое тело, еще не покинутое сном, словно погружено в бурливую и пенистую, кишащую инфузориями жидкость.
Ты вошел в это купе только потому, что слева есть свободное место у стеклянной перегородки, отделяющей купе от коридора, то самое место по ходу поезда, которое, если б еще оставалось время, ты, как всегда, поручил бы Марпалю заказать для тебя, — впрочем, нет, ты сам заказал бы его по телефону, ведь в фирме «Скабелли» никто не должен знать, что ты на несколько дней умчался в Рим.
Справа от тебя сидит человек — лицо его на уровне твоего локтя, — как раз напротив того места, которое ты хочешь занять; он немного моложе тебя, ему от силы лет сорок, он выше тебя ростом, бледен и раньше тебя поседел; глаза его, такие большие за толстыми стеклами очков, часто моргают, и руки у него длинные, беспокойные, с обгрызенными, пожелтевшими от табака ногтями, с тонкими пальцами, которые он нервно сцепляет и расцепляет в лихорадочном ожидании отправления; по всей вероятности, именно ему принадлежит и черный портфель, набитый папками, разноцветные корешки которых вылезают из разошедшегося шва, и книги, наверняка скучные, в твердых обложках, — они красуются над его головой, словно герб, словно девиз, не ставший менее выразительным или более загадочным из-за своей вещественности, хотя это не слово, а вещь, чья-то собственность, лежащая на металлической сетке с квадратными дырочками и прислоненная к перегородке, которая отделяет купе от прохода.
Человек этот смотрит на тебя, досадуя, что ты застыл па месте и не даешь ему вытянуть ноги; он хотел бы попросить тебя сесть, но робость не позволяет ему это сделать, и он отворачивается к двери и отодвигает пальцем синюю занавеску, на которой вытканы буквы SFCN.
Рядом с ним пока никого еще нет, но место занято: на зеленом дерматиновом сиденье оставлен длинный зонтик в черном шелковом чехле, а на полке — чемоданчик из непромокаемой шотландки, с двумя узкими, ослепительно сверкающими медными замочками, а дальше сидит молодой человек — он, видимо, только что демобилизовался, — блондин в костюме из светло-серого твида, с галстуком в косую красную и лиловую полоску: он держит за руку молодую женщину с волосами чуть темней его собственных и играет с ней — щекочет пальцем ее ладонь, а она умиленно следит за этой игрой и не отнимает руки, хотя, на мгновенье подняв на тебя глаза и заметив твой взгляд, тут же опускает их.
Это не только влюбленные, но и супруги — на руках у обоих новые золотые кольца, должно быть, это молодожены, совершающие свадебное путешествие; быть может, по этому случаю они и купили — если только это не подарок какого-нибудь щедрого дядюшки — вон те два совершенно одинаковых, новеньких чемодана из свиной кожи, которые лежат один на другом над их головами и к ручкам которых подвешены на узеньких ремешках кожаные футляры для визитных карточек.
Из всех пассажиров купе они одни заказали билеты: на никелированном поручне неподвижно висят рыжие бирки, и на них крупными черными цифрами обозначены номера мест.
У окна, на противоположном сиденье — один-единственный пассажир, священник лет тридцати, уже несколько располневший, подчеркнуто опрятный, только пальцы правой руки пожелтели от табака; он пытается углубиться в чтение требника со множеством картинок, а над его головой торчит папка серовато-черного, почти асфальтового цвета, ее длинная застежка-молния полуоткрыта и ощерилась, словно пасть морской змеи с мелкими острыми зубами; папка лежит на багажной сетке, куда ты, поднатужась, словно жалкий ярмарочный силач, рывком поднимающий за кольцо огромную полую гирю, забрасываешь свой багаж одной рукой — другой ты по-прежнему сжимаешь только что купленную книгу, — забрасываешь свой чемодан из шершавой темно-зеленой кожи с вытесненными на нем инициалами «JI. Д.», подарок твоей семьи к прошлогоднему дню рождения: тогда этот чемодан был довольно импозантным и вполне подходил для человека, занимающего пост директора парижского филиала фирмы «Скабелли (пишущие машинки)», да и сейчас еще на первый взгляд кажется вполне приличным, хотя при более пристальном изучении можно заметить на нем жирные пятна и ржавчину, которая уже начала исподтишка разъедать замки.
Сквозь окно, в просвете между священником и изящной, хрупкой молодой женщиной, потом сквозь другое окно другого вагона в купе устаревшего образца, с желтыми деревянными сиденьями и веревочными сетками, виднеющимися в полутьме за переменчивыми отблесками стекол, ты довольно отчетливо видишь человека одного с тобой роста — ты не мог бы определить его возраст или с точностью описать его костюм, — и человек этот повторяет, только еще более медленно и устало, все те движения, которые только что проделал ты сам.
Опустившись па свое место, ты вытягиваешь ноги так, что между ними оказываются ноги сидящего напротив интеллигента, и на лице его сразу отражается облегчение, и он, наконец, перестает сцеплять и расцеплять пальцы, расстегиваешь плотное ворсистое пальто на блестящей муаровой подкладке и раздвигаешь полы, открыв колени, обтянутые брюками из синего сукна — складка на них уже разошлась, хотя ее загладили только вчера, — правой рукой ты развязываешь и разматываешь шарф крупной вязки из толстой двухцветной шерсти, и сочетание желтых и белых пятен напоминает тебе яичницу; небрежно сложив шарф втрое, ты засовываешь его в широкий карман пальто, где уже лежат сигареты «Голуаз» и коробка спичек и в швы забились крупинки смешанного с пылью табака.
Затем, ухватившись за блестящую металлическую ручку — ее темный железный стержень уже проглядывает сквозь облупившуюся никелировку, — ты пытаешься закрыть выдвижную дверь: поначалу она слегка поддается, но потом отказывается тебе повиноваться, и в эту самую минуту в окне справа возникает низенький (словечек с румяным лицом, в черном плаще и котелке и, подобно тебе, проскальзывает в дверную щель, даже не попытавшись ее расширить, словно он заранее уверен, что и замок и дверь неисправны, и как только ты убираешь ноги, оп безмолвно извиняется едва заметным движением губ и глаз, что вынужден тебя потревожить; человечек этот — по всей вероятности, англичанин, — судя по всему, и есть обладатель черного шелкового зонтика, лежащего поперек обитого зеленым дерматином сиденья; он и вправду берет его в руки и перекладывает, только не на багажную сетку, а чуть пониже, на узкую металлическую полочку, рядом со своим котелком, пока единственным в этом купе; наверно, человечек несколько старше тебя — залысины па его лбу гораздо больше твоих.
Справа, сквозь прохладное стекло, к которому ты прислонился виском, и сквозь полураскрытое окно в проходе, мимо которого только что прошагала запыхавшаяся женщина в нейлоновом плаще, ты снова видишь перронные часы — их контуры едва различимы на фоне серого неба, узенькая секундная стрелка все так же мчится по кругу прерывистыми скачками, а две другие показывают ровно восемь часов восемь минут, и, значит, до отъезда еще целых две минуты, и, по-прежнему сжимая в левой руке книжку — ты купил ее в зале ожидания, почти не задержавшись у прилавка, просто потому, что серия тебе знакома, не посмотрел даже ни на имя автора, пи на название, — ты открываешь на запястье часы на ярко-красном кожаном ремешке, прячущиеся под тройным — белым, синим и серым — рукавом рубашки, пиджака и пальто, квадратные часы со светящимися в темноте цифрами из зеленоватого фосфоресцирующего вещества, и тут же переводишь стрелку, потому что твои часы спешат: на них уже восемь двенадцать.
За окном на перроне самоходная тележка, лавируя, прокладывает себе путь в серой суетливой и говорливой толпе, где, увязнув в прощальных разговорах и напутствиях, люди одним ухом все же прислушиваются к летящим из репродукторов обрывкам слов; затем среди шума трогается тот, второй поезд, проплывают один за другим зеленые вагоны, и вот уже самый последний уходит в сторону, точно край театрального занавеса, и твоему взору открывается неправдоподобно вытянутая в длину сцена — другой людный перрон с другими часами и другим неподвижным составом, который, надо полагать, отойдет лишь после того, как твой поезд покинет вокзал.
Веки у тебя слипаются, голова клонится книзу, тебе хочется забиться в угол, продавить в нем плечом уютную вмятину, но как ты ни силишься устроиться поудобней, все напрасно; наконец ты вздрагиваешь от толчка, и твоим телом завладевает качка.
Пространство за окном неожиданно раздвинулось; приблизился и тут же исчез, скользя по исполосованной рельсами земле, крошечный паровозик: твой взгляд подхватил его на миг, выпустил, а следом за ним и облупившиеся задние стены высоких, давно знакомых тебе домов, скрещения железных балок, широкий мост, на который въезжает молочный фургон, дорожные знаки, столбы и разветвления проводов, улицу, которую ты пробегаешь глазами во всю длину и по которой мчится и заворачивает за угол велосипедист, потом еще вон ту, другую улицу, идущую вдоль железнодорожной колеи и отделенную от нее лишь хилым штакетником и узкой полоской неухоженной, жухлой травы; кафе, где сейчас поднимают железную штору; парикмахерскую со старинной эмблемой — конским хвостом, подвешенным к золотому шару; бакалейную лавку с огромными алыми буквами над входом; первый пригородный вокзал, где пассажиры ожидают другого поезда; высокие металлические башни газгольдеров, мастерские с синими оконными стеклами; вон ту большую облезлую нечь; вон тот склад старых шин, вон те палисаднички с подпорками для цветов и сарайчиками, а в тесных двориках — каменные домики с телевизионными антеннами.
Дома становятся ниже и лепятся как попало, все больше теперь прорех в плотной ткани города: придорожные кусты, первые деревья, сбрасывающие листву, первые лужи, первые клочки лугов и полей — зелень на них кажется серой под низким небом, — и за всем этим смутно проступающая на горизонте гряда покрытых лесами холмов.
Здесь, в купе, убаюкиваемые и истязаемые несмолкающим шумом, монотонный ритм которого временами нарушается проносящимися мимо колючими сгустками скрежета и воя, четверо пассажиров напротив тебя дружно раскачиваются, не произнося ни слова, не пытаясь даже шевельнуть рукой, а у окна священник с легким досадливым вздохом закрывает свой требник в переплете из мягкой черной кожи, зажав между страницами с позолоченным обрезом свой указательный палец вместо закладки, которая узенькой белой ленточкой свисает с корешка.
Все взгляды вдруг обратились к двери, которую одним ударом плеча, словно бы без труда, отодвинул высокий краснолицый мужчина — по всей вероятности, он вскочил в вагон в последний момент, когда поезд, дернувшись, отошел от перрона, и, швырнув в багажную сетку пухлый чемодан и что-то круглое, обернутое газетой и перевязанное размочаленной бечевкой, новый пассажир уселся рядом с тобой, расстегнул плащ, закинул ногу на ногу, вытащил из кармана журнал в цветной обложке и принялся разглядывать в нем картинки.
Его мясистый профиль заслонил от тебя священника, и теперь ты видишь лишь руку, лежащую на ребре окна и вздрагивающую от тряски: указательным пальцем священник среди неумолчного грохота машинально и неслышно постукивает по привинченной к раме узкой металлической пластинке, вдоль которой, как ты знаешь (хотя не можешь прочесть ее от начала до конца и лишь отгадываешь одну за другой горизонтальные буквы, словно бы расплющенные, раздавленные перспективой), тянется надпись на двух языках: «Высовываться наружу опасно. — E pericoloso sporgersi».
Стремительно проносясь черными полосками через весь окопный проем, мелькают один за другим металлические или бетонные столбы, взмывают вверх, расходятся, снова скользят вниз, сходятся, скрещиваются, множатся и вновь сливаются воедино, повинуясь ритмичной команде изоляторов, телефонные провода — они тянутся гигантским нотным станом, только без нотных знаков, обозначая звуки и созвучия одной лишь игрой своих линий.
Чуть дальше, чуть медленней, все реже перемежаясь пятнами поселков или домов, разворачивает свой фронт лесная гуща, то разрываясь просекой, то снова смыкая строй, словно желая укрыться за каким-нибудь одним рядом деревьев.
Поезд минует, нет, пересекает настоящую лесную чащу, потому что сквозь стекло, к которому ты по-прежнему прижимаешься виском, за окном прохода, теперь уже опустевшего, за окнами, длинной вереницей тянущимися до самого конца вагона, тебе открывается все та же картина нескончаемых блеклых лесных зарослей, с каждым метром становящихся все гуще и гуще.
Железнодорожная колея, прорезая чащу деревьев, идет по дну рва, который сужается кверху, так что тебе совсем не видно неба, а почва вокруг вздымается крутыми земляными и кирпичными откосами, и на одном из них — ты едва успел их заметить — мелькнули огромные буквы, прочерченные красным по белому квадрату каменных плит; ты, разумеется, ждал их, только, может быть, не так скоро, ведь ты уже видел их столько раз, ты высматриваешь их во время каждой поездки, если только за окном еще не стемнело, потому что они либо предвещают тебе скорое возвращение, либо подтверждают, что твое путешествие действительно началось.
Поезд минует станцию Фонтенбло-Авон. За окном прохода видно, как большой черный автомобиль останавливается у здания мэрии.
Если ты боялся опоздать на поезд, к тряске и шуму которого уже успел привыкнуть, то вовсе не потому, что проснулся в это утро поздней, чем хотел, — наоборот, едва открыв глаза, ты первым делом протянул руку к будильнику, чтобы не дать ему зазвонить, в то время как рассвет уже вылепливал на твоей постели складки смятых простынь, выступавших из мрака, подобно привидениям, укрощенным и втоптанным в эту мягкую, теплую почву, из которой ты сам с трудом высвободил свое тело.
Обернувшись к окну, ты увидел волосы Анриетты, когда-то иссиня-черные, и ее спину, в первых блеклых, унылых лучах зари неожиданно и робко проступившую сквозь белую, полупрозрачную ночную рубашку и затем обрисовывавшуюся все более отчетливо по мере того, как Анриетта отодвигала и складывала железные ставни, покрытые липкой черной городской пылью и кое-где — язвами ржавчины, похожими на пятна запекшейся крови.
Сырой прохладный воздух ворвался в комнату, защекотал ноздри, и когда стал отчетливо виден весь проем окна, Анриетта, зябко стянув правой рукой вырез на увядшей груди, украшенный жалкими, бесполезными кружевами, подошла к зеркальному шкафу в стиле Луи-Филиппа и одним движением руки переместила отражение потолка и его леппого рисунка вместе с трещиной, которая с каждым месяцем становится все шире и которую тебе давно уже следовало бы замазать (в скупом свете, словно просеянном сквозь несчетные щели в слоистых серых облаках, даже красное дерево казалось бесцветным, и только в самом углу на лепнине дрожал медный отблеск, скорее рыжий, чем красный), — подошла и, приподняв голую руку и обнажив подмышечную впадину, среди всех этих висящих на плечиках платьев с вытянутыми прямыми рукавами, словно облегающими бесплотные руки прежних жен Синей Бороды, чьи призраки с беспощадной немой насмешкой покачивались в шкафу, среди всех этих платьев отыскала халат в крупную серую с желтым клетку, надела его, нерв но затянув шелковый пояс, и в этом халате, усталая, озабоченная, настороженная, сразу стала похожа на больную.
Да, в ту минуту в ее глазах не было ласки, но зачем ей понадобилось вставать с постели, когда ты отлично справился бы без нее, как было условлено, как ты уже справлялся много раз, когда она уезжала на лето с детьми, — впрочем, дома Анриетта никогда не передоверяла тебе все эти мелкие хлопоты, так как была убеждена, что тебе без нее не обойтись, и стремилась убедить тебя в этом…
Ты подождал, пока она выйдет из спальни, тихо притворив дверь, чтобы не разбудить спящих в соседней комнате сыновей, и тогда, надев на руку часы (было чуть больше половины седьмого), ты сел па кровати, сунул ноги в домашние туфли и, почесав голову, рассеянно взглянул в окно на купол Пантеона, смутно вырисовывавшийся на сером небе, неотступно размышляя о выражении лица твоей жены и спрашивая себя, разумеется, не о том, догадывается ли она вообще — в этом не могло быть ни малейших сомнений, — а только о том, как далеко она зашла в своих догадках, в частности, насчет этой поездки, и насколько она тебя раскусила.
Конечно, тебе было приятно выпить кофе с молоком, который она для тебя сварила, но старалась она — да она и сама это знала — совершенно напрасно, потому что так или иначе ты позавтракал бы в вагоне-ресторане.
На лестничной площадке ты не посмел отказать ей в унылом прощальном поцелуе.
— Времени у тебя в обрез. Правда, в первом классе место всегда найдется.
Откуда ей было известно, что на этот раз ты не мог заказать билет? Сам ли ты рассказал ей об этом, и если да, то зачем? Так или иначе, она не может, никак не может знать, ни в каком вагоне ты сейчас едешь, ни того, что ты совершаешь эту поездку украдкой, не по заданию и не за счет фирмы «Скабелли», а, напротив, втайне от римских начальников и твоих собственных подчиненных в Париже.
Она захлопнула дверь квартиры еще прежде, чем ты зашагал вниз по ступенькам, и упустила тем самым последнюю возможность тебя растрогать, хотя совершенно очевидно, что она ничуть к этому не стремилась и поднялась на рассвете, чтобы подать тебе завтрак, лишь в силу привычки, быть может, под влиянием своего рода презрительной жалости; ясно ведь, что эта жизнь опостылела ей еще больше, чем тебе. Какой смысл укорять ее — после этих ее слов, в которых, очевидно, была скрыта насмешка и па которые ты не нашел, что ответить, да и не хотел ничего отвечать, — укорять за то, что она даже не проводила тебя взглядом, когда для вас обоих было бы, право, гораздо лучше, если бы она вообще не вставала с постели, даже не разомкнула век, и ты покинул бы ее, пока она спала, и простыни и одеяла равномерно вздымались бы от ровного дыхания спящей женщины, едва различимой во мраке спальни с затворенными ставнями, которые ты даже не стал бы открывать.
Если ты боялся опоздать на этот поезд, неторопливо едущий сейчас мимо голых полей и бурых лесов, то лишь потому, что па поиски такси у тебя ушло гораздо больше времени, чем ты рассчитывал: ты вынужден был пройти с чемоданом в руках всю улицу Суффло, и только па углу бульвара Сен-Мишель, у кафе «Майе», после многих тщетных попыток тебе наконец удалось остановить машину, го шофер даже не потрудился распахнуть дверцу и помочь тебе поставить твой небольшой багаж, и у тебя появилось нелепое ощущение, будто он прочитал на твоем лице, что на этот раз ты намерен ехать третьим классом, а не первым, как ты привык, и особенно неприятным было вдруг поразившее тебя открытие, что реагируешь ты так, словно в самом этом факте заключено нечто позорное — странный поворот утренних мыслей, еще не сбросивших пелены прерванных сновидений.
Забившись, как и сейчас, в правый угол, ты смотрел на проплывавшие мимо пустынные тротуары, витрины запертых магазинов, стволы деревьев, затем увидел церковь Сорбонны и ее безлюдную площадь, руины, именуемые термами Юлиана Отступника, хотя, вероятно, термы были выстроены еще до рождения этого императора, Винный рынок, решетчатую ограду Ботанического сада; слева, над парапетом Аустерлицкого моста, посреди других колоколен, верхушку собора, высящегося на своем острове, и, наконец, справа — вокзальную башню с часами, показывающими восемь утра.
В тот миг, когда ты спросил у контролера, пробивавшего твой билет, только что купленный в международной кассе, где платформа, на которую тебе нужно пройти, ты вдруг увидел, что она совсем рядом, и тут же, у начала платформы, висел циферблат, его неподвижные стрелки показывали не время дня, а время отправления поезда — восемь часов десять минут, — и табло с перечнем главных остановок на твоем пути, уже давно запомнившихся тебе наизусть: Ларош, Дижон, Шалон, Макон, Бур, Кюлоз, Экс-ле-Бен, Шамбери, Модан, Турин, Генуя, Пиза, Рим — вокзал Термини и дальше (а этот поезд следует дальше) Неаполь, Реджо, Сиракузы, и ты, воспользовавшись несколькими оставшимися у тебя минутами, купил наугад вот эту книжку — с тех пор ты не выпускаешь ее из рук — и пачку сигарет, которая, еще не распечатанная, лежит в кармане твоего пальто, под шарфом.
За окном прохода от церкви отъезжает большой черный автомобиль, он едет по шоссе вдоль полотна наперегонки с поездом, то приближаясь, то удаляясь, исчезает за лесом и, вынырнув из-за него, пересекает речушку с ивами и заброшенной лодкой у берега, отстает, затем вновь нагоняет твой вагон, останавливается у развилки, поворачивает
35 и катит к деревеньке, которая вскоре скрывается за холмом вместе со своей колокольней. Поезд проезжает станцию Монтеро.
В грохот поезда вдруг врывается трель звонка — в синей фуражке с золотым позументом и белой куртке к вам идет официант вагона-ресторана, и, видно, не ты один дожидался его появления, потому что молодожены тоже встрепенулись и теперь, глядя друг на друга, улыбаются.
Какой-то мужчина, женщина, еще одна женщина, которая видна тебе только со спины, вышли из своих купе и идут по проходу; кто-то рукавом плаща провел по стеклу, к которому ты по-прежнему прижимаешься виском, затем о стекло раз-другой ударилась большая дамская сумка из черного нейлона с крупной пластмассовой застежкой.
В купе стало заметно жарче, и ты чувствуешь, как накаляется на полу между сиденьями выложенный ромбовидными пластинками отопительный мат. Твой сосед, тот, что последним вошел в купе, на вид самый бедный из твоих попутчиков, закрывает свой журнал, какую-то долю секунды колеблется, не зная, куда его девать, затем встает, кладет его на полочку, и страницы тотчас разворачиваются веером, а он снимает свой плащ и, смяв его толстой рукой, словно тряпку для протирки автомобиля, резким движением швыряет на сетку между своим же свертком в газетной бумаге и твоим чемоданом (роговая пряжка пояса сначала постукивает по металлическому ободу багажной сетки, затем пояс соскальзывает, и она начинает раскачиваться), потом снова берет журнал, раскрывает его и усаживается па место.
Интересно, какую по счету свадьбу и какой именно актрисы запечатлел этот снимок?
Повторный звон колокольчика заставляет тебя обернуться вправо, и несколько секунд ты следишь за белой курткой официанта, а он возвращается к себе в вагон-ресторан, чтобы разлить по чашкам — бледно-голубым, словно изменчивое весеннее небо в каком-нибудь северном городке — невкусный, но дорогой кофе.
Молодая женщина, первой решившаяся последовать приглашению, а затем и ее муж, извинившись, проходят мимо тебя; они краснеют и улыбаются, словно это первая в их жизни поездка, и решительно все, даже самое мелкое происшествие, радует их и восхищает, они наполовину задвигают за собой дверь купе, которая все это время была широко раскрыта, и торопливо уходят в вагон-ресторан.
Человек, сидящий напротив тебя, приподнимает штору на стеклянной перегородке.
Ступай и ты в вагон-ресторан; засунь в карман эту книжку — сейчас она только мешает тебе — и выйди из купе; не потому, что ты всерьез ощущаешь голод, — ведь ты пил кофе совсем недавно — и не в силу привычки — ведь сейчас ты в другом поезде, не в том, которым ездишь всегда, и должен приноровиться к иному распорядку, — а просто потому, что это входит в программу, заранее намеченную тобой: механизм, который ты сам привел в движение, теперь начинает действовать чуть ли не помимо твоей воли.
II
Да, это здесь, это и есть твое купе, вон тот человек с седыми висками, который сидел напротив тебя, — теперь он погружен в изучение толстой книги в черном коленкоровом переплете, а рядом с ним — его безупречно аккуратный, румяный сосед с глазками хищной рыбешки, а вон и священник у окна, который вновь тщетно пытается углубиться в чтение своего требника.
Для тех двоих, для влюбленных, для супругов — ты оставил их четырьмя вагонами дальше, когда, склонившись друг к другу над столиком, они наслаждались неторопливой беседой, — любой пустяк служит поводом для разговора, вызывает новый прилив восторга, а тебя одиночество и уныние вновь пригнали в эту клетушку — твое прибежище в поезде, уносящем тебя вдаль, клетушку, помеченную этой вещью, твоей собственностью — чемоданом, лежащим слева от тебя на багажной сетке.
Но твое любимое место под ним, возле двери купе по ходу поезда, — ты был так доволен, когда обнаружил, что оно свободно, ведь именно это место ты всегда заказываешь через Александра Марналя в вагоне первого класса для своих служебных поездок, а потому, уходя из купе, тебе, конечно, следовало бы его занять, оставив на сиденье книжку, которая сейчас лежит у тебя в пальто, оттопыривая карман, и без того набитый до отказа, тем более что ты так или иначе не стал бы ее читать в вагоне-ресторане, — место твое теперь занято: его захватил пассажир, который последним вошел в купе, тот самый, кого ты с первой минуты невзлюбил за то, что он, так явно щеголяя своею силой, распахнул дверь одним ударом плеча, за дурацкую самоуверенность и вульгарность, и сейчас он по-прежнему, не отрываясь, разглядывает свой иллюстрированный журнал, не выказывая ни малейшей готовности уступить тебе захваченное место; он, несомненно, коммивояжер, только вот чем он торгует — вином, медикаментами или, может быть, бельем? — но уж наверняка не пишущими машинками, потому что в таком случае при нем был бы совсем иной багаж, если только он не сбежал, подобно тебе, от своих будней…
За время твоего отсутствия в купе стало еще жарче, а может быть, это от ходьбы, от горячего кофе, который ты выпил: ты весь вспотел. Твое лицо, оказавшееся как раз на уровне зеркала, покачивается в его рамке от тряски поезда. Сегодня утром ты побрился наскоро и теперь замечаешь у себя около ушей множество черных точек. Влажной ладонью ты ощупываешь подбородок. Кожа на нем шероховатая и жесткая, да и вообще у тебя усталое лицо, тусклый взгляд и горькая складка у рта. Даже после второй чашки кофе ты все еще до конца не стряхнул с себя сон, хотя — как ты убедился, взглянув на часы, — сейчас уже больше девяти утра, а это значит, что в любой другой день недели ты — гроза запаздывающих машинисток — уже сидел бы у себя в конторе на авеню Оперы, да к тому же вчера вечером ты довольно рано лег спать.
Эта поездка должна была принести тебе свободу, молодость, великое очищение тела и души; почему же ты не испытываешь уже сейчас ни воодушевления, ни счастья? Откуда эта сковавшая тебя вялость, чтобы не сказать больше — оцепенение? Может быть, это усталость, накопившаяся за долгие месяцы и годы, когда ты подавлял ее неослабным усилием воли, сейчас мстит тебе и захлестывает тебя, пользуясь твоим бегством, подобно тому, как приливная волна использует малейшую брешь в плотине, чтобы затопить поля, прежде защищенные прочной преградой, и терпкой солью вытравить в них все живое.
Но ведь именно для того, чтобы отвести угрозу, которую ты и так слишком хорошо сознаешь, задумал ты это путешествие; разве поезд не уносит тебя туда, где затянутся первые мелкие трещины, предвестницы старости, разве оп не мчит тебя в Рим, где ждет тебя отдых и живительное обновление?
Отчего же тогда, как струна, натянуты нервы, откуда тревога, нарушающая ток крови в твоем теле? Отчего до сих пор ты не чувствуешь разрядки? Неужели рея причина волнения, растерянности, страха только в том, что поезд следует по иному расписанию и ты выехал из Парижа в восемь утра, а не вечером, как привык? Неужели ты уже стал таким рутинером, рабом привычки? Если так, тем настоятельнее необходима ломка, потому что, прождав еще несколько недель, ты бы все потерял, навсегда остался бы в этом пресном аду и никогда уже не отважился бы вырваться оттуда. Но, слава богу, освобождение близко, и впереди — много чудесных лет.
А сейчас сними пальто, сложи его и закинь на свой чемодан. Правой рукой ты ухватился за сетку; ты вынужден наклонить корпус влево — поза тем более неудобная, что ее нужно сохранять при этой непрекращающейся тряске до тех пор, пока ты не нажмешь большими пальцами на кнопки сверкающих замков (и оба язычка разом отойдут, высвобождая кожаную крышку, и она, словно подталкиваемая мягкой пружиной, плавно поднимется кверху); пока, просунув под крышку руку, ты не нащупаешь вслепую мешочек из плотного нейлона в красную и белую полоску, куда сегодня утром, насухо вытерев полотенцем лицо — перед тем ты пристально разглядывал его в зеркале, в твоей квартире в доме пятнадцать на площади Пантеона, — ты в спешке и раздражении даже не сложил, а побросал как попало еще влажную кисточку для бритья, крем в тюбике из серой пластмассы, пачку новых лезвий, зубную щетку, гребенку, зубную пасту; пока, нащупав этот гладкий нейлоновый мешочек с маленьким колечком от застежки — молнии, ты не прикоснешься к кожаному чехлу с домашними туфлями, к шелковой малиновой пижаме, которую, памятуя о предстоящей встрече с Сесиль, ты тщательно выбирал вчера вечером среди отливающих всеми благородными цветами радуги стопок белья в зеркальном шкафу твоей спальни, в то время как Анриетта была занята последними приготовлениями к ужину и до тебя сквозь разделяющую ваши комнаты стену долетали отзвуки ссоры твоих сыновей, хотя они, право, уже достаточно взрослые, чтобы научиться выносить друг друга; пока, наконец, ты не обнаружишь книжицу, которую искал.
Крышка захлопнулась, мягко подпрыгнув раз-другой, и ты оставил чемодан, даже не потрудившись защелкнуть замки.
Ты опустился на середину сиденья; слева от тебя у окна, открывающего вид на стремительно летящие поля и медленно разворачивающуюся линию горизонта, затянутого туманом, — священник, шепчущий про себя молитвы (сколько же часов у них на это уходит!), справа — склоненный над раскрытым журналом коммивояжер, неторопливо и обстоятельно изучающий репортаж о свадьбе очередной кинозвезды, сидя у стекла, выходящего в коридор, по которому проплывает красное вельветовое пальто, недавно мелькнувшее перед тобой в вагоне-ресторане.
Ты чувствуешь, как проникает тепло сквозь подошвы твоих желтых ботинок; на одном из них порванный шнурок связан узлом, который ты заткнул под язычок, и он, словно раздувшийся прыщ, слегка выпячивает кожу ботинка и к тому же натирает тебе ногу, а между двумя твоими ботинками вклинился третий, черный, блестящий, сверкающий в полумраке, и смотрит в противоположную сторону; из него выглядывает синий носок, прячущийся под краем суконных брюк в мелкую полоску, где чередуются два разных оттенка серого цвета, а поперек полосок пропущена тонкая белая нить, которая вьется беспорядочными кругами, напоминая утренние облака в ветреную погоду.
Черный ботинок, вздрогнув, перемещается вправо, нога, которую он украшает, ложится на колено другой ноги, а ты сдвигаешь ступни и, взяв в руки справочник железных дорог юго-восточной Франции, выпущенный издательством «Шэ», начинаешь разглядывать его квадратную небесно-голубую обложку, и твои руки дрожат той же мелкой дрожью, что и весь вагон на пути из Парижа в Рим.
Справочник «издан 2 октября 1955 года на время зимнего сезона, действителен по 2 июня 1956 года включительно» и пестрит объявлениями: «Отель де ла Пэ», Ницца, открыт круглый год» (ты ни разу там не останавливался), «Нуга фирмы «Шабер и Гийо»; затем крохотными буковками — ты подносишь страницу к глазам, стараясь их разобрать, а это затрудняется тем, что тебе, конечно, не удается удержать книжку в неподвижности, — еще одна надпись: «Золотой улей», она изгибается, словно ручка от корзинки, над рисунком, запечатлевшим улей старинного образца, — круглый низенький домик с соломенной крышей, а четыре точки в разных местах, по всей вероятности, должны изображать пчел (поезд рокочет низким басом, лишь временами сменяющимся скрипучим фальцетом, который напоминает, что это существо, мчащееся по металлическим рельсам, само сделано из металла); и еще объявление: «Вербена из Веле» (ты ни разу не пробовал этой «Вербены», кажется, это зеленоватый приторный напиток, можно хоть сейчас спросить его в вагоне-ресторане, где обычно предлагают ликеры).
Тут ты вспоминаешь: Пюи-ан-Веле — это один из тех бесчисленных городков, где тебе ни разу не доводилось бывать, один из тех провинциальных французских городков, где наверняка можно умереть от скуки, несмотря на все геологические раритеты, дайки (так их, кажется, называют?) и собор, украшенный фресками, городок, где у вас имеется свой представитель, уполномоченный фирмы «Скабелли» по всему Севеннскому округу, хотя жители этих мест явно не испытывают особой нужды в пишущих машинках — это мог бы с уверенностью сказать любой школьник с начальным образованием, по ведь вам надо было охватить всю страну сетью ваших отделений, и потому попятно, что дела у него идут из рук вон плохо, у этого человека, которому не далее как вчера по твоему приказанию отправили письмо, выдержанное в весьма грозном тоне, у человека, которого ты ни разу не видел и чьего имени даже не запомнил, потому что полностью перепоручил этот участок Моландону и тот ежегодно, совершая инспекционную поездку по центральной Франции, наведывается также в Пюи.
Им давно уже пора вернуться в купе, новоиспеченному мужу и его молоденькой жене, ведь они раньше тебя пришли в вагон-ресторан, и когда, войдя, ты увидел их, им уже успели подать завтрак, и они намазывали маслом поджаренные ломтики хлеба. Правда, они едут вдвоем, они вдвоем открывают мир, и все приводит их в восторг; должно быть, они совершают это путешествие впервые в жизни, и им так много надо сказать друг другу, и пет нужды, подобно тебе, нарочно растягивать отдельные эпизоды пути, чтобы хоть как-то заполнить пустоту и умерить скуку, к примеру, стараться медленнее жевать, чтобы только убить несколько лишних минут — ведь любой пустяк отнимет у них время, а оно и так пролетит слишком быстро, ведь их не гнетет предчувствие усталости от долгих часов, которые пройдут, прежде чем вы доедете до места, от долгих столь привычных для тебя часов пути, отделяющих тебя от Сесиль, которые на этот раз тебе придется провести в неудобном вагоне третьего класса, тогда как те же неудобства ничуть не омрачат радости молодоженов, и если они, подобно тебе, едут в Рим, то завтра утром ты увидишь, как они проснутся — измученные, но со счастливой улыбкой.
Новобрачная входит в купе, изящная, приветливая, извиняется сначала перед твоим соседом справа, коммивояжером, захватившим твое место, и тот поднимает голову, оторвавшись от иллюстрированного журнала, лежащего у него на коленях — он водит по нему ручкой, пытаясь решить кроссворд; затем — перед преподавателем, сидящим напротив тебя (да, он, бесспорно, преподаватель), и тот захлопывает свою книгу в коленкоровой черной обложке с приклеенной к корешку грязной бумажной этикеткой овальной формы, где старомодным толстым пером выведен черной тушью шифр, под которым эта книга значится в библиотеке, скорее всего библиотеке какого-нибудь учебного заведения; потом — перед англичанином (он, несомненно, англичанин), вон тем пассажиром с на редкость прямой осанкой, единственным в этом купе, кто покамест не занят чтением; наконец перед тобой, а ты не успеваешь вовремя убрать с дороги ногу, и, споткнувшись, она выбрасывает вперед левую руку, другой прижимая к себе сумку, похожую на корзинку, — плетеную сумку с окантовкой из белой кожи и веревочными ручками, из нее торчат страницы сложенного вдвое дамского журнала и кончик косынки, — и на какой-то миг опирается пальцами о зеленый дерматин рядом с твоим бедром, а ее плащ задевает твои колени. Она оборачивается — ее губы сейчас на уровне твоих глаз — и улыбается своему спутнику, который следует за ней, держась правой рукой за металлический обод багажной сетки напротив тебя. Вновь обретя равновесие, молодая женщина наклоняется снова уже затем, чтобы взять синий путеводитель и итальянский разговорник, которые она оставила на сиденье — знак того, что места заняты, — она протягивает обе книжки своему мужу, и тот укладывает их на полку.
Почувствовав, что в купе стало жарко, молодожены тоже снимают свои плащи.
Сев у окна, она ставит сумку в угол рядом с собой, стиснув ладони коленями и продавив ямку в своей юбке из серого твида. Она снова достает с полки свои книги и располагается с ними на сиденье; молодожены переглядываются, переводят взгляд на тебя, улыбаются, они видели тебя там, в вагоне-ресторане, где юный супруг размешивал сахар в массивной голубой чашке, и этот завтрак, который ты даже не разделил с ними, а лишь наскоро проглотил в том же кафе на колесах, неприметно сблизил вас троих и отделил от четырех других пассажиров, и теперь тебе было бы легко нагнуться к супругам и завязать разговор, но ты совсем к этому не расположен, и новобрачному надоедает ждать, он отводит глаза, принимает солидный вид и, раскрыв путеводитель, разворачивает план какого-то города, а его жена достает из сумки дамский журнал и начинает листать страницы с новыми модами. Убрав руку с окна, священник опять погружается в чтение требника, устало шепча слова молитвы. За окном видны коровы, пасущиеся на полях. Ты снова углубляешься в изучение справочника.
Вот напечатанные убористым шрифтом параграфы железнодорожных правил, узенькие колонки с перечнем станций, столбцы международных линий, и вот, наконец, та самая, что тебя интересует: «Е. Италия», и ты быстро отыскиваешь в ней поезд, в котором сейчас сидишь: «скорый, номер 609, с вагонами 1-го, 2-го и 3-го классов» (говорят, с будущего года третий класс отменят); черный ромбик над строчкой отсылает тебя к сноске, содержащей дополнительные сведения о твоем поезде: ты узнаешь, что в этом составе имеются вагоны прямого сообщения не только «Париж — Рим», но и «Париж — Сиракузы», и спрашиваешь себя, не в один ли из этих вагонов ты сел и не в Сиракузы ли держат путь эти влюбленные, эти молодожены, и хотя ты знаешь этот город только понаслышке, да еще по рекламным фотографиям, он представляется тебе вполне подходящим для медового месяца, особенно в эту пору, когда даже в Риме может оказаться плохая погода.
Поезд проезжает станцию Сен-Жюльен-дю-Со с ее фонарями и таблицами на фонарных столбах — название станции крупными буквами выведено на боковой стенке вокзала; минует колокольню, дороги, поля, леса. Молодожены обсуждают какую-то деталь маршрута, и муж отыскивает ее на карте. За окнами коридора мелькают огороженные заказники, тянутся холмы, а впереди бежит дорога, по которой едет грузовик — он то сворачивает с нее, то снова оказывается тут как тут, потом вдруг скрывается за каким-нибудь домом, а за ним мчится мотоциклист, который вскоре обгоняет машину, описав вокруг нее изящную ДУГУ? вытянутую, как лук с отпущенной тетивой; грузовик отстает от мотоцикла, затем от поезда и исчезает из поля зрения.
Этот поезд, выехавший из Парижа с Лионского вокзала, как всегда, в восемь часов десять минут и имеющий в своем составе вагон-ресторан (о чем свидетельствует знак: скрещенные вилочка и нож), — ты, по примеру молодоженов, недавно побывал в нем и снова посетишь его в час обеда, но не в час ужина, потому что к тому времени вагон — ресторан уже будет другой, итальянский, — этот поезд сделает остановку в Дижоне, чтобы снова отправиться в путь в одиннадцать часов восемнадцать минут; в тринадцать часов две минуты он минует Бур, в четырнадцать часов сорок одну минуту проедет Экс-ле-Бен (наверно, горы вокруг озера будут покрыты снегом), на двадцать три минуты задержится в Шамбери, чтобы пассажиры другого поезда успели сделать пересадку, а на границе для исполнения всех формальностей будет стоять с шестнадцати двадцати восьми до семнадцати часов восемнадцати минут (маленький домик, нарисованный после слова «Модан», обозначает таможню), в девятнадцать часов двадцать шесть минут он прибудет в Турин на площадь Национале (к тому времени совсем уже стемнеет) и отправится оттуда в двадцать часов пять минут; отойдет от станции Площадь Принчипе в Генуе в двадцать два тридцать девять, в час пятнадцать будет в Пизе и, наконец, завтра утром в пять часов сорок пять минут, задолго до рассвета, прибудет в Рим на вокзал Термини, — этот поезд, в котором почти все для тебя непривычно, потому что ты всегда ездишь другим (сведения о нем приведены здесь же, в соседней графе), экспрессом «Париж — Рим» номер семь, со спальными вагонами, в нем есть только первый и второй класс, и идет он несравненно быстрее этого, покрывая все расстояние за восемнадцать часов сорок минут, тогда как вот этот — сейчас посмотрим — проделывает тот же путь за двадцать один час тридцать пять минут, иными словами — сейчас подсчитаем, — идет на два часа пятьдесят минут дольше экспресса, да и расписание того куда удобнее: он отправляется из Парижа в час ужина, а прибывает в пункт назначения на другой день вскоре после полудня.
Чтобы получить более полные сведения о поезде, в котором ты едешь (расписание того, другого экспресса «Париж — Рим», которым ты обычно путешествуешь, тебе знакомо во всех деталях, и когда ты сидишь в одном из его вагонов, тебе совсем не нужна эта квадратная книжечка, ведь несмотря на всю твою многоопытность, ты разбираешься в ней с трудом), тебе следовало бы изучить таблицу номер 500, где гораздо подробнее описана эта трасса и перечислены все станции — даже те, мимо которых поезд проскакивает без остановки; затем, после Макона, когда поезд сворачивает с магистрали Париж — Марсель, тебе следует обратиться к таблйце номер 530, а начиная с Модана уже нужен итальянский справочник, потому что здесь сведения о конечном отрезке пути есть только на одной страничке и перечислены лишь основные пункты: Турин, Генуя, Пиза, тогда как наверняка есть и другие остановки, по всей вероятности, в Ливорно, а может быть, и в Чивита-Веккия.
Будет еще совсем темно. Ты с трудом очнешься от сна, много раз прерывавшегося, — особенно если тебе придется остаться на этом неудобном месте посредине сиденья, хотя есть основания надеяться, что тебе удастся завладеть одним из углов, как только сойдет кто-нибудь из твоих спутников, ведь не может быть, что все едут туда же, куда и ты.
Кто же из этих шести будет еще к тому времени в купе, освещенном, по всей вероятности, одним голубым ночником, тем самым круглым, темным глазком, который ты различаешь внутри плафона, где он примостился между двумя прозрачными грушевидными лампочками? Огни в деревенских домах будут погашены. Ты увидишь, как промелькнут фары двух-трех грузовиков, вокзальные фонари, и ощутишь утренний озноб; ты проведешь ладонью по подбородку, куда более колючему, чем теперь, встанешь, выйдешь из купе и проследуешь в конец коридора, чтобы умыться.
Затем, после нефтеперегонного завода с его факелом и лампочками, расцвечивающими алюминиевые вышки, точно рождественскую елку, пока поезд будет огибать город, еще объятый потемками и сном, но уже огласившийся перезвоном трамваев и шумом троллейбусов, перед тобой проплывут пригородные станции: Рим-Трастевере (и ты увидишь скупые отсветы в черной воде реки), Рим-Остьенсе (ты угадаешь во тьме очертания городской стены и светлый пик пирамиды) и Рим-Тусколана (и отсюда, от Порта-Маджоре, поезд устремится прямо к центру).
Наконец вплотную придвинется Термини, прозрачный вокзал — он так хорош на восходе солнца, и как раз на восходе к нему и подъезжает этот поезд в другое время года, но завтра в такой ранний час будет еще совсем темно.
За окном коридора возникла ферма, окруженная желтыми тополями, потом извилистая дорога, то исчезающая в ложбинке, то вновь проглядывающая из-за частых полосок распаханных борозд, вздыбившихся комьями земли и усеянных вороньем; по дороге едет, приближаясь к полотну, мотоциклист в шлеме и кожаной куртке и скрывается между откосами под мостом, на который — ты успеваешь это заметить — как раз въезжает паровоз, тянущий твой поезд, и несколько первых вагонов. Через окно, у которого сидят молодая женщина и священник, ты пытаешься вновь увидеть мотоциклиста, но он, вероятно, давно уже отстал.
Произведения
Критика