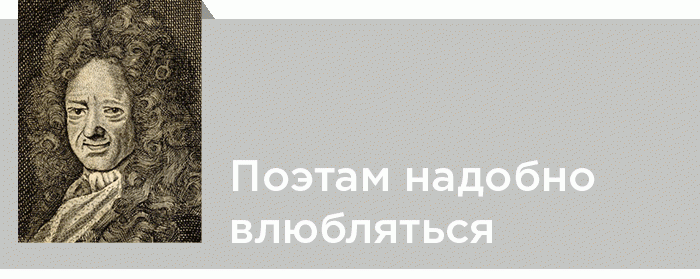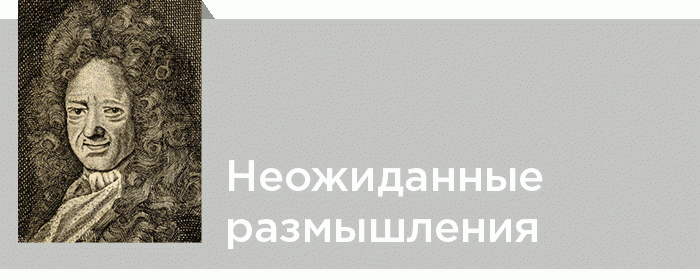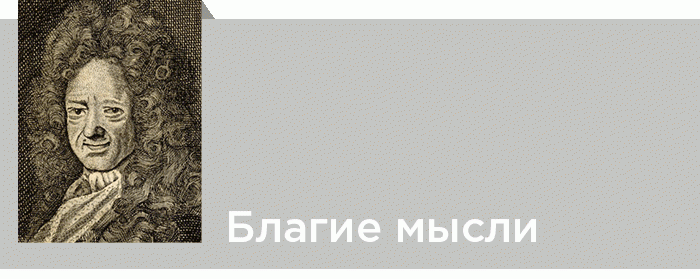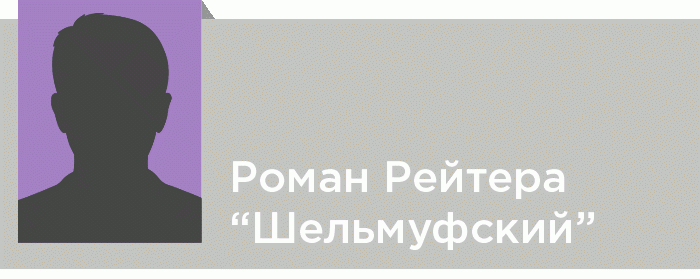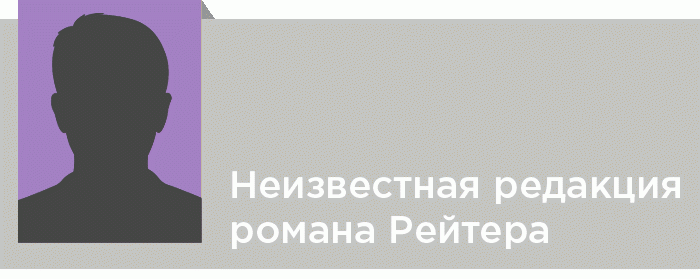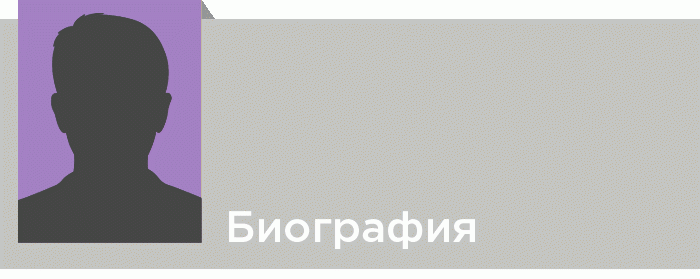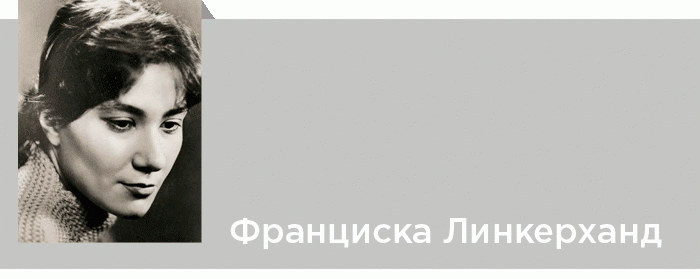Христиан Рейтер. Шельмуфский
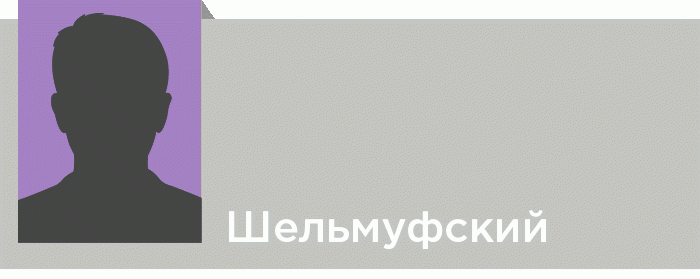
(Отрывок)
Первая часть и притом самое совершенное и самое точное издание, собственноручно и весьма искусно выпущенное в свет на родном верхненемецком языке Е. Ш.
Отпечатано в Шельмероде, в году 1696
ВЫСОКОРОДНОМУ ВЕЛИКОМУ МОГОЛУ (СТАРШЕМУ)
всемирно прославленному королю, а верней, императору Индии в Агре и прочая и прочая
Некогда весьма дружественно расположенному ко мне государю в период моих преопасных странствований
Высокородный государь и пр.!
Я был бы, черт подери, поистине неблагодарным малым, если б не помышлял о том, как я могу отплатить за оказанное мне Вашим Высокородным Величеством благодеяние, коим я наслаждался в продолжение целых четырнадцати дней; и я бы давно это исполнил, если б только ведал, как я мог бы доставить удовольствие Вашему Высокородному Величеству. Сначала было намеревался я отправить Вашей Милости и Вашей Возлюбленной Супруге бочоночек доброго густого пива из наших краев, но побоялся, что в дальней дороге оно потеряет вкус и скиснет и Вы тогда не сможете его вылакать, потому я и не довел эту затею до конца.
Но после того, как я вытащил из-под лавки описание своих истинных, любопытных и преопасных странствований на воде и на суше и выпустил его в свет, я вознамерился послать Вам один экземпляр, переплетенный в свиную кожу, особливо зная, что Ваша Милость и Высокородное Величество являются необычайным любителем любопытных книг и всяких новинок, а ведь я обещал прислать из Германии в Индию такую книгу в благодарность за деньги и добрые слова.
Не прошу я, черт меня подери, за нее ни гроша, хотя она и содержит кое-что любопытное, а только желаю, чтобы Ваше Высокородное Величество убедилось в том, как я благодарен, и надеюсь, что она Вашему Величеству понравится. Много хвалиться ею я не буду, Вы увидите, черт меня подери, что «дело мастера боится», и если вы ее прочтете, то я прошу, чтобы Ваша Милость и Высокородное Величество рекомендовали ее прочесть также и Вашей Возлюбленной Супруге, дабы и она убедилась, каким молодцом я был и как, в конце концов, мне не повезло в Испанском море. Напоследок пусть Ваша Милость поминает меня добром и живет в благоденствии, а я остаюсь
усерднейшим и всегда готовым
к странствиям слугой
Вашего Высокородного Величества,
а также
и супруги Вашей,
Шельмуфским
К любознательному читателю
Я, черт меня побери, настоящий лодырь, если так долго держал заброшенным под лавкой правдивое и любопытное описание своих преопасных странствований, составленное мной уже немало времени тому назад, а не вытащил его оттуда давно! А почему? Иной, черт возьми, едва услышит одно название какого-нибудь города или страны, как тотчас же садится и кропает об этом сочинение на десять томов, и, когда прочтешь такую чепуху (особливо если кто так молодецки странствовал, как я), сразу видишь, что он никогда и носу за дверь не высовывал, не говоря уже о том, чтобы испытать на чужбине, как я, препакостные бури. Пожалуй, могу признаться, что если бы я, проведя столько лет в Швеции, столько в Голландии, да еще столько в Англии, и к тому же целых четырнадцать дней в Индии, а окромя того, пошатавшись почти по всему белому свету, так много перевидавший, испытавший и претерпевший, рассказал обо всем, то у людей от этого увяли бы уши. Я никогда не хвастал и не бахвалился своими странствованиями, разве что рассказывал о них подчас только добрым друзьям за кружкой пива.
Дабы, однако, весь мир услыхал и узнал, что я не всегда сидел за печкой и таскал у госпожи моей матушки из духовки печеные яблоки, намерен и я также выпустить в свет такое описание моих порой преопасных странствований и рыцарских деяний на воде и на суше – а равно и моего плена в Сен-Мало, – какое еще никогда не печаталось, и тем, кто со временем захочет поглядеть на чужие страны, оно пойдет на великую пользу. Но коли я узнаю, что кто-то не поверит тому, что я написал с таким трудом и усердием, мне, черт меня побери, будет очень жаль, что я потратил немало перьев. Я надеюсь, однако, что любознательный читатель не будет недоверчив и не сочтет это описание моих преопасных странствований за враки и пустое хвастовство, ибо, провалиться мне на этом месте, если все здесь – не чистая правда и если я, черт возьми, выдумал хотя бы одно словечко!
А впрочем, мне было бы приятно услышать, чтобы кто-нибудь сказал: такого описания странствий я не читал никогда в жизни. Случись это, я заверяю каждого, что со временем я не только вытащу из-под лавки и вторую часть правдивого и любопытного описания моих преопасных странствований на воде и на суше, по восточным странам и городам, а также по Италии и Польше, но и навеки останусь
слугой любознательного читателя,
всегда готовым к странствиям
Шельмуфским.
Глава первая
Германия – мое отечество, в Шельмероде я родился, в Сен-Мало провел целых полгода в плену, да и в Голландии и Англии я тоже побывал Дабы, однако, изложить мои опаснейшие путешествия в надлежащем порядке, мне придется, пожалуй, начать рассказ с моего необычайного рождения. После того, как госпоже моей матушке не удалось пришибить метлой огромную крысу, которая изгрызла ее новое платье (ибо она прошмыгнула между ног моей сестры и внезапно скрылась в щели), почтенная женщина в гневе лишилась чувств и так захворала, что пролежала целых двадцать четыре дня и не могла, черт меня побери, ни пошевельнуться, ни повернуться. Я же, в ту пору еще ни разу не видевший мира божьего и, согласно правилам «Арифметики» Ризена, обязанный спокойно пребывать в укромном месте еще целых четыре месяца, так взбесился из-за этой чертовой крысы, что в нетерпении не мог больше скрываться и, заметив дыру, не заделанную плотником, выскочил что было духу на четвереньках на свет. Появившись, я пролежал добрых восемь дней в ногах госпожи моей матушки на соломенном тюфяке, пока, наконец, хорошенько не разобрался, куда я попал. На девятый день взглянул я с превеликим удивлением на мир и – пропади ты пропадом! – каким скверным показался он мне! Был я очень хил, ничего не имел на теле; госпожа моя матушка, казалось, протянула ноги, будто ее по башке треснули. Реветь мне не хотелось, ведь был я совсем голый, словно молодой поросенок, и не желал, чтобы кто-нибудь застал меня в подобном виде. Вот гак и лежал я, не ведая, за что взяться. Я было решил опять забраться в укромное место, да не смог, черт возьми, отыскать ту дорогу, по которой вышел. Наконец, подумал я, ты должен приободрить госпожу свою матушку и начал это делать всяческими способами: то хватал ее за нос, то давал щелчки или вырывал несколько волосков, то ударял ее по титьке. Однако она не просыпалась. В конце концов я взял соломинку и пощекотал в ее левой ноздре, отчего она быстро вскочила и завопила: «Крыса! Крыса!» Услыхав слово «крыса», я, черт подери, почувствовал себя так, словно кто-то провел мне бритвой под языком, и тотчас же начал ужасно вопить: «Ой, ой, ой!» Но если госпожа моя матушка и до этого кричала «крыса! крыса!», то теперь она орала наверно сотню раз подряд: «крыса! крыса!», – полагая, что именно крыса угнездилась у ее ног. Я же приподнялся, взобрался весьма ловко наверх к госпоже моей матушке, взглянул на нее из-под одеяла и молвил: «Только не пугайтесь, госпожа матушка, я не крыса, а ваш милый сын; а вот в том, что я так рано появился на свет, доподлинно виновата крыса». Ей-ей! Как обрадовалась госпожа моя матушка, что я появился на свет так неожиданно, а она об этом совершенно ничего не знала. И сколько раз она меня и обнимала, и поцелуями вылизывала, этого, черт подери, я не могу вам и передать!
Понянчив меня таким образом немало времени, она встала, надела на меня белую рубашку и созвала всех постояльцев нашего дома, которые диву давались и не знали, что обо мне подумать, потому что я уже мог так мило болтать. Господин Герге, тогдашний духовный наставник моей матери, решил, что я одержим злым духом, иначе не могло бы это со мной приключиться, и он пожелал тотчас же изгнать из меня беса. Он поспешил наверх в свою ученую каморку и приволок под мышкой огромную книгу, каковой и намеревался изгнать из меня злого духа. Мелом он начертил в комнате большой круг, написал в нем кучу тарабарщины, начертил кресты спереди и сзади, вступил в круг и произнес следующее:
Фокус-покус черно-белый,
Ты оставь младенца тело.
Я герр Герге. Мой приказ:
Шури-мури, скройся с глаз!
Когда господин Герге закончил, я обратился к нему и сказал: «Мой любезный господин наставник, зачем Вы занимаетесь такими фокусами и полагаете, что я одержим злым духом? Если бы Вы знали причину, отчего я сразу заговорил и так преждевременно появился на свет, Вы не затевали бы этих дурацких церемоний с Вашими фокусами-покусами». Ну, и проклятие! Как удивились все в доме, услыхав, что я говорю. Господин Герге, черт подери, стоял в своем кругу, трясся и дрожал, и по запаху все присутствующие могли догадаться, что он находился отнюдь не в саду с розами. Я же не мог дольше созерцать его жалкий вид и начал рассказывать о своем необычайном рождении и о том, что единственной причиной его была та крыса, что изгрызла шелковое платье и благодаря которой я так преждевременно появился на свет и сразу начал говорить. После, когда я очень подробно рассказал всем соседям историю с крысой, они твердо убедились в том, что я сын госпожи своей матушки. Господина же Герге, как нашкодившую собаку, охватил стыд за то, что он затеял такие дурацкие штуки, полагая, будто во мне говорит злой дух. Он вышел из своего «фокуснического» круга, стер его, взял книгу и молча направился к выходу в своих мокрых и вонючих штанах. И как же потом все начали лобызать меня и ласкать, и забавлять, ибо я был очень красивый мальчуган и умел болтать со всеми соседями – этого, черт возьми, и описать невозможно! Да что там, еще в тот же день при большом скоплении народа единодушно нарекли меня превосходным именем – Шельмуфский.
На десятый день после моего необычайного рождения я постепенно научился ходить, держась за лавки, правда, медленно, потому что был страшно слаб: ведь я еще ничего на свете не жрал и не лакал, титька госпожи моей матушки мне была противна, а к прочей пище я еще не привык. Так что околел бы я от голода и жажды, если б не судьба. А что же случилось? Госпожа моя матушка поставила в этот день на печную лежанку полный чан с козьим молоком, на который я случайно напал и, окунув туда палец, попробовал молоко. И так как эта штука пришлась мне по вкусу, я схватил чан обеими руками и наполовину выдул его, черт возьми, после чего я совсем ожил и набрался сил. Когда госпожа моя матушка увидела, что козье молоко пошло мне на пользу, она купила вторую козу, ибо одна уже у нее была. Таким образом я и питался до двенадцати лет. Могу вас заверить, я так растолстел от козьего молока, что когда мне минуло двенадцать, жир на моей спине был, черт побери, толщиной с локоть!
На тринадцатом году я научился тихонько обгладывать всякую мелкую жареную птицу и молодых шпигованных курочек, которые, в конце концов, также весьма пошли мне на пользу. И так как я теперь немножко подрос, госпожа моя матушка послала меня в школу, намереваясь сделать из меня парня, который со временем перещеголял бы ученостью всех людей. Да, возможно, что-нибудь, в конце концов, и получилось бы из меня в ту пору, если б только я имел охоту чему-нибудь выучиться. Но я вышел из школы таким же умником, каким и вошел. Самой большой моей утехой было духовое ружье, привезенное мне госпожой моей бабушкой с ярмарки на Эзельсвизе. Едва прибежав из школы, я забрасывал свои книжонки под лавку, брал духовое ружье, забирался с ним на чердак и стрелял или по головам прохожих, или по воробьям, или расшибал у соседей вдребезги их красивые зеркальные окна, и когда они, бывало, зазвенят, я от всего сердца смеялся. Подобным образом проводил я день за днем и так навострился стрелять из духового ружья, что мог «выдохнуть» душу из воробья на расстоянии трехсот шагов. Воронье я держал в таком страхе, что при одном звуке моего имени они уже знали, что их час пробил. Когда, наконец, госпожа моя матушка увидела, что ученье в меня не лезет и ей приходится зря платить деньги, она забрала меня из школы и отдала одному благородному купцу: я должен был стать знаменитым коммерсантом и, пожалуй, стал бы им, если б только у меня была б к этому охота. Ибо вместо того, чтобы научиться, как с прибылью продать локоть ткани, узнавать цену товаров, у меня постоянно на уме были только новые плутовские проделки. Когда мой патрон куда-нибудь посылал меня с тем, чтобы я быстро вернулся назад, я перво-наперво брал с собой свое духовое ружье, отправлялся по одной улице вверх, затем по другой – вниз, высматривал, где сидят воробьи, а где есть хорошие большие стекла в окнах, и, если из них никто не выглядывал, разбивал их, а затем удирал. Возвращаясь к своему хозяину с задержкой на пару часов, я всегда мог преподнести ему такое ловкое вранье, что за все время службы он ни разу мне и слова не сказал. В конце концов я, однако, дал промашку и у него, и купец едва не переломил духовое ружье о мою спину, но я вовремя учуял, чем дело пахнет, удрал со своим ружьем, однако пришлось к нему вернуться, и тогда он отослал меня к госпоже моей матушке и дал ей знать, сколько неприятностей натворил я ему своим духовым ружьем и о том, что я совсем не гожусь для торговли. Госпожа моя матушка ответила купцу, что-де ладно, она не собирается вновь отправлять меня к нему, и коли уж я удрал от него и нахожусь опять у нее, может быть у меня появится охота к чему-нибудь лучшему. Такой ответ госпожи моей матушки лил воду на мою мельницу, и если я и раньше не церемонился ни с оконными стеклами, ни с прохожими на улицах, то, почувствовав вновь волю, я стал измываться над ними вдвойне. Наконец, когда госпожа моя матушка увидела, что на меня все время жалуются, а некоторым людям ей пришлось вставить окна, она обратилась ко мне с такими словами: «Милый сын мой Шельмуфский, уж очень медленно набираешься ты ума-разума, а ведь ростом ты больно велик; скажи, к чему же тебя приспособить, ибо у тебя нет охоты ни к чему и изо дня в день ты лодырничаешь, только врагов своим ружьем наживаешь мне в лице всех соседей и ввергаешь меня в неприятности».
На это я ответил госпоже моей матушке: «Знаете что, моя матушка? Я хочу уйти, хочу повидать чужие страны и города, может быть, благодаря моим странствиям я стану настолько знаменитым парнем, что по возвращении каждый должен будет держать свою шляпу под мышкой, если пожелает со мной заговорить». Госпоже моей матушке предложение мое понравилось, и она сказала, что если бы мне это удалось, то, пожалуй, мне надо поглядеть на белый свет и она готова дать мне деньжонок на дорогу, чтобы я хоть малость имел на пропитание. Затем я стал собираться, подобрал все, что хотел взять с собой, завернул это в тиковый носовой платок, засунул его в карман и приготовился к отъезду. Я охотно захватил бы и свое духовое ружье, но я не знал, как с ним быть и опасался, что в пути у меня его могут украсть или отнять. Поэтому я оставил его дома, спрятал на чердаке за трубой и двадцати четырех лет от роду начал свое преопасное странствие.
О том, что я увидел, услышал и претерпел на чужбине на воде и на суше, об этом вы с величайшим удивлением узнаете в последующих главах.
Глава вторая
Кукушка прокуковала в первый раз в этом году, когда я простился с госпожой моей матушкой, обнял ее, трижды поцеловал на прощанье в каждую щеку и направился затем к городским воротам. И каким, будь я проклят, большим показался мне мир за ними! Я не знал, черт меня побери, куда мне податься – к закату ли солнца или на запад… Наверно, раз десять тянуло меня вернуться и остаться у госпожи моей матушки, если б только я не дал страшную клятву возвратиться к ней не раньше, чем стану молодцом. Но, в конце концов, и это меня не остановило бы – потому что ведь и прежде случалось мне давать клятвы и не сдерживать их, и я непременно вернулся бы к госпоже моей матушке, если бы вдруг какой-то граф не подъехал ко мне напрямик через поле в санях с бубенчиками и не спросил меня, о чем я задумался. Я ответил, что намерен поглядеть на белый свет, а он мне кажется таким большим, что и не знаю, куда же мне направиться. На это граф сказал: «Мосье, вижу по вашим глазам, что вы человек порядочный и, если вы хотите поглядеть на белый свет, то садитесь в мои сани, так как я разъезжаю по свету с той же целью – хочу посмотреть, что в нем делается». Едва граф закончил, я мигом вскочил в его сани, засунул правую руку за пояс штанов спереди, а левую – в правый карман, чтобы не замерзнуть, ибо ветер был очень холодный, а вода в ту ночь покрылась льдом, толщиной в добрый локоть. Хорошо еще, что ветер дул нам в спину и не так сильно пробирал меня, потому что господин граф, сидевший сзади и правивший санями, тоже немного задерживал его; и так мы ехали по белу свету все дальше на юг. По пути мы рассказывали друг другу о своем происхождении. Господин граф начал первым и сообщил мне о своем графском званье и о том, что он происходит из очень древнего рода, насчитывающего тридцать два предка; он рассказал также, в какой деревне похоронена его бабушка, но я теперь это уже позабыл. Затем он начал болтать о том, как еще мальчишкой, в шестнадцать лет, он больше всего любил расставлять силки для птиц и как-то поймал в один силок зараз тридцать одну синицу, которых он велел зажарить в масле и съел, и они пришлись ему по вкусу. После того, как он поведал мне всю свою жизнь с начала до конца и я начал выкладывать ему историю о своем необычайном рождении и о крысе, изгрызшей совсем новое шелковое платье госпожи моей матушки, и о том, как она, прошмыгнув между ног моей сестры, неожиданно скрылась в щели, хотя и должна была быть прибита. Рассказал я также и о своем духовом ружье, из которого так метко стрелял. Когда я ему все это рассказал, господин граф – будь я проклят! – разинул рот и заметил, что из меня еще выйдет порядочный человек. Вскоре после беседы мы подъехали к харчевне, расположенной у дороги, прямо в чистом поле. Здесь мы сделали остановку, чтобы немного согреться. Едва мы, вошли в комнату, господин граф приказал хозяину харчевни наполнить водкой большую стопу, вмещающую в этих краях от 18 до 20 мер. и предложил мне выпить с ним на брудершафт. Я и не представлял себе, что господин граф одним разом выдует такую стопу. Однако, черт меня побери, он все-таки выдул ее одним духом, не утерев бороды, и даже хозяин страшно удивился этому. Затем он приказал вновь наполнить стопу и обратился ко мне: «Ну-с, allons, брат Шельмуфский! Сукин сын тот, кто не выпьет и за мое здоровье!» Сто тысяч чертей! Меня заело, что господин граф так легко бросается подобными словами, и я тотчас же сказал: «Идет, брат, выпью и я за твое здоровье!» Услышав мой ответ, хозяин с насмешкой улыбнулся графу и заметил, что мне с этим не справиться, потому что господин граф полный, солидный мужчина, а я против него – козявка, и вряд ли даже эта стопа водки уместится в моем брюхе. Но я взял стопу и выдул ее, черт возьми, залпом. Будь я проклят! Как вылупил хозяин глаза и прошептал графу, что я настоящий молодец! Граф похлопал меня по плечу и молвил: «Брат, прости меня, что я заставил тебя пить, впредь этого не будет. Я уже вижу, что ты за мастак и, пожалуй, вряд ли еще такого сыщешь на свете». На это я ответил господину брату моему графу очень вежливо, что я, действительно, молодец и из меня еще получится кое-что путное, если я только больше повидаю свет; и коли он хочет остаться моим братом и другом, пусть он в дальнейшем избавит меня от подобных штучек. Будь я проклят! Надо было видеть, как граф унижался передо мной и на коленях просил прощения и заверял, что в будущем он не допустит таких выходок. Затем мы расплатились с хозяином, вновь сели в свои сани и отправились по свету дальше. В конце октября, к вечеру, мы добрались до прославленного города Гамбурга и остановились на Конном рынке у большого дома, где проживало много дворян и дам. Едва мы сошли с саней, к нам спустились с лестницы два знатных итальянских господина: один из них держал в руке медный подсвечник с горящей восковой свечой, а другой – большую глиняную лампу, полную оливкового масла. Они приветствовали нас и выразили радость по поводу моего, а также брата моего, господина графа, здоровья. После этих учтивых любезностей дворянин со свечой взял меня под руку, а второй – с лампой – ухватил господина графа за рукав, и они повели нас вверх по лестнице, чтобы мы не упали, так как наверху ее было выбито шесть ступеней. Когда мы поднялись, перед нами предстал великолепный зал, украшенный прекраснейшими шпалерами и драгоценными каменьями, а вокруг все сверкало и сияло от золота и серебра. В этом зале находились два благородных бюргера из Голландии и два португальских посла, которые тотчас же устремились ко мне и господину графу навстречу и также приветствовали нас и выразили радость по поводу нашего доброго здоровья и нашего счастливого прибытия. Я им ответствовал сразу же весьма учтиво и сказал, что если они себя еще чувствуют бодрыми и здоровыми, то это очень приятно и мне и господину графу. После этого обмена любезностями появился хозяин в шубе из зеленого бархата с большой связкой ключей в руках, также приветствовал нас и спросил, не угодно ли мне и господину графу подняться с ним еще на одну лестницу выше, где он указал бы нам нашу комнату. Я и брат мой граф попрощались с весьма учтивой миной со всей компанией и последовали за хозяином, который должен был повести нас в комнату, где нам будут предоставлены все удобства.
Как только мы поднялись с ним еще на одну лестницу выше, он отомкнул превосходную горницу, где стояла чрезвычайно изящная кровать и все было отменно разубрано. Он предложил нам здесь расположиться, а если нам что-нибудь потребуется, то нужно будет только свистнуть из окна и слуга будет тотчас же к нашим услугам; затем он покинул нас. Едва хозяин удалился, я тотчас же снял обувь и чулки, свистнул слуге, чтобы он мне принес таз свежей воды вымыть лапы, ибо воняли они отвратительно. У брата же моего господина графа порвались в промежности его черные бархатные штаны и, решив их заштопать сам, он свистнул молодой служанке, чтобы она принесла ему иголку с белой ниткой. Так мы оба и сидели: я мыл свои вонючие ноги, а брат мой граф весьма искусно чинил свои порванные бархатные штаны. После того, как мы малость привели себя в порядок, вновь появился хозяин в шубе из зеленого бархата и пригласил нас к ужину. Я и брат мой граф сразу же последовали за ним; он повел нас вниз по лестнице, через прекрасный зал, и мы оказались в большой комнате, в которой огромный стол был установлен превосходнейшими яствами. Хозяин просил нас немного обождать – прочие господа и дамы сейчас соберутся и составят нам компанию. Не успел он закончить своей речи, как в столовой появились те два итальянских дворянина, недавно осыпавшие нас любезностями, а также два почтенных бюргера из Голландии и два португальских посла, и каждый из них тащил за руку благородную даму. Будь я проклят! Какие реверансы все они начали разом делать перед нами, завидев нас с братом моим господином графом, особенно бабье, – они глазели на нас, черт меня подери, с истинным изумлением. Когда все общество собралось для совместной трапезы, меня и брата моего господина графа уговорили занять места в верхней части стола, что мы, не долго раздумывая, и сделали. Я сел на самом почетном месте, возле меня слева – брат мой господин граф, справа – все благородные дамы. За ужином обсуждались всякие государственные вопросы, а мы с братом моим графом помалкивали и интересовались содержимым мисок, потому что уже три дня ни один из нас не имел во рту и маковой росинки. После того, как мы оба набили брюхо, начал и я рассказывать о моем необычайном рождении и о том, что случилось с крысой, которую собирались пришибить, ибо она изгрызла шелковое платье. Ну и ну! Надо было видеть, как все они разинули рты и навострили уши, слушая такие вещи, и как глазели они на меня с величайшим удивлением! Благородные дамы тотчас же принялись пить за мое здоровье, к ним присоединилось все общество, и то одна дама, принимаясь выпивать, восклицала: «Да здравствует благородный господин фон Шельмуфский!», то другая – «Да здравствует благородный дворянин, скрывающий под именем Шельмуфского свое высокое происхождение!» Я отвечал с весьма любезным видом каждой бабенке, крепко выпивавшей за мое здоровье. Из-за этой истории с крысой одна из благородных дам, сидевшая рядом со мной справа, влюбилась в меня по уши. Наверно сотню раз пожимала она мне руки – так я ей понравился – и все время подталкивала своими коленями мои колени, потому что так сильно влюбилась в меня. Да это было и неудивительно – ведь я так учтиво сидел возле нее, а все вокруг, черт подери, помирали со смеху. После моего рассказа брат мой господин граф начал разглагольствовать о своем происхождении, о своих тридцати двух предках и, конечно, о том, в какой деревне похоронена его бабушка и как он мальчишкой в шестнадцать лет поймал в силки тридцать одну синицу зараз и о прочей чепухе. Но он выкладывал это все на удивление без разбору, перескакивал с пятое на десятое и к тому же оратором был плохим, ибо сильно заикался. Едва граф заметил, что его никто не слушает, он замолк в середине рассказа и приналег на еду. Но когда беседу начал я, – будь я проклят! – как они все притихли, словно мышки, – ведь я умел так приятно выражаться и излагал все это с таким любезным выражением лица, что они, черт меня побери, слушали с большой охотой.
Хозяин, убедившись, что никто уже не ест и миски достаточно вылизаны, распорядился все убрать. После этого я и брат мой господин граф весьма любезно попрощались со всем обществом и поднялись из-за стола; заметив это, все разом также начали вставать. Я и брат мой господин граф, не мешкая, пошли к выходу из столовой и живо направились в нашу комнату. Однако все общество проводило нас через прекрасный зал до нашей лестницы, по которой мы должны были подняться; затем они пожелали нам спокойной ночи и приятного отдыха. Я вновь любезно поблагодарил их и сказал, что я, конечно, воспитанный молодой человек, но немного устал, как, впрочем, и господин граф, и что уже несколько недель, как мы забыли, что такое постель; поэтому мы славно заснем, чего и им желаем. После этого весьма учтивого ответа все разошлись по своим комнатам, а я и брат мой господин граф тотчас взобрались по лестнице в свою комнату. Войдя, я свистнул слуге и приказал принести нам свечу, что он и сделал, незамедлительно удалившись затем восвояси. После этого я и брат мой господин граф разделись донага и начали разглядывать, что творится в наших рубахах.
О проклятие! В какую живность превратился в них наш пот! Понадобилось, черт возьми, больше трех часов, чтобы всю ее прикончить. Но у меня дело обстояло еще не так худо, как у господина графа, его одолело, черт меня побери, в двадцать тысяч раз больше тварей, чем меня, и я, освежив свою рубаху, еще вынужден был с добрый час помогать ему давить это воронье, пока оно все не сгинуло. Закончив эту необходимую работу, мы улеглись в прекрасную кровать, стоявшую в комнате, и едва брат мой господин граф плюхнулся на нее, как сразу же так захрапел, что я не мог сомкнуть глаз, хотя и очень устал и меня тоже клонило ко сну. Пока я так с минуту лежал и прислушивался, кто-то очень тихо постучал в нашу дверь. Я спросил: «Кто там?», – но никто не отвечал; постучали еще раз, я опять спросил «Кто там?» – но вновь никто не ответил. Я поднялся, спрыгнул голышом с кровати, открыл дверь и увидел, кто это стучал: снаружи стояла бабенка, держа в руке письмецо. Она пожелала мне в темноте доброго вечера и спросила, здесь ли проживает благородный господин иностранец, который сегодня вечером за столом рассказывал историю о крысе. Узнав, что перед ней я сам, собственной персоной, она продолжала: «Вот вам письмецо, а я должна принести ответ». Я взял у нее послание, велел ей немного подождать у двери, быстро натянул свою рубаху и штаны, свистнул слуге, чтобы он мне зажег свет. Он тотчас же это исполнил и взбежал по лестнице с большим фонарем. Я вскрыл письмо и увидел, что там написано. Оно гласило:
Прелестный юноша!
Если Вам будет угодно взглянуть сегодня вечером на мою комнату, то дайте это знать через мою камеристку. Адье!
Расположенная к Вам дама,
сидевшая нынче вечером за столом справа от Вас и подталкивавшая Вас порой коленом
Шармант.
Прочтя письмо, я вновь свистнул слуге и велел принести мне перо, дернила и бумагу. Затем уселся за стол и ответил мадам Шармант крайне учтивым письмом, сочиненным на такой манер:
Прежде всего желаю вам всего хорошего и доброго,
почтеннейшая мадам Шармант!
Сначала мне нужно вновь обуться, надеть чулки, а также кафтан (ибо сорочку и штаны я уже надел, когда постучала эта баба – камеристка, и хотя я нагой вскочил с кровати и голышом открыл ей дверь, я все же сомневаюсь, чтобы она многое заметила в темноте, передавая письмо), а затем я незамедлительно направляюсь к Вам. Но Вы, почтеннейшая мадам, должны будете сразу же послать ее вновь ко мне, чтобы она указала дорогу к Вашей комнате; и прикажите ей захватить фонарь, чтобы я не упал в темноте, ибо сам я, черт возьми, не доберусь. А почему? Сейчас как раз между одиннадцатью и двенадцатью вечера – время, когда нечистый начинает свои проделки, и я могу запросто перепугаться и на следующее утро рот мой обметает сыпью. И какую услугу я Вам окажу, если рожа моя, которой Вы дорожите, распухнет? Поступайте, как Вам угодно: пошлете Вы за мной бабу – хорошо, а не придет она – я сейчас же скидываю свои штаны и сорочку и ложусь в постель к брату моему графу.
Прощайте, остаюсь всегда Вашим,
почтеннейшая мадам Шармант,
нижайше преданным и готовым к услугам
и к путешествиям слугой
Шельмуфским.
Это письмо я и послал в качестве ответа благородной мадам Шармант, мигом вытащил из-под скамьи башмаки и чулки, чтобы их надеть, и не успел натянуть один чулок на левую ногу, как служанка была уже тут как тут у дверей и, держа в руке большой бумажный фонарь, в котором горела глиняная лампа с двумя фитилями, собиралась проводить меня до комнаты мадам Шармант, чтобы я не упал. Одевшись, я взял под мышку свою отличную кривую саблю и направился в комнату к мадам Шармант. Бабенкакамеристка отлично светила мне бумажным фонарем: она повела меня опять по лестнице вниз, через прекрасный зал, по длинному переходу, в глубину заднего двора, где я вынужден был вновь подняться с ней на шесть лестниц, прежде чем добрался до комнаты Шармант. Как только бабенка мне указала дверь, я тотчас же отворил ее и вошел, не раздумывая и без доклада. Завидев меня, Шармант сразу вскочила с кровати в ночной рубашке, приветствовала меня на французский манер двойным поцелуем, извинилась и просила не видеть ничего дурного в том, что она послала за мной поздно ночью и обеспокоила меня этим визитом. Я ответил Шармант весьма учтиво, как воспитанный молодой человек, подобного которому редко сыщешь на свете, что ничего особенного не произошло, потому что я все равно не мог заснуть из-за храпа брата моего господина графа. После того, как я пропзнес это с необычайно любезным выражением лица, она меня все-таки попросила сесть к ней на кровать и еще раз рассказать историю с крысой и о том, в какую дыру она скрылась, когда ее хотели пришибить из-за изгрызанного шелкового платья. Я тут же изложил Шармант всю эту историю, но относительно дыры, в которую скрылась крыса, я сказал, что я, правда, ее не видел, но по сведениям, полученным мной от сестры, крыса внезапно прошмыгнула между ее ног, исчезнув на глазах, и ни один черт не знает, куда спряталась навеки эта стерва. Ну и ну! Как бросилась мне на шею эта бабенка Шармант, заслышав о крысиной дыре! Она всадила свой язык в рот на целых пол-аршина, черт меня побери, – так я ей понравился! – и целовала раз за разом мое рыло крест-накрест испанским манером, так что от удовольствия, которое доставляла мне эта бабенка, мне казалось порой, будто я нахожусь на небесах. После того, как она выложила мне свои любовные чувства в чрезмерных и бесстыжих нежностях, а я, черт побери, и сам не ведал, что делаю, она начала присватываться ко мне и говорила, я-де должен на ней жениться. На это я ответил Шармант весьма учтиво, что ведь я порядочный молодой человек, из которого еще получится кое-что путное, если я только больше повидаю свет, и поэтому у меня сейчас нет охоты жениться. Но я не желал ей начисто отказать, а только иметь время пораздумать над этим делом. Тьфу! Как начала эта бабенка выть и реветь, когда я ей отказал; слезы лились по ее щекам, словно из лохани, а глаза округлились и стали похожи на самые большие миски для овечьего сыра. И так как и вовсе не хотел, чтобы она доревелась из-за меня до смерти, то волей-неволей вынужден был, черт возьми, обещать, что никакой иной жены, кроме нее, я не возьму. Услышав эти слова, она вновь обрадовалась и весьма искусно всадила опять свой язычок в мой рот на целых пол-аршина и начала так сосать им мою глотку, как малое дитя титьку матери. После всевозможных любовных увеселений я попрощался с ней в тот же вечер, камеристка с бумажным фонарем проводила меня до моей комнаты, и я лег в кровать к брату моему господину графу, который все еще без перерыва храпел «Едва я оказался в постели, меня охватил сон, и мы оба захрапели, как старая лошадь, удравшая от живодера.
Утром на следующий день, около девяти часов, когда я еще сладко спал, кто-то гнусным образом так заколотил двумя ногами в нашу дверь, что я от испуга привскочил на добрую сажень. Стуку не было конца, я мигом поднялся, надел сорочку и хотел взглянуть, кто там мог быть. Открыв дверь, я увидел слугу одного из голландских бюргеров, который спросил, здесь ли живет Шельмуфский. Я ответил, что это я. Тогда слуга заявил, что его господин будет считать меня не молодцом, а архитрусом, если я сегодня, самое позднее в 10 часов утра, не прибуду с хорошей шпагой на большой луг перед Альтонскими воротами, а там он меня научит уму-разуму. Сто тысяч чертей! Как меня заело, что этот тип позволяет говорить мне такие слова через своего слугу. Я тотчас же спровадил его со следующим ответом: «Слушай ты, сукин сын! Передай своему господину, почему он не пришел ко мне сам и не произнес этих слов собственной персоной, я бы сейчас с ним разделался; но чтобы он убедился, что я его не боюсь, я приду и принесу к его услугам не только добрую саблю – притом кривую, – но и пару хороших пистолетов; я ему покажу, что впредь следует больше уважать храбрейшего любимца Фортуны, если он хочет чего-нибудь добиться от него». Слуга удалился, не промолвив более ни слова, но, оказавшись уже на лестнице, взглянул на меня искоса, состроил кислую издевательскую рожу и быстро сбежал по лестнице. Я вернулся в комбату, быстро оделся, свистнул слуге. Тот сразу же появился и спросил: «Что угодно Вашей милости?» Мне очень понравилось, что этот парень умел говорить со мной так скромно. Я спросил его, не раздобудет ли он мне пару хороших пистолетов, ему от этого никакой беды не будет и он может рассчитывать на чаевые. Будь я проклят! Едва только парень услыхал о чаевых, как выскочил из комнаты и мигом притащил два чудесных пистолета хозяина! Один из них он зарядил крупной, а другой – мелкой дробью и двумя пулями. Затем я прицепил саблю, засунул пистолеты за пояс и молча направился к Альтонским воротам. Подойдя к ним, я осведомился, где находится большой луг. Какой-то корабельный юнга сразу же мне указал его. Завернув за угол городской стены, я увидел луг и на нем целую толпу людей, к которой и бросился бегом. Приблизившись, я заметил одного из бюргеров с некоторыми его сторонниками. Я тотчас же спросил его, он ли вызывал меня час тому назад через своего слугу и какова причина этого. Он ответил, что да, вызывал, а причина в том, что я прошедшую ночь провел у мадам Шармант и он не может стерпеть, чтобы иностранец оказывал ей услуги. Затем он стремительно обнажил шпагу и начал наступать. Проклятие! – заметив, что он старше меня, я выхватил свою саблю из ножен и занял позицию. Отбив единственный его удар, я бросился на него, как дикий кабан, и всадил ему свою саблю, черт меня побери, в левый локоть ударом «ложной квинты так, что кровь брызнула струей толщиной с руку; тогда я припер его к стенке и собирался вышибить из него дух пистолетом, заряженным дробью и пулями; и я бы это сделал в ярости, если бы его приятели не бросились меня упрашивать пощадить его, так как я уже достаточно отплатил ему. Многократные просьбы уладили дело таким образом, что я вынужден был с ним помириться, однако с условием, что он никогда более не позволит говорить мне через своего слугу подобные слова, если я нанесу визит мадам Шармант. И он на это пошел. С каким почетом после этого случая обращались со мной его приятели, этого, черт возьми, и описать невозможно! Где только ни завязывался поединок, я обязан был всегда при этом присутствовать и разводить противников. Ибо, если я не был при этих драках и они происходили втайне, то их даже и не принимали в расчет, а если становилось известно, что фон Шельмуфский опять был секундантом у того-то и того-то, то все уже знали, как обстояло дело. О случившейся дуэли с голландским бюргером я сразу же рассказал мадам Шармант и заметил, что она произошла из-за нее; бабенка эта, правда, сначала очень испугалась, но когда узнала, что я так по-рыцарски себя вел, от радости вскочила, бросилась мне на шею, начала меня ласкать и опять всадила весь свой язык в мою глотку, что мне особенно, черт возьми, нравилось у этой бестии!
После этого я отправился наверх к брату моему господину графу, который все еще лежал в кровати и прислушивался к шуму. Я также рассказал ему обо всем, что уже случилось со мной в Гамбурге; он так озлился, что я его не разбудил, он бы поехал со мной на своих санях и был бы моим секундантом. Но я ему ответил, что храбрый малый не должен трусить и перед сотней врагов. Затем пришел к нам наверх хозяин в зеленой бархатной шубе и опять позвал нас к обеду. Ай да проклятие! Надо было только видеть, как мой брат господин граф вскочил с кровати голым и стремглав начал одеваться, чтобы не пропустить трапезу. Когда он, наконец, оделся, мы спустились с хозяином вниз к столу. За обедом собралось опять все то общество, с которым мы ужинали прошлым вечером, за исключением одного из бюргеров, того, которому я проткнул руку ударом ложной квинты. Я и брат мой господин граф вновь заняли, недолго думая, верхние места за столом. Мне казалось, что во время обеда все будут язвительно прохаживаться насчет поединка, по никто, черт возьми, не произнес о нем и слова; и я также никому не посоветовал бы этого делать, ибо ложная квинта и кабаний натиск все еще не выходили у меня из головы. Все беседовали со мной и полагали, что я снова расскажу что-нибудь удивительное, стремились дать мне повод к этому, но я, черт возьми, вел себя так, словно ничего и не слыхал.
Мадам Шармант выпила за мое здоровье, и к ней вновь присоединилось все общество. Брат мой господин граф начал затем рассказывать о своих синицах, которых он разом поймал в одни силки, и о том, как они очень пришлись ему по вкусу, когда его покойная госпожа бабушка зажарила их в масле. Над этой глупой историей посмеялось все общество. После обеда я со своей возлюбленной мадам Шармант сел в легкий экипаж и поехал прогуляться но городским валам; мы осмотрели городскую стену Гамбурга, ее постройку, и в некоторых местах она оказалась недостаточно прочной. Я обратил на это внимание коменданта города и указал, как ее можно в будущем перестроить на совершенно другой манер. Он все записал, но были ли выполнены эти работы, я не знаю, так как с того времени я там не был. Затем мы поехали в крепость и осмотрели также и ее. Проклятие! Какие бомбы лежали здесь, еще с прошлой осады! Бьюсь об заклад, что каждая из них весила, пожалуй, более трехсот центнеров! Я попробовал поднять одну из них одной рукой, но, черт возьми, это мне не удалось, и я только насилу смог поднять ее двумя руками на три локтя в высоту. Отсюда мы поехали на Эльбу и наблюдали, как корабельные юнги удят рыбу. Ну, будь я проклят! Что за форелей ловили они на удочку! Это были вовсе не те крохотные форели, что ловятся здесь в Гутенбахе или в каких-нибудь других местах. Это были, черт меня побери, рыбины по добрых двадцать-тридцать фунтов. Форелями я обожрался в Гамбурге до отвала, и когда я порой сейчас слышу о них, меня тотчас же начинает тошнить. А в чем причина? В Гамбурге и не встретишь иной рыбы, кроме форели, форели из года в год, и волей-неволей можно провонять ею. Иногда, но очень редко, под Сретение, поступает сюда пара бочек свежей сельди, но так как она быстро расходится среди такой массы людей, то ее просто и не видишь. Посмотрев немного с моей возлюбленной, как удят рыбу, мы поехали обратно в город, на свою квартиру. Сойдя с экипажа, мы увидели у ворот горбатого невысокого танцмейстера, который весьма учтиво приветствовал мадам Шармант, а также меня и пригласил нас на бал. Моя возлюбленная Шармант спросила меня, желаю ли я поехать с ней туда, ибо она не может отказать обществу, так как все будут ее ожидать. Я ответил: «Пожалуй, поеду и посмотрю, что там творится». Тогда она велела танцмейстеру сообщить, что она тотчас прибудет. Черт возьми! Надо было видеть, как парень завертелся от радости, что она приедет и привезет еще кого-то с собой! Он побежал к танцевальному залу, словно его схватила лихорадка. Мы сразу же сели вновь в наш легкий экипаж и поехали к танцевальному залу. Сто тысяч чертей! Какое впечатление произвели мы на всех благородных дам и кавалеров, уже находившихся в зале, едва мы прибыли! И насколько я мог слышать, повсюду раздавался шепот. То один спрашивал: «Кто этот благородный господин, которого привезла с собой мадам Шармант?»; но другая женщина говорила соседке: «Ну, разве это не красавчик? Просто кровь с молоком!» Такие речи раздавались наверно с полчаса. Танцмейстер предложил мне стул, обитый красным бархатом, все же прочие, однако, как и моя Шармант, вынуждены были стоять. Тут началась музыка. Ну и проклятие! – как ловко пиликали эти парни сначала уличную песенку, а затем маленький горбатый танцмейстер первым открыл бал. Пропади все пропадом! Как умел подпрыгивать этот малый, словно, черт возьми, летал по воздуху. После окончания этого танца все стали в круг и начали танцевать хороводом. Мою Шармант тоже заставили войти в середину и плясать одной. Ай да проклятие! Как только ни извивалась змеей эта бабенка! Я, черт возьми, все время думал, что она сейчас свалится с копыт, но ей все было нипочем. Другие девицы танцевали, канальи, тоже элегантно, трудно передать, как мило они перебирали лапками, но с моей Шармант никто не мог поспорить. После хоровода пошли всякие обычные танцы – куранда, жига, аллеманда. В такой чепухе и я был вынужден принять участие: разные дамы подходили к красному бархатному креслу, где я сидел, и приглашали меня. Я, правда, сначала извинялся, что, хотя я и малый не промах и в моих глазах светится благородство, но танцам еще недостаточно обучен. Однако никакие извинения, черт возьми, не помогали; дамы внесли меня в круг вместе со стулом, опрокинули его, и я растянулся, сто тысяч чертей, на полу; но тотчас же вскочил на ноги с весьма учтивой миной так, что все общество в зале было сильно удивлено, и кавалеры заговорили между собой о том, что я, пожалуй, один из самых изящных молодых людей в свете.
Затем я начал танцевать и пригласил трех дам: одна из них держалась за мою левую руку, другая – за правую, а третья – за левую ногу, и я приказал скрипачам сыграть альтенбургский крестьянский танец. Тут бы и можно было поглядеть, как следует танцевать и какие искусные прыжки я умел выделывать правой ногой: когда я немного вошел в раж, я начал подпрыгивать на ней на целую сажень в высоту, так что и дама, державшаяся за мою левую ногу, почти не касалась земли, а все время вертелась в воздухе. Черт меня побери! Как глядели все бабенки на эти прыжки! Маленький горбатый танцмейстер клялся, что за всю свою жизнь он никогда не видел таких прыжков. Затем они все захотели узнать, какого я рода и звания, но я, черт возьми, никому этого не сказал и выдал себя только за простого дворянина, однако они этому не поверили и утверждали, что я, должно быть, более благородного звания и по моим глазам видно, что я родился не под ореховым кустом. Они начали расспрашивать мою Шармант, но, разрази ее дьявол, если она что-либо проронила о моем рождении, ибо, если бы они узнали историю с крысой, – ох проклятье! – с какой охотой они бы ловили каждое слово!
После бала мы с моей Шармант поехали в оперу, где тоже можно было, черт возьми, кое-что посмотреть, так как в этот день ставили «Разрушение Иерусалима». Ну и ну! Что это был за огромный город, этот самый Иерусалим, который представляли в опере! Бьюсь об заклад, что он, черт его побери, был в десять раз больше, чем город Гамбург, а его так подло разрушили, что, черт возьми, сейчас и не увидишь, где он находился. Только жалко, что с ним и расчудесному храму Соломонову пришлось вылететь в трубу; мне казалось, что хоть кусочек от него должен был бы уцелеть, так нет же, черт побери, солдаты все развалили и разрушили дотла – это были хорваты и шведы, они-то и стерли Иерусалим в порошок. После оперы я направился со своей Шармант на Юнгфернштиг (как называют его господа гамбуржцы). Ибо это веселое место и расположено оно в центре города на берегу небольшой реки, называемой Эльстер. Здесь растет, пожалуй, тысячи две лип, и благородные кавалеры и дамы города Гамбурга прогуливаются и дышат под липами свежим воздухом каждый вечер. На Юнгфернштиге можно било встретить по вечерам и меня с моей Шармант, ибо Юнгфернштиг и опера были всегда нашим любимым времяпрепровождением. Об осаде Вены они также однажды сыграли превосходную оперу! Сто тысяч чертей! Какие бомбы швыряли турки в город Вену! Черт возьми, они были в двадцать раз больше тех, что лежат в гамбургском укреплении. Но как им за это отплатили саксонцы и поляки, вы, наверное, знаете. Пожалуй, свыше 30 тысяч турок полегло у стен Вены, не считая пленных и смертельно раненных, число которых, по моим подсчетам, достигало приблизительно 18–20 тысяч человек, а добрых 40 тысяч обратились в бегство. Ох, будь я проклят! Как заливались трубы, когда кончилась осада города, готов спорить, что, вероятно, свыше 20 тысяч трубачей стояли на площади и играли в городе викторию.
В таких забавах ежедневно проводили мы время в Гамбурге, и сколько это мне стоило денег, об этом, черт меня побери, я и говорить не хочу! Но мне не жалко ни гроша, которые мы промотали с Шармант, ибо она была необыкновенно красивой бабенкой, и ради нее я готов был бы снять штаны и заложить их ростовщику, если бы не хватило денег, так как она любила меня сверх всякой меры и всегда называла своим «прелестным юношей» – ведь я был тогда гораздо красивей, чем теперь. А почему? Вы услышите ниже, как гнусно сожгло меня солнце за экватором. Да, Гамбург, Гамбург! – как вспомню о нем – немало радости он мне доставил… И я бы, черт возьми, так скоро оттуда не убрался (хотя и пробыл там целых три года), если бы моя кривая сабля не довела меня до беды; правда, все произошло из-за моей ненаглядной Шармант, но эта добрая бабенка тоже, собственно, не виновата в том, что я вынужден был уносить ноги туманной ночью. Ибо благородный молодой человек не должен терпеть, чтобы над ним кто-то взял верх. Дело обстояло так: меня с моей Шармант пригласили в одно веселое общество, и мы должны были остаться в этом изысканном доме в гостях весь вечер. Было уже очень поздно, когда закончился ужин, и нам предложили заночевать, но моя Шармант не пожелала этого. Благородный хозяин, у которого мы находились, велел запрячь карету с тем, чтобы доставить нас в безопасности домой. Когда мы вскоре доехали до Конного рынка, моя Шармант попросила, чтобы мы прокатились еще с полчасика по Юнгфернштиг – ей хотелось только взглянуть, что за общество там сейчас находится. Я согласился и приказал кучеру везти нас туда. Недалеко от Юнгфернштиг, в одном узком проулке, который мы должны были проехать, кто-то начал меня задирать. Кровь сразу же бросилась мне в голову, словно прямым ударом свалили меня с ног; и, разрази меня господь, в десять раз было бы приятней получить такой удар, чем слышать подобные издевательства! Я остановился и сказал моей Шармант, чтобы она с кучером повернула назад и возвращалась домой, а я выясню, кого же так оскорбляют. Мне казалось невероятным, чтобы так нагло могли задирать самого храброго любимца Фортуны. Но моя Шармант не хотела меня отпускать, опасаясь, что со мной может случиться несчастье; она бросилась мне на шею, начала меня ласкать и вновь всунула свой язык в мое рыло – настолько она меня любила и так хотела, чтобы я остался с ней. Но едва она отвернулась, как я выскочил из кареты, приказал кучеру поворачивать обратно и пошел по направлению к ночным забиякам, которых числом около тридцати застал в конце узкого проулочка. «Чего вы здесь задираете людей, лодыри?» – спросил я их. Но парни с обнаженными шпагами бросились на меня, думая, что я струшу. Я, правда, отступил на шаг, но выхватил из ножен свою саблю и – проклятие! – как пошел колотить и полосовать парней, словно, черт возьми, рубил капусту и репу: пятнадцать из них тотчас же полегли на месте, некоторые, сильно изувеченные, запросили пощады, а третьи стали улепетывать и звать стражу на помощь. Сто тысяч чертей! Когда я услышал о страже, то подумал, что дело обернется плохо, если она меня схватит, и во весь опор помчался к Альтонским воротам, сунул сторожу целый двойной талер, чтобы он меня пропустил в боковую калиточку. За стенами я сел на том самом лугу, где я ударом «ложной квинты» проткнул голландскому бюргеру левый локоть, и заревел, как сопляк. Выплакавшись, я встал, взглянул еще раз на город Гамбург, хотя и не мог его разглядеть в темноте, и проговорил: «Спокойной ночи, Гамбург! Спокойной ночи, Юнгфернштиг, спокойной ночи, опера, спокойной ночи, брат мой господин граф, и спокойной ночи, моя милейшая Шармант! Не убивайся о том, что твой прелестный юноша должен тебя покинуть, быть может тебе скоро удастся его встретить где-нибудь в другом месте». Затем я в темноте отправился в дальний путь. Рано утром я достиг города Альтоны, который находился в трех добрых немецких милях от Гамбурга, завернул в самую благородную харчевню под названием «Виноградник», где встретил земляка, сидевшего в нише за кафельной печью и напропалую дувшегося по-шулерски в карты с двумя благородными дамами. Я открылся ему и рассказал, что произошло со мной в Гамбурге. Это был, черт возьми, тоже парень молодчина, ибо он несколько дней назад вернулся из Франции и ждал в «Винограднике» векселя, который должна была ему прислать при первом удобном случае его мамаша. Он высказал мне такое большое почтение, что я, черт возьми, во веки веков его не забуду, а также посоветовал долго не задерживаться в Альтоне, ибо, если узнают в Гамбурге, что здесь находится некто, погубивший столько душ, то стража, даже если я буду в другой области, начнет розыски и прикажет меня схватить. Этому доброму совету я и последовал, и так как в этот день отсюда отправлялся корабль в Швецию, сел на него, попрощался с земляком и отбыл из Альтоны. Как я чувствовал себя в море, что я и там и в Швеции повидал и испытал, об этом вы узнаете в следующее с большим искусством рассказанной главе.
Произведения
Критика