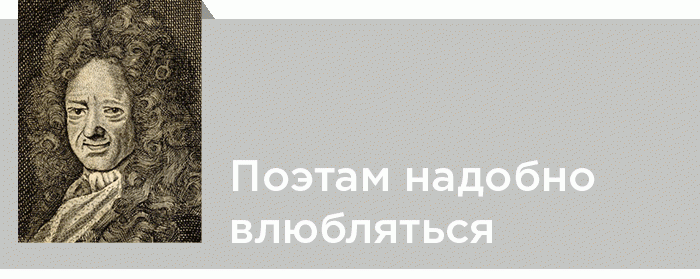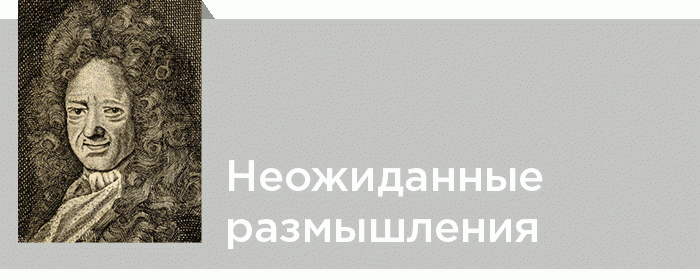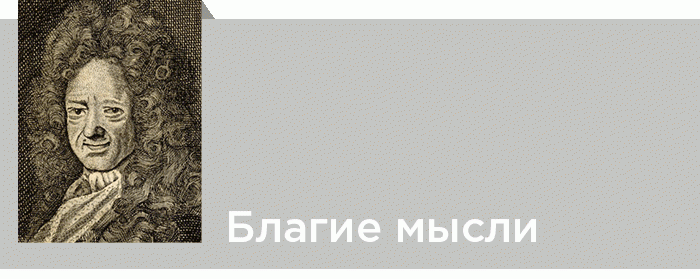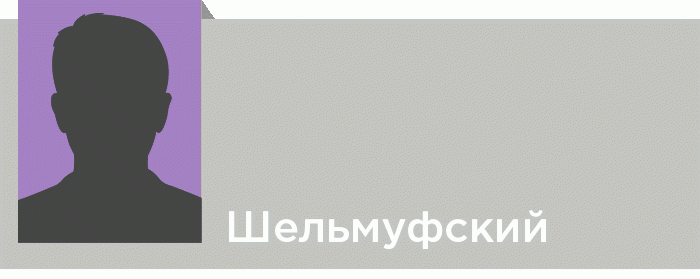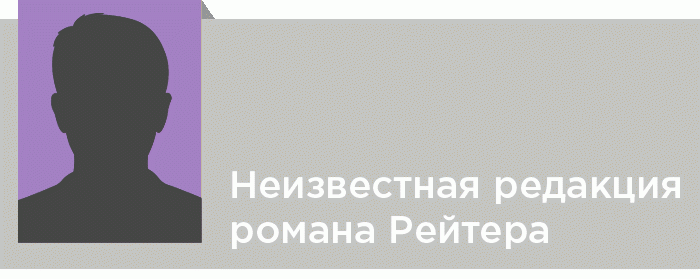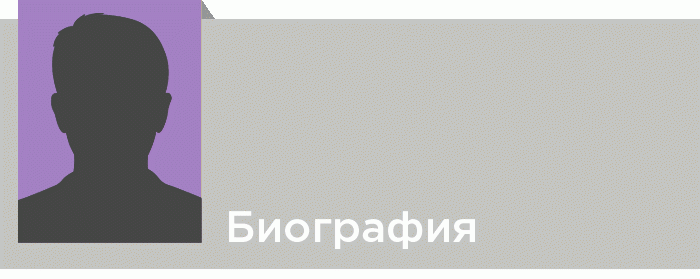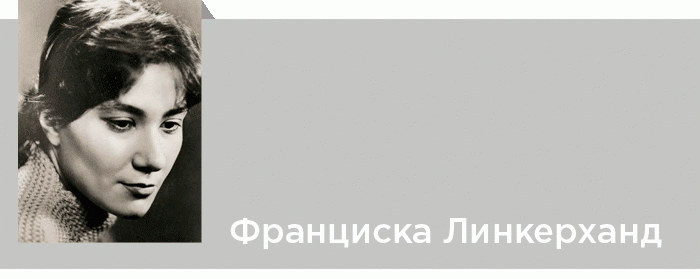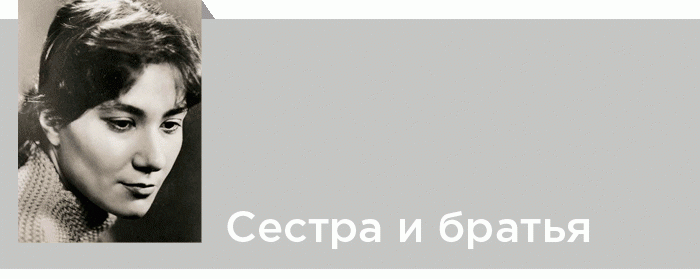Роман К. Рейтера «Шельмуфский» в контексте романической литературы Германии
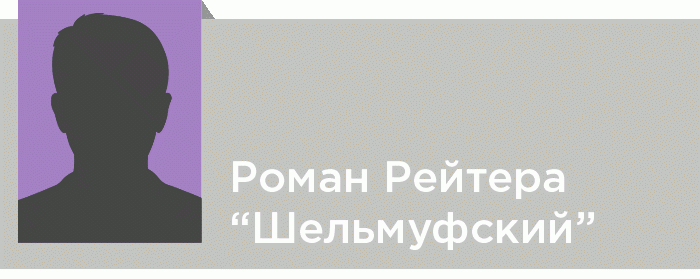
Л. И. Пастушенко
По праву пользовавшийся большой, отчасти скандальной популярностью у современников, запрещенный из-за адресных нападок и частично конфискованный уже в первом наборе, достаточно широко известный у нас благодаря изданию, «Шельмуфский» К. Рейтера (1696) в жанровом отношении, находясь в преддверии Просвещения, подхватывает сатирическое русло «низовых» романов барокко и предлагает «сатиру на мещанина, лезущего в дворянство». Если образ героя и отдельные сатирические изобразительные тенденции получили соответствующее освещение в научных традициях как экс-отечественного литературоведения, так и немецкой германистики, то степень литературности «Шельмуфского», принадлежащего к романным образованиям начала Нового времени, как правило, в филологии недооценивают. Именно поэтому другие, не менее важные аспекты сочинения Рейтера, как, например, специфика нарратива, литературный контекст эпохи, полемика писателя с современной романистикой все еще не подвергаются систематическому изучению.
С общетеоретической точки зрения представляется актуальным обратиться к этому роману, стоящему на рубеже двух важнейших эпох - барокко и Просвещения, чтобы конкретнее представить себе особенности составляющих компонентов «силового поля» жанра в период формирования новаторской - эйдетической повествовательной модальности в процессе разрыва со старым, традициональным романическим образованием. При этом новаторский с эстетической точки зрения факт личной ангажированности автора, решительно направлявшего свое перо против конкретного адресата - досадливого семейства враждебной ему трактирщицы - не должен заслонять для исследователей значение собственно литературной полемики в романе.
Пристрастие писателя к клишированным материальным атрибутам эстетической действительности «низового» романического побуждает вспомнить об элементах реквизита старого барочного романа, но при этом мы далеки от мысли, что объект полемики Рейтера действительно составил классический роман «высокого» барокко, - вопреки мнению российского ученого, основательного знатока истории немецкой литературы. Цель данной статьи - проследить характер этой многозначительной полемики на материале, у нас практически не изученном и мало исследованном также в немецкой германистике.
В характеристике картины мира эгоцентрической монодии Рейтера важно не утратить конструктивный аспект: modus dixi анекдотичной фигуры невежественного героя гробианского типа составляет способ репрезентации действительности. Повествование от первого лица персонажа, в рамках современных нарративных типологий, например, В. Фюгера, соответствующего «симультанному внутреннему нарратору», идентифицирующему «Я-рассказывающее» с «Я-рассказываемым», предлагает во вздорных «приключениях слова» субъективный образ мира, синтезированный воображением одной личности - беспутного шалопая, беззастенчивого враля и бездельника, из бюргерской среды, невежи, якобы охочего до путешествий.
Стереотип имени героя подразумевает вовсе не реальные плутни и проделки персонажа, которых он, скорее всего, не совершил, но рассказ о них, ибо Шельмуфский весь сосредоточивается в надуманном нарративе о себе самом и как бы исчерпывает себя произносимым словом, предлагая «такое описание, подобного которому ни один человек еще не находил публично изданным». Имя центрального персонажа семантизирует травестию идеального романического героя, цель «мещанской» фигуры Рейтера - доказать dem allezeit kuriosen Leser..., daß ich einer mit von den bravsten Kerlen auf der Welt gewesen sei «проявляющему неизменную любознательность читателю, что я всегда был одним из самых бравых парней в мире» (Здесь и далее перевод наш. - Л. П.).
Мотив «бравого парня» в романе сквозной, автор широко эксплуатирует известную технику повтора и умножения, нанизывания однотипного: ein braver Kerl, ich wäre der bravste Kerl von der Welt. Представляется, что сатирическая амплификация Рейтера полемически отталкивается от умножения превосходных эпитетов в характеристике героя «галантного» романа Хаппеля. Сравним, например, авторскую оценку «несравненного» Кормантена из одноименного романа Хаппеля: unvergleichlicher Held, mit unserm unvergleichlichen Cormantin, den ohnvergleichlichen Cormantin, zu diesem unvergleichlichen Helden, der vollkommenste Helden-Printz. Постоянство самовлюбленного Шельмуфского в превосходных эпитетах характеризует внутренний мир упорствующего в идеализированной саморепрезентации персонажа. Очевидно, что он неспособен к трезвой самооценке, зато тем более уверен в себе и отличается вульгарным стремлением уподобиться знатным, отождествить себя с галантным кавалером и подогнать свою убогую биографию под модель авантюрного жизнеописания героя «галантного» романа. Опирающиеся прежде всего на авторитет беззастенчивости, воображаемые авантюры в рассказе Шельмуфского завораживают слушателей своей претензией на исключительность и аристократизм, на подлинность и достоверность самых невероятных приключений, за чем стоят, однако, ложная значительность и мнимое правдоподобие, - именно эти характеристики снискали герою в русском литературоведении определение «мещанина во дворянстве». Но в собственных глазах вульгарный Шельмуфский - галантный кавалер, и это очень важно.
Смехотворны шитые белыми нитками басни героя о том, как перед ним заискивают аристократы, а знатные наследницы добиваются его любви, или как он отвергает один за другим высокие посты и должности - рейхсканцлера при Великом Моголе, инспектора городского совета в Венеции — под предлогом пристрастия к путешествиям: mein Gemüthe nur an dem Reisen seine Lust hätte. Вместе с тем, в подобных сюжетных положениях содержится прямое сатирическое указание на устойчивые сюжетные компоненты «галантного» романа - серию любовных побед, поклонниц и блестящих постов доблестных героев Хаппеля. Например, отмеченный за заслуги золотой цепью в Венеции Кормантен утверждает: «Сколь известно теперь мое имя, и какую дружбу я водил со знатными особами генеральского звания, - это может засвидетельствовать целая армия». Горделивый повествовательный тон героя «галантного» романа словно провоцирует бахвальство и логику самомнения Шельмуфского, в этом свете анекдотичной предстает навязываемая Читателю персонажем идея «несравненности»: daß meinesglechen wohl schwerlich würde in der Welt zu finden sein, daß meinesgleichen in der Welt wohl schwerlich von Conduite wird gefunden werden («едва ли в мире найдется еще хоть кто-либо подобный мне»), ибо воистину несравненно здесь только любование собой более чем одиозного героя.
Высмеивая принятый «галантной» романистикой его времени, прежде всего - «журналистским» романом Хаппеля, модный девиз Kuriosität (стремление узнать или сообщить заслуживающие внимания новости), писатель с насмешкой намекает на прагматическую ориентацию современной романной продукции, эксплуатировавшей доверие жадного до новостей любознательного читателя и делавшей ставку на легковерие kuriose Leser. Путевые картины (kuriose Reisebeschreibungen) Шельмуфского ничуть не отступают от принятого стереотипа романа путешествий в желании удовлетворить вкус пристрастного читателя чужестранной экзотикой: «А если я узнаю, что не каждый поверил в изложенное мной с такими усилиями и прилежанием, то мне будет чертовски жаль испорченных перьев. Но я надеюсь, что курьезный читатель не будет столь предубежден, чтобы счесть мои описания Опасных странствий простым хвастовством и враньем, тогда как, черт возьми, все Правда (alles wahr) и, дьявол меня побери, ни одно слово не выдумано». В то же время из уст двоюродного братишки героя читатель узнает, что странствия Шельмуфского фантазийны, alles erstunken und erlogen (это устойчивое словосочетание обозначает: «грубая, наглая ложь»), на самом деле «опаснейшие» и «невиданные» путешествия героя «едва ли продолжались 14 дней» и «не простирались дальше полумили от родного города», описывая тем самым «географию кафе», с которой Шельмуфский действительно хорошо знаком.
Таким образом, эпизоды путешествия героя, предлагающие ревизию «галантной» робинзонады, - это только одно, хотя сильно разветвленное, полемическое литературное клише, реализованное в романе. Фантазийный мир дальних странствий героя - мнимого кавалера - обыгрывает известный канон «географических» романов Хаппеля с их экзотическими маршрутами, условным чужестранным колоритом, элементами причудливых линий и поворотов сюжетного действия, живописными подробностями инонационального быта и образа жизни. Предметом художественной полемики становятся спроецированные на фигуру невежественного враля мотивы острых авантюрных поворотов судьбы - кораблекрушения, морских сражений, нападения пиратов, плена. Так писатель обращается против серийности сюжета литературы воображаемых путешествий. Называя себя allezeit reisfertig, герой Рейтера подчеркивает свою готовность в любой момент отправиться в путь и намекает на тягу романов путешествия к серийности, на их открытое географическое пространство, создающее потенциальную возможность быть продолженными в любой момент и с произвольного сюжетного пункта.
Рассказ беспутного шалопая во многом пронизан логикой небылиц (Lügengesehichten). При этом как рассказчик Шельмуфский с его сумбурной логикой весьма, далек от утонченного интеллектуального юмора Мюнхгаузена, но подобен ему заразительным воодушевлением, а иногда даже вдохновением своего вранья, отмеченного «вечно юной фантазией сказок», при огромной эстетической дистанции их роднит присущий сюжетам небылиц сложный характер юмора. В рассказе Шельмуфского нарочито снята столь характерная для «пикарески» или «симплициады» проблемность в обрисовке взаимоотношений личности и мира, человека и обстоятельств, героя и среды, - сознание самовлюбленного сумасброда не допускает в свой внутренний мир ничего, кроме собственных, желанных версий действительности. Уже эта черта поэтики произведения убеждает, что «Шельмуфский» - не плутовской роман, и даже не «плутовской роман совсем особого рода».
Разрыв между действительным и воображаемым, почти сразу очевидный для читателя, так и не становится предметом осознания или хотя бы ощущения героя, для которого важно не «быть», а слыть, казаться. С этой точки зрения произведение, высокую степень литературности которого обычно недооценивают, может быть воспринято и интерпретировано как полемическая реплика к «политическому» роману с ее резко негативной оценкой прагматической психологии выскочки. Связанный со «вторым миром» персонажа юмор замещения, комизм метонимического изображения фантомной реальности, присущей сознанию низкого враля, выходит на первый план. Так как любовь героя к путешествиям проистекает из праздности и является обратной стороной его нежелания учиться какому-либо ремеслу, то клятва Шельмуфского не возвращаться домой, пока он не станет знатным (lästerlich verschworen, nicht ehe wiederzukommen, bis daß ich ein vornehmer Herr geworden wäre), носит формальный характер, так как он дважды возвращается без гроша в кармане и в худом платье, - заслуженный итог духовного «развития» и карьерного становления выскочки, как их понимает автор, убежденный противник «политической» литературы, наставлявшей читателя, как сделать карьеру (Aufstiegsliteratur).
Наряду с этим, остро намекая на пренебрежение родным языком ориентированной на французское галантной моды, автор создает образ немца, претендующего на модную элегантность и разучившегося «на чужбине» говорить по-немецки: ...ich parlierte meist Engelländisch und Holländisch mit unter das Teutsche, языковая мешанина рождает в слове героя острые эффекты бурлескной природы. Сама беседа галантных наизнанку персонажей выдает бессодержательность предмета общения: von diesem und jenem («о том, о сем», - эвфемизм для пустого «ни о чем»), притом это лейтмотив романа - von diesem und jenem, wie oder wenn, dieses und jenes, von allerhand. Формула «о том, о сем», возможно, представляет собой полемическое замещение и «нулевую» квинтэссенцию многословных и многостраничных дискурсов в романах Хаппеля, герои которых беседуют von allerhand Sachen.
Идея модничанья, жадное пристрастие героев к новизне, мотив модного путешествия - Tour alamode роднят Рейтера с Мошерошем, особенно в линии образа отпрыска Шлампампе, побывавшего во Франции и уже оттого отвергающего достоинства отечественного, - платья, родного языка, торговли, Презрительно именующего соотечественников «глупцами»: dumme Teutsche. Но главный объект полемики в романе - модный стереотип галантного стиля и образа жизни, так называемая «манера», artige Manier. Шельмуфским владеет фикция, заразительная не столько для читателя, сколько для самого героя, - самоидентификация с галантным кавалером (девиз «галантной» эпохи) побуждает его воспринимать мир через стереотип artig, galant, manierlich, propre, anmutig, - характеристичные лексемы, количественно преобладающие в его развернутом автопортрете (наряду с франкоязычной лексикой) и выступающие в самых невообразимых сочетаниях.
Модный комплекс галантного, в который рядится герой, весьма поверхностно его усвоивший, во многом определяет характер и уровень представлений необразованного, но рисующегося лгунишки. Развенчанию облика героя-кавалера служат элементы формально воспроизведенного канона «высокого» романического. Используя семантически клишированный набор сюжетных ситуаций и мотивов, писатель конструирует полемичные внутрисюжетные формы: в богатых покоях герои ловят блох, пышное застолье - лишь эвфемизм для обильной попойки, учтивое обращение с дамами подразумевает легкие, доступные связи. Но не клишированность мотивов и образов сама по себе занимает автора, а прежде всего - показное лицо действительности, банальная версия этих стереотипов в восприятии Шельмуфского, способного оценить лишь внешнюю, парадную сторону аристократизма, которому он столь привержен: титулы, комплименты, этикет, трапезы, флирт, развлечения, чествование, героем которых неизменно выступает он сам.
Таким образом, объект литературной полемики Рейтера - прежде всего «провинциал», выскочка, механически копирующий стиль жизни знатных. Однако сатира писателя, создающего «карикатуру своей эпохи», захватывает и поражает в духе «скепсиса раннего Просвещения» идейно устаревшие, традиционные формы культуры и философского мировоззрения в романе, едва ли «оригинальном реалистическом», а скорее сталкивающем традиции сатирического гробианизма с «высокой» «галантной» прециозностью. Тем самым автор осмысляет новые пути развития романа в духе многозначительного перехода от verba к res, связанного с новаторскими предпросветительскими течениями раннего рационализма.
Л-ра: Література в контексті культури. – Дніпропетровськ, 2006. – Вип. 16. – Т. 2. – С. 143-149.
Произведения
Критика