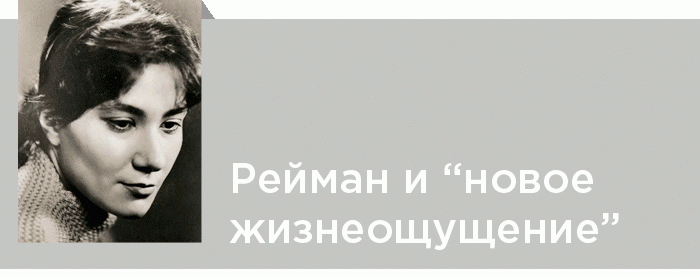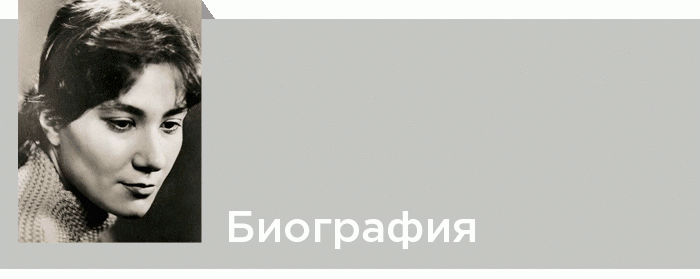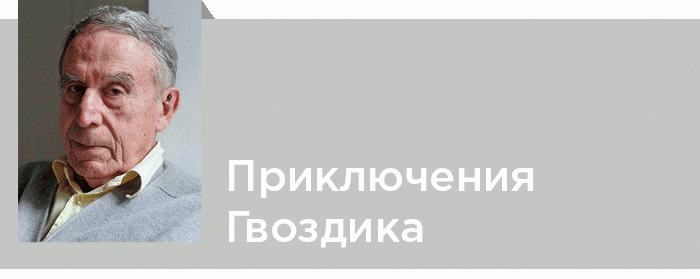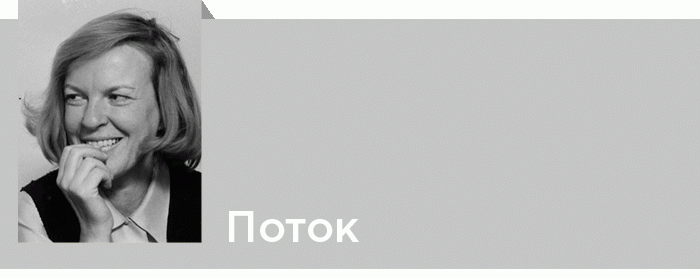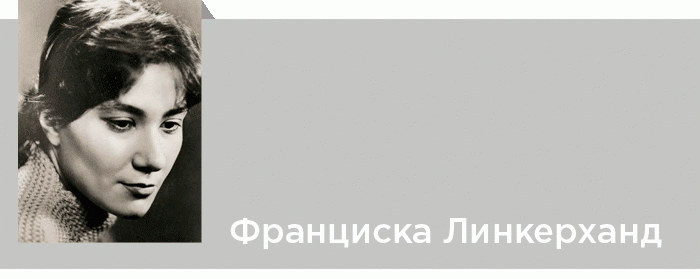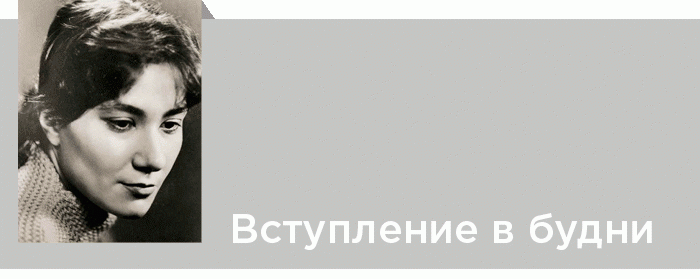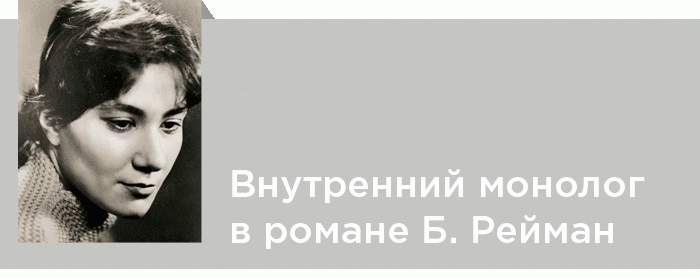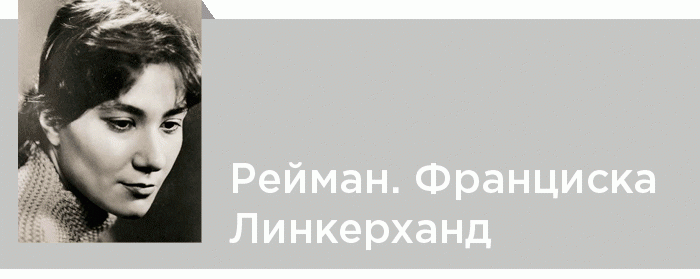Бригита Райман. Сестра и братья
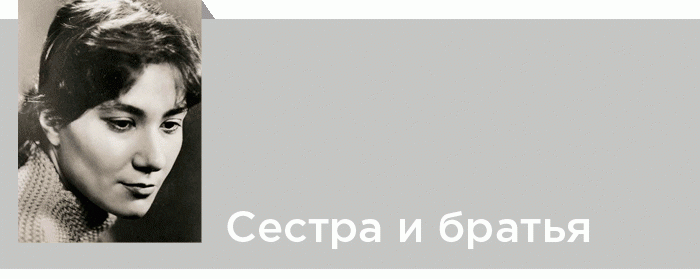
(Отрывок)
1
Я шла к двери, я все кружилось у меня перед глазами.
Он сказал: «Этого я никогда же забуду». Он стоял посреди комнаты, очень прямо и неподвижно, и говорил холодным, сухим тоном; «Этого я тебе никогда не прощу».
Я нащупала ручку двери и, шагнув в коридор, еще мгновение держалась за нее, ожидая, что он окликнет меня, выругается, что он вот-вот запустит в дверь ботинком.
Прежде он, бывало, бросал мне вслед ботинки, когда мы ссорились, иногда даже вазу, а однажды, когда я заперла его на балконе, он вышиб стекле кулаком. Тогда, много лет назад, он был очень вспыльчив, и порой я боялась его; но теперь вспышка гнева была бы мне минее, чем это холодное, сухое спокойствие.
На несколько минут я застыла в коридоре. В открытое окно заглядывали влажные коричневые сучья орешника, растущего перед домом, и листья с зубчатыми краями. Летом ветви сплетаются в темно-зеленый, тяжелый, непроницаемый шатер над крыльцом, и, когда дует ветер, листья постукивают в окошко. Сегодня вторник, третий день пасхи, атласные желтые форзиции уже отцвели. Завтра Ули должен уехать.
Из комнаты все еще не доносилось ни звука, и наконец я, ступая на цыпочках, пошла по красной дорожке в кухню. Сколько я себя помню, в коридоре всегда лежит красная кокосовая дорожка, обновляемая каждые четыре-пять лет, только после войны она обветшала, вылиняла и истрепалась. На стенах висят все те же литографии — Либерман и Лейбль; жизнерадостные пейзажи Ван-Гога, которые я подарила родителям, лежат в ящике письменного стола под старыми школьными табелями и аккуратно сколотыми письмами и открытками, полученными от нас за годы студенчества.
В кухне я села на шкафчик для обуви и, закуривая сигарету, увидела, как дрожат у меня руки. Я, видимо, не ожидала, что Ули так к этому отнесется, и спрашивала себя, ожидала ли я вообще чего-нибудь, рассчитывала ли на что-нибудь, когда сегодня утром побежала к Иоахиму через мощеный двор, по узкой, мрачной лестнице, по обитым медью ступенькам. Он живет наискосок от нас, в безобразном доходном доме, построенном здесь, на окраине города, каким-то мелким дельцом.
И вот теперь я спрашивала себя, зачем я побежала к Иоахиму; я сидела, курила, с недоумением разглядывая свои руки, и пыталась уяснить себе, какие чувства я испытываю к Ули в эту минуту, в четверть девятого утра, сидя в кухне, залитой утренним солнцем. Все это время передо мной стояло его лицо — крепкий подбородок, густые, черные прямые брови, его светло-карие глаза, испещренные темными крапинками, похожими на пятнышки ржавчины. Мне двадцать четыре года, на год меньше, чем ему, и всю жизнь лицо его мне было близко и знакомо,— только в последний год, после летних каникул, на нем появилось выражение жесткости, чужое и мучительно непонятное.
Когда я рассказываю о брате своим друзьям, они, я знаю, посмеиваются над моей восторженностью. Я говорю им: он красивый, он — самый красивый из всех, кого я знаю. Он умный, гораздо умней меня. Он кончил школу с отличием. Он — лучший в своей группе. Девчонки бегают за ним. Он сильный, он прекрасный спортсмен. Он много читает. Он часто бывает в концертах. Мы любим друг друга.
Они смеялись в ответ: покажи нам наконец это чудо. Но Ули в то время учился в Р, на балтийском побережье, а я была студенткой высшей художественной школы в Д, нас разделяли пятьсот километров пути по железной дороге. Последний год я уже не так убежденно хвасталась своим братом, но все еще говорила: мы любим друг друга.
Я погасила сигарету. Вдруг мне пришло в голову: а может быть, я люблю в Ули только наше общее прошлое, полузабытое детство, которое рисуется в памяти как идиллия, и, хотя я прекрасно понимаю, что это мираж, и нахожу сотни трезвых возражений, я с некоторой долей сентиментального умиления вглядываюсь в мелькающую перед глазами киноленту воспоминаний, в эту смену пестрых жанровых картинок.
Цветущие вишни в саду, ящик с песком, красные и желтые жестяные формочки; стена, заросшая плющом, у ее подножья, среди широких листьев глициний с лиловыми цветами, мы выбираем из сырого чернозема улиток; беседка в саду у товарища детских игр, чье имя давно позабыто; вот мы зарылись в сладко пахнущее сено и курим короткие индейские глиняные трубки, набив их высушенными виноградными листьями; балкон, июльская жара, белый, в голубую полоску тент, зеленые цветочные ящики с пышно разросшимися петуниями; сейчас время обеда, мы ждем отца, он должен приехать на велосипеде из своего издательства; мы узнаем его по велосипедному звонку, машем ему с балкона и кричим; рядом столярная мастерская, вокруг склада по узким рельсам катятся грубо сколоченные тачки, приятно и строго пахнет свежим деревом, мы играем в звероловов и индейцев и швыряем друг в друга томагавки; зимний вечер, мама, полная и черноволосая, сидит в плетеном кресле перед рабочим столиком красного дерева и читает нам сказки Андерсена, а за окном сгущаются сумерки, падает снег...
И всегда Ули был рядом. Позднее мы уже сами читали сказки Андерсена вдвоем, тесно прижавшись друг к другу, на низенькой скамеечке для ног, и мы видели маленькую русалочку с разметавшимися по воде длинными волосами и ожерельем из розовых ракушек, и китайского соловья, и императора с чудовищно длинными ногтями на пальцах и тонкими желтыми усами, свисающими по самую грудь. А потом мы уже читали «Джимми Хиггинса» и плакали, читали «Цемент» Гладкова и «Седьмой крест» и «Разбойников» и «Красное и черное» Стендаля всегда вместе, всегда волнуемые одинаковыми мыслями, одинаковыми чувствами. И уже совсем недавно, пожалуй, в 1956 году, вели путаные, ожесточенные споры по поводу «Солнечного затмения» ренегата Кестлера, после которых мне иногда казалось, что Ули так и не вышел из мрака солнечного затмения, меж тем как я давно уже вернулась к Глебу Чумалову, к Даше и Чибису.
О войне я ничего не помню, кроме глухого рокота бомбардировщиков и белых полос, отбрасываемых прожекторами на ночное небо. Мы часто, ночевали в погребе, вдвоем с Ули на одном топчане, а по утрам собирали полоски серебряной бумаги, которую рассыпали американцы. Порою небо делалось багровым. В дни рождения детей к столу не подавали больше земляники со взбитыми сливками и даже забавных, шоколадного цвета, пудингов в форме рыбок.
Издательство книг по искусству, в котором работал отец, закрылось, как «не имеющее военного значения». Однажды мы проводили отца на вокзал, мама плакала. Как-то зашла к нам знакомая еврейка попрощаться. На пальто у нее была нашита желтая звезда, кудрявые волосы совершенно поседели, хотя она была одного возраста с нашей мамой. Она сказала, что теперь и ее депортируют, она стояла внизу на крыльце и плакала.
Моя мать — дочь обувного фабриканта; она бывала в домах богатых еврейских семей нашего города, она продолжала бывать в них и при нацистах, когда фабрики этих семей «аризировали» и считалось позором войти в квартиру к евреям. Мать была совершенно аполитична. И отец был аполитичен, но тут даже он перестал посещать знакомых евреев; он презирал нацистов и называл Гитлера выскочкой, но он был человек осторожный и имел семью... Все это я узнала много позже, после войны, или поняла из обрывков разговоров. Тогда мы были слишком малы; только старший брат Конрад по средам и субботам надевал коричневую форму гитлеровской молодежи; в ней он отправлялся «на службу».
Однажды вечером, это было, должно быть, в начале мая 1945 года, к дому подошел незнакомый солдат. Ули разглядел его сквозь замочную скважину и сообщил: простой ефрейтор. Мы притаились в своих кроватях. За окном играет радио, но вдруг музыка смолкает, и мы слышим четыре глухих удара (это нам знакомо, как знакома и суета среди взрослых: почему дети до сих пор толкутся здесь? Уложите детей в постель!) и четыре удара и «Calling Germany» (Говорит Германия). Ули, который часто спрашивает у старшего брата английские слова, объясняет: «Germany» — значит Германия.
Наконец чужой солдат уходит, Но он уже не в форме, на нем костюм нашего отца. (И я не уверена в том, что моя добродушная неосторожная мать понимала тогда, что она делает. Я никогда ее об этом не спрашивала. Вероятно, она и сама уже забыла чужого солдата, который был простым ефрейтором.)
Солнечный день: мы ловим проворных длиннохвостых головастиков в болотце возле железнодорожной насыпи; Железнодорожник торопливо проходит мимо. Улепетывайте, русские идут. Мы бежим домой. В окне детской уже вывешена белая простыня. Мы с Ули, крепко обнявшись, сидим на крыльце: умереть — так вместе.
По улицам, грохоча, проходят танки. Это «Т-34», говорит старший брат; он закопал в саду кинжал с надписью: «Кровь и честь». Всю ночь мчатся мимо «виллисы», лошади, запряженные в высокие деревянные повозки. Назавтра к нам на постой приходят русские офицеры. Конрад бродит по дому мрачный и молчаливый. Мама спит с нами в детской. Офицеры живут у нас неделю, месяц, полгода...
Нам больше нравится старший лейтенант Василий Иванович. Он белокурый, худощавый, и, когда смеется, пряди волос падают ему на лоб. Он приносит к нам на кухню сало и белый хлеб. Иногда он разжигает во дворе костер и жарит шашлык — баранина на вертеле, вперемешку с ломтиками помидоров и лука, — и мы сидим со слезящимися от дыма глазами и перебрасываем с ладони на ладонь горячие, остронаперченные куски мяса. У Василия каждый вечер гости. Кто-нибудь играет на гармошке, часами одну и ту же заунывную мелодию. Когда Василий выпьет, он пляшет гопака, и тогда весь пол ходит ходуном.
Гриши, который живет в папином кабинете, мы боимся. По воскресеньям он сидит в одних брюках-галифе защитного цвета на опрокинутом гардеробе, который бог весть кто притащил и бросил на грядку анютиных глазок в палисаднике. У Гриши черные усы и набрякшие веки, он сидит, курит трубку, молчит, курит и неприязненно смотрит на нас. Как-то на кухне Василий рассказал: фашисты расстреляли Гришину жену... Фашисты расстреляли его сына... Мама меняется в лице, когда встречает Гришу.
Зимой Василий уезжает обратно в Киев. Он опять будет работать инженером.
Мы голодаем. Мама продает золотые украшения, постельное белье, изящные, старинные фарфоровые статуэтки, которые стоят в стеклянной горке. Она показывает нам скрещенные голубые мечи: мейсенский фарфор. Его собирал ваш дедушка. Если бы он знал... Она не умеет торговаться: приносит мешочек ржи, каравай хлеба, рюкзак картошки.
Летние каникулы. Скошенное поле, воздух над ним трепещет, солнце, пыль, запах соломы и спелой ржи. Мы собираем колосья, босые, низко согнувшись; когда поблизости никого не видно, мы выдергиваем колосья из •сложенных суслонами снопов. Дома, в столовой, прохладно, сквозь щели спущенных жалюзи пробивается розовый отсвет вечерней зари. Стол застлан белой камчатой скатертью, мы едим серебряными ложками грубые полевые бобы. Ули говорит: закрой глаза. А сам быстро перекладывает на мою тарелку две ложки бобов. «Ты — девочка, ты слабее меня». Вечером я сую ломоть сухого хлеба ему под подушку: «Ты — мальчик, мальчики больше едят».
Когда идет снег, мы через день, по очереди, носим одну и ту же пару лыжных ботинок.
Июньский вечер: мы ждем в привокзальном сквере, зеленые кусты глянцевито поблескивают над качающимся на ветру фонарем. Я крепко держусь за Улину руку, когда исхудалый мужчина нерешительно приближается к нам. Он обнимает нас, но лицу его бегут слезы. Незнакомец одет в заношенную военную форму т, когда говорит, шепелявит; оказывается, мы должны называть его папой — да ведь, у него нет ничего общего с тем веселым молодым человеком, который приносил нам шоколадные сигары и сооружал из мягких кресел вигвамы для Виннетоу и Миннегаги.
Взявшись за руки, мы идем позади взрослых, теперь мы должны крепко держаться — против этого, солдата. Мать сказала: «Ребята совсем сели мне на голову». Стало быть, теперь нашим воспитанием: займется вернувшийся из плена солдат, четыре года он знал нас только, по фотографиям, много он в нас понимает, как же...
Произведения
Критика