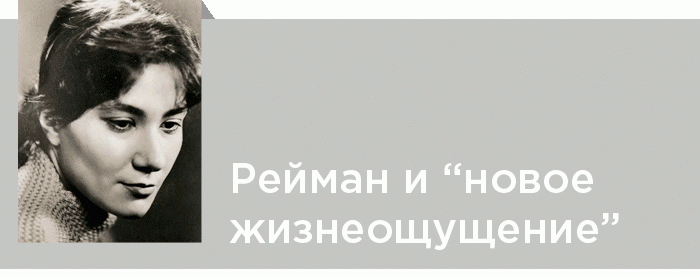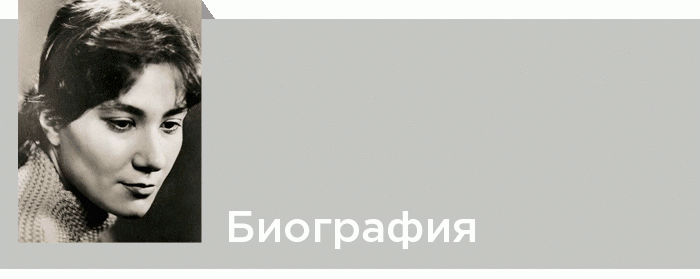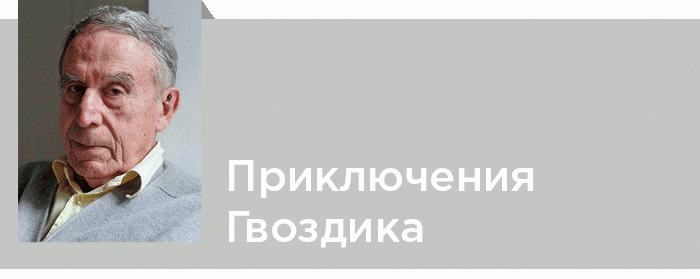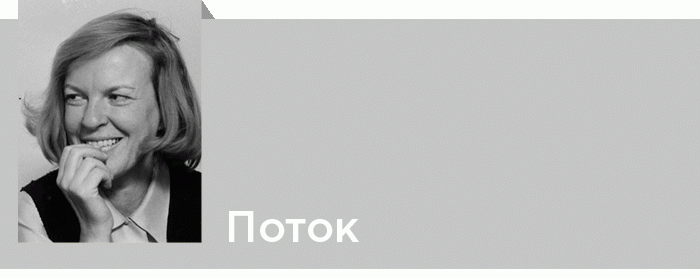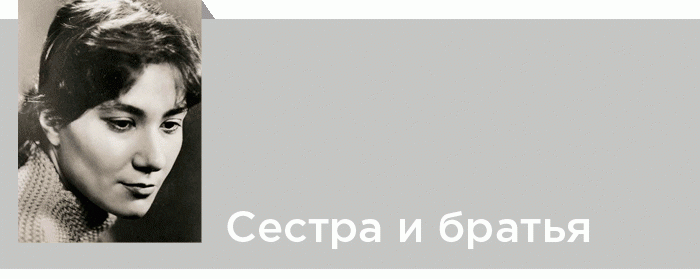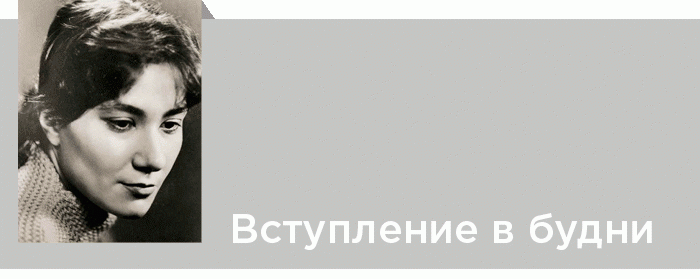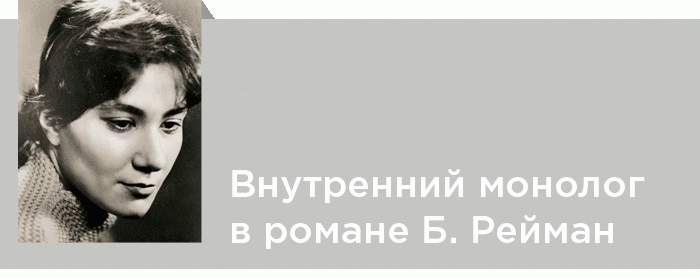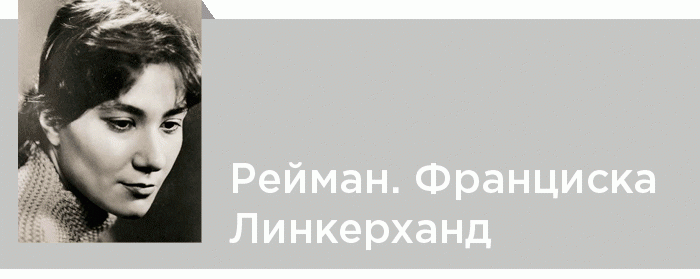Бригита Райман. Франциска Линкерханд
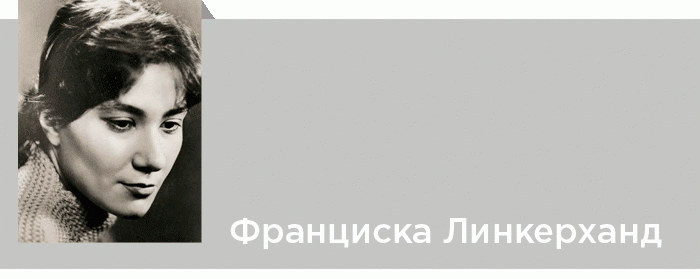
(Отрывок)
1
Ах, Бен, Бен, где ты был год назад, три года назад? По каким улицам ходил, в каких реках купался, с какими женщинами спал? Неужели это всего-навсего заученный жест, когда ты целуешь меня в ухо или в сгиб локтя? Я с ума схожу от ревности... Настоящее меня не пугает... но твои воспоминания, от которых мне не спастись, картины в твоем воображении, которых я не могу увидеть, боль, которую я с тобой не делила... Я бы хотела прожить три жизни, чтобы наверстать то долгое-долгое время, когда тебя не было.
Мой испуг, когда ты сказал, что двенадцать лет назад был однажды в нашем городе, сидел в зале ожидания... а я, в каких-нибудь ста метрах оттуда, в школе — разве я не могла стоять па перроне, разве не могла уже тогда, двенадцать драгоценных лет назад, встретиться с тобой?.. Ах, ты бы меня и не заметил, я училась в девятом классе и была до ужаса уродливой, кожа да кости да шапка волос, я была невинна и впервые влюблена... не в тебя. А спустя семь или восемь лет, снова проездом в нашем городе, ты шел по Старому рынку, шел с женой — кажется, в июле, у нас уже начались студенческие каникулы,— и ты был всего одной из тех пестрых фигурок внизу, на которые я смотрела с лесов на высоте шестого этажа...
Где ты был, когда меня вызвали па экзамен и я чуть не умерла со страху? Почему ты не держал меня за руку тогда, в коридоре университета? Почему не ты сидел у моей постели, когда я болела? Почему не ты танцевал со мной по вечерам в студенческой столовке — низкий барак, жарко, накурено, магнитофон, голос Элвиса, вихлявого короля рок-н-ролла,— не ты пил со мною пиво из одной бутылки? Кто-то другой, уже не помню его лица... Это несправедливо, Бен, так долго быть без тебя, без твоих губ, без твоей маленькой твердой руки, которую ты, когда мы идем рядом, кладешь мне па шею... Сотни одиноких ночей у окна в парк, что зеленел над братскими могилами, а все остальные — кто где: мои родители за границей, Важная Старая Дама умерла, Вильгельм в Дубне, где-то под Москвой, и этот человек в пивной, а может, у девушки, почем я знаю... А где ты был тогда, в мае — цветущие вишневые деревья, проселочная дорога под солнцем,— в последний день войны, когда пришли русские?..
На заре в соседском саду раздались выстрелы. Вильгельм нашел убитых, они лежали на газоне: двое детей, похожая па куклу женщина и главный инженер. Петтингер был славный полноватый молодой человек, он ненавидел военную форму, зато, как форму, всегда носил брюки-гольф, блекло-полосатую рубашку и галстук-бабочку, каждое утро на велосипеде, бодро крутя педали, он отправлялся за город, на прокатный стан, укрытый среди сосен и маскировочных сетей, дочернее предприятие рейнского сталепромышленного концерна... Вильгельм готов был поклясться, что этот милый сосед, нежный отец вечно щебечущего семейства, даже понятия не имел, как держать пистолет.
На лбу маленькой девочки кишели черные муравьи, вишни цвели как сумасшедшие, воздух был полой низкого, возбужденного жужжания пчел. (В последнюю неделю фугаска угодила в бомбоубежище на вокзале. Они работали в резиновых перчатках, пьяные в дым, из первого же пролома на них обрушилась лавина трупов, и Вильгельму стало плохо — он сказал, что это от водки.) Он перевернул женщину, которая лежала, широко раскинув руки, а под нею — грудной ребенок.
Сестра Вильгельма, точно хорек, проскользнула между планками забора. «Катись отсюда!» — крикнул он, схватил ее за руки и за ноги, перебросил через ограду, и она на четвереньках поползла по траве, ругая его на безопасном расстоянии пронзительным девчоночьим голоском.
Днем опять загрохотала артиллерия, фрау Линкерханд в платье из домотканого полотна, напоминавшем монашеское одеяние, с волосами, собранными в пучок почти у самой шеи, бродила по дому и громко молилась. Она смиренно вдыхала доносившийся из передней запах бедности. Хныкал ребенок, за открытой дверью в кухне беженки спорили из-за кастрюли, их перебранка и силезские ругательства эхом отдавались па лестнице.
В голубой комнате у окна стоял Вильгельм и смотрел сквозь жалюзи, полоски света от них ложились на его лицо, на голубой ковер, на медово-желтую мебель. Его растрепанная загорелая сестренка, сидя на корточках, строит в песочнице чудесный сказочный замок с бойницами, башнями, высокими стрельчатыми окнами, изредка в воздухе с воем проносится снаряд — звук, похожий па свист косы,— девочка ничком бросается на землю, а Вильгельм хохочет над хитрым зверьком, что притворяется мертвым, покуда не раздастся оглушительный удар где-нибудь в развалинах центра города — это значит: опасность миновала. Игра повторялась вновь и вновь, согнуться под воющим сводом, опять выпрямиться, и все это с выражением серьезности и усердия па лице; неваляшка, подумал Вильгельм, молодец кроха! В конце концов его раздосадовало ее ничуть не испуганное лицо: она так же ничего не ведала, как мартовский заяц, который но понимает, что шелестящая тень над полем — это канюк.
Вильгельм крикнул из-за жалюзи: «Сию минуту иди домой!»
Франциска сажала лес из хвощей... удивительно красивые маленькие елочки, Бен, но ты этого не знаешь, наверно, ты никогда не играл в саду, вообще, Берлин и задворки... но зато ты, конечно же, знаешь все о хвощах великих времен третичного или юрского периода и о среде, необходимой для жизни ящеров, что наверняка тоже важно... Она сажала лес под стенами замка, ее мокрые грязные лапки деловито сновали взад-вперед. Авторитет Вильгельма, основанный на энергичных и скорых оплеухах, пошатнулся с той ночи, когда он вернулся из города с опаленными волосами, без ресниц, в разодранной коричневой рубашке, на которой уже не было свастики. Он стал шумным, надоедливым и рассеянным — как все взрослые, которые то прогоняли Франциску и на полдня забывали о ней, то с криками искали ее, заключали в объятия и осыпали поцелуями.
Вольная жизнь пришлась ей по душе. Она больше не ходила в школу. Недели две фрейлейн Бирман вела занятия со своим классом в подвале какой-то прачечной, при свечах, в сыром чаду из соседней гладильни. Фрейлейн Бирман, в очках, седая, коротко стриженная, посмеивалась над романтическими пастбищами — будь, как фиалочка во мху, невинна, как немочка, скромна и благочинна... Фрейлейн Бирман повесила над своей кафедрой Фейербахову Ифигению, томящуюся «душой по Греции любимой», поясняла она. Фрейлейн Бирман кружила по своей жизни, покуда ноги ее, ноги в высоких черных ботинках на пуговицах, не увязли в кипящем асфальте. Не стало больше диктантов, выговоров за кляксы или «ослиные уши», и дома никто не напоминал Франциске, что нельзя сутулиться, никто не принуждал ее есть, орудуя ножом и вилкой, не говорил, что нельзя держать книгу под мышкой и следует втягивать маленький круглый, как у негритенка, живот. По ночам она, полусонная, спускалась в бомбоубежище, валилась на нары, просыпала лай зенитных орудий и рождественскую елку, отбой и молитвы.
Линкерханд ввел жену в голубую комнату. Увидев Вильгельма, она зарыдала.
- Бедняжка Нора... в голове не укладывается — только вчера я говорила с ней, она была такая же, как всегда, даже не думала ни о чем похожем... Одному господу ведомо, от чего он ее упас...
Линкерханд смущенно поправлял очки. Ему не за что было упрекнуть себя, к тому же он не верил в россказни о зверствах: он был причастен к газетному делу, добровольно пошел работать к Шерлю,— и страхи жены сердили его — ну можно ли так распускаться при детях.
- Да, непостижимо,— бормотал он,— такой милый молодой человек... Даже в партии не состоял.
- Зверюга,— проговорил Вильгельм.— Сначала он застрелил детей.— Линкерханд горестно покачал головой.— Это было видно по лицу Норы,— холодно пояснил Вильгельм.
Линкерханд снял очки. Своего рода бегство. Он стер ненавистные очертания опостылевшего мира и почувствовал себя в безопасности среди синевы, расплывающейся в солнечных бликах. Лицо его без очков сразу приняло учтивое, несмелое выражение очень близорукого человека, но голос звучал уверенно, даже надменно — таким начальническим голосом он ставил на место своих не в меру самонадеянных служащих, сначала обратив их лица в бесконтурные пятна, когда заверял, что, хотя бояться им нечего, но известные предупредительные меры все-таки должны быть приняты: сожжение неугодных книг, умно выбранные тайники для серебра, фарфора и вина; драгоценности Важной Старой Дамы надежно спрятаны в сейфах городского банка.
- Но ведь город защищают,— воскликнула фрау Линкерханд.
- Благородная, но злосчастная идея коменданта. Превосходный человек, но не слишком умный. Такие становятся героями из-за недостатка дальновидности. — Он схватил ее дрожащие руки и прижал их к своей груди. — Успокойся, моя дорогая. Мы ничем себя не скомпрометировали, так попытаемся же достойно смириться с неизбежностью.
Он поцеловал ее в висок, а Вильгельм, возмущенный обычно строго запретным проявлением чувств, отвернулся. Это было еще противнее запоздалого обращения его матери к богу в приступе религиозности, внезапно охватившей по и бомбоубежище.
Вечером в камине — кирпичном чудище, претендовавшем на сельский уют, обычно, впрочем, не топившемся,— горел огонь; дым выбивало в комнату, но Цоберлейн и Розенберг приятно согревали в холодный майский вечер, вечер, когда и в квартале миллионеров, в белокаменных виллах, порушенных войной, в замках из песчаника — вход только для господ, рододендроны и магнолии,— и в котельных, и в кухнях забрезжили бесславные и плачевные сумерки богов. Холодными оставались только трубы на вилле крейслейтера, неделю назад эвакуировавшегося в западном направлении, после того как он призвал каждого из сограждан мужественно оставаться на своем посту. Он-то был в безопасности и даже слова не мог сказать, ибо провидение, как нас уверяли, неизменно верное нашему фюреру, дезертируя, направило бомбы на мост через Эльбу, на крейслейтера, его машину и чемоданы.
Флекс, Юнгер и все прочие барды, силившиеся теперь доказать свое алиби, были оттеснены на задний план; в первом ряду вновь засияли, в кожаных переплетах, с золотым обрезом, творения Гейне (тогда как в «Книге преданий», которая принадлежала Франциске, составленной Нальдуром, Вельтенеше и Шифф Нагельфаром, было сказано, что автор «Лорелеи» неизвестен), подле Гейне стояли более скромные, в серых коленкоровых переплетах, книги братьев Манн. Линкерханд с почтительным неудовольствием терпел их рядом с великими — Диккенсом, Филдингом, Достоевским. Обо всех, что после них, и говорить не стоило.
Франциска прикорнула за креслом бабушки. Важная Старая Дама, изящная, безукоризненно опрятная, белокожая, выглядела так непозволительно молодо, что ее платье матроны со скромным стоячим воротничком производило впечатление маскарадного костюма, а золотой крестик и смиренно сложенные руки казались легкомысленно кокетливыми. Франциска любила бабушку, ее салат с треской и винные пудинги, ее рассказы о кругосветном путешествии некой Клерхен, которыми она вознаграждала внучку, если та ходила за молоком; любила ее серый шелк, шкатулки, полные черных бархоток, медальонов и других блестящих финтифлюшек, а также ее угрозы, простонародные угрозы: «Ну, погоди у меня, дрянцо эдакое. Я тебе башку с плеч сорву»; любила красное бархатное кресло, всегда поджидавшее Старую Даму, а потому и в этот вечер она укрылась за пим, за серо-шелковой спиной бабушки, никем не замеченная и, бесспорно, здесь нежеланная. На каминной решетке коробились полуистлевшие книги, и жар переворачивал серо-белые, как зола, страницы.
Линкерханд предусмотрительно содрал коленкоровый переплет с книжки с картинками; нитки, скреплявшие страницы, резко, пронзительно затрещали. Своими слабыми, неловкими руками оп захватил пачку страниц толщиной в палец и сказал:
- Жалко, кто знает, будут ли когда-нибудь выпускать такую бумагу, гладкую, блестящую, как шелк... Это еще товар мирного времени.
Бабушка листала роскошный альбом — Гитлер в Берхтесгадене,— и только ее слегка кривившиеся губы выдавали брезгливое удивление непосвященного, разглядывающего в микроскоп омерзительное, хотя и интересное, насекомое: фюрер в Бергхофе, фюрер с овчаркой Принцем, фюрер с белокурой деревенской девчуркой на руках, неизменно па фоне слащаво-рекламного ландшафта, с неизменной улыбкой «отца отечества» под колючими усиками и вдохновенно-пророческим взглядом под комичной прядью волос.
- Чего-чего только нет на свете,— сказала бабушка.
- Говорят, он пал в Берлине,— вставил Линкерханд.
- Во главе своего храброго воинства,— прочувствованно добавила бабушка. Она рассмеялась и прищурила пронзительно черные татарские глазки.— Надеюсь, ты не будешь мне рассказывать, что этот мазила подставил свое бренное тело под эти их «катюши». «Катюша»... тебе когда-нибудь приходилось слышать, как говорят русские? О, я не имею в виду тявканье всяких там Маш и Нин... Перед первой мировой войной, я была еще совсем молоденькой, мы познакомились в Баден-Бадене с одной русской семьей, весьма аристократической, такие образованные люди, мать в совершенстве владела французским, но, право, не было ничего более восхитительного, чем слушать, как они за чайным столом говорят на своем родном языке — музыка, дорогие мои, настоящая музыка, невозможно даже представить себе, что в этом языке есть вульгарные выражения. Вообще-то все семейство было несколько старомодное, девочка, дочь, даже не очень-то опрятная, а уж о няньке лучше и не говорить...
Тем не менее она говорила, терялась в воспоминаниях, что нередко бывало с ней в последнее время, и не то чтобы с тоской, скорее смакуя их, так Фрациска произносила «клубника со сливками», а Вильгельм «котлеты со спаржей». Франциска в полусонном очаровании, казалось, плавала среди маскарадов и раутов, между Годесбергом и Нордернеем. Эти слова, зеленые, как морской ветер, пушистые, как белые страусовые перья, ароматные, как веер из сандалового дерева на уроках танцев, пластинки которого были исчерканы инициалами и вензелями, напоминали пожелтевшие фотографии: девушка в полосатом, как зебра, купальном костюме, тоненькая и раскосая, под рюшами огромного, словно воздушный шар, купального чепчика; всадница, одетая на итальянский манер: коротенький корсаж и нелепейшие украшения,— бочком, по-дамски сидящая на ослике перед декорацией Везувия, окруженная поклонниками в непромокаемых куртках; некий господин Альберт, якобы кузен, в отделанном позументами мундире карнавального генерала, и — смена кадра — он же в солдатской гимнастерке фюрера кёльнского «Стального шлема». «Жертва красных убийц» на катафалке среди венков и лент, а крайний справа на фотографии... самая мрачная личность в семье, Бен, брат Важной Старой Дамы. Он был архитектором-градостроителем и сумасшедшим ревнивцем. Его бедная жена, с опозданием возвращаясь домой, из-за двери спрашивала: «Хозяин уже дома?» — и тряслась от страха, а иногда он уже поджидал ее на лестнице с хлыстом в руке. Она умерла совсем молодой. Видно, у нас это семейное — архитектура и ревность...
Произведения
Критика