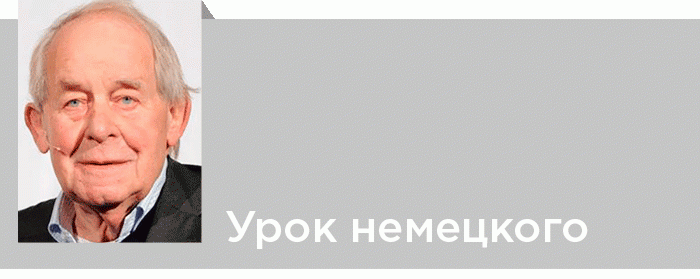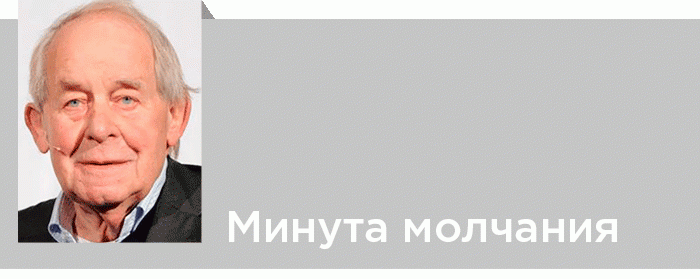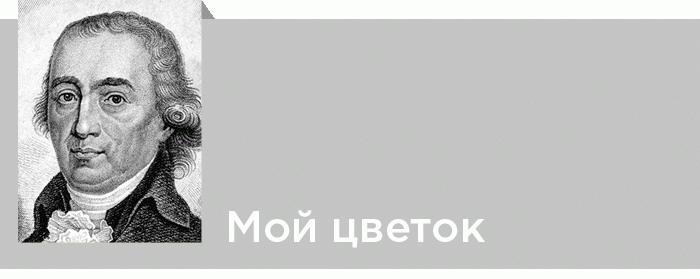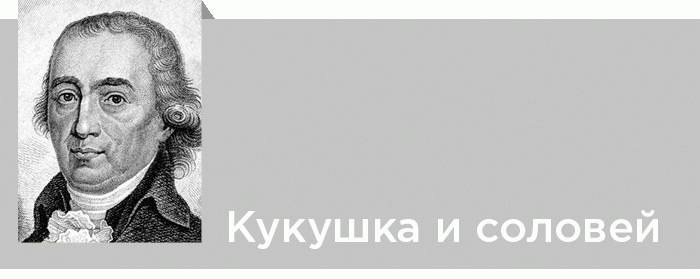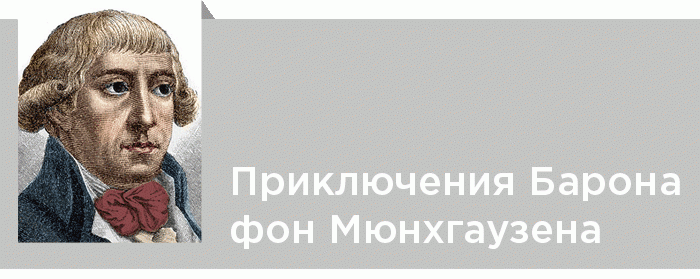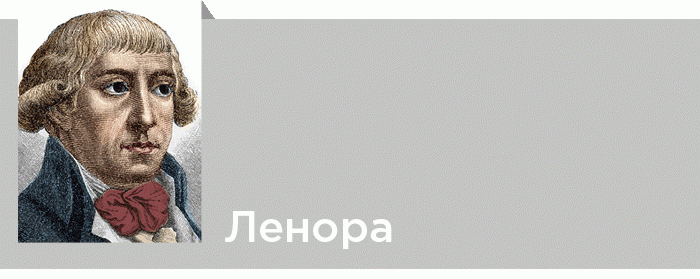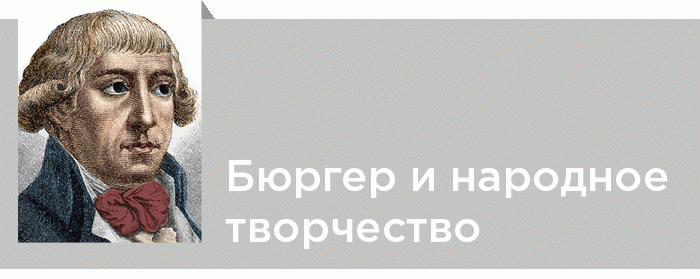Баллады Г. А. Бюргера
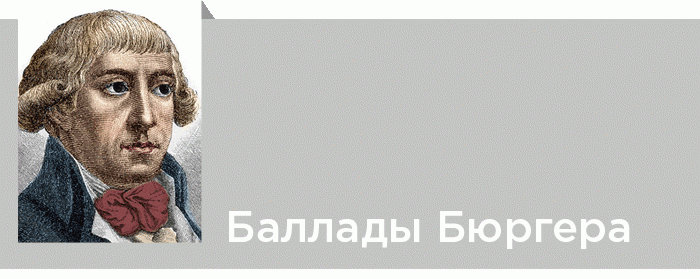
A. З. Раскин
Вторая половина XVIII века в Германии характеризуется нарастанием общего недовольства феодализмом, постепенным формированием буржуазно-демократической идеологии. Это способствовало большей демократизации литературы, усилению интереса писателей к вопросам национальной жизни.
Пламенно и страстно отстаивал идеи демократии и объединения родины Готгольд Эфраим Лессинг. К глубокому изучению национальной истории и народного творчества, к созданию большой литературы на родной почве без подражания иностранным образцам призывал идейный вождь «бури и натиска» Иоган Готфрид Гердер. Представители этого движения смело и решительно боролись против изысканности, условной красивости немецкой салонной литературы, воспитанной на образцах французского придворного классицизма. В своей литературной практике они добивались народности содержания, эмоциональной выразительности, разговорной простоты языка. Лучшие из них окунулись с головой в сокровищницы немецкого фольклора, сделав их живительными источниками для новой национальной и демократической литературы.
Естествен был интерес к балладам и романсам, как наиболее яркому проявлению народной поэтической стихии. Однако жанр баллад, бурно процветавший в XV-XVI вв., переживал в это время упадок. На базарных площадях можно было услышать искаженные варианты старинных баллад, уличные песни балладного характера («Bänkelsang»), изобиловавшие кошмарными историями о преступлениях, убийствах, природных катастрофах и всякого рода рассчитанными на внешний эффект сенсациями. К ним то и обращаются некоторые немецкие писатели, ошибочно принимая их за образцы немецкой народной поэзии. В действительности же вся продукция «бенкельзанг» имела весьма далекое отношение к немецкой народной поэзии. Эта низкопробная литература находилась под влиянием идеологии господствующих классов, которые стремились приспособиться к запросам низов, чтобы привить им свою мораль и свои взгляды. Отсюда характерная для уличных песен дидактическая концовка, большей частью религиозного характера, в отличие от народной баллады, как правило, избегавшей какой бы то ни было морализации.
Стремясь к народному тону, поэт И. В. Глейм одним из первых обращается к уличным песням. Он пишет в духе бенкельзанг ряд романсов, искренне убежденный, что он возрождает забытый вид народного творчества. Но как просветитель, Глейм не мог не относиться критически к тем небылицам и суевериям, которыми изобиловал бенкельзанг. Отсюда характерный для романсов Глейма комизм, свидетельствующий об ироническом отношении автора к материалу.
Сделав романс своим излюбленным жанром, Глейм обратился к его первородным образцам: к испанским романсам, песням лиро-эпического характера, напоминающим балладу.
С испанскими романсами Глейм познакомился через французского поэта Монкрифа (1687-1770). Монкриф писал иронические романсы в духе испанского поэта Дон-Луиса де Гонгора (1561-1621), известного своей вычурной и искусственной поэзией. Гонгора в ранний период своего творчества записал ряд грациозных и близких к народной традиции романсов. Но Монкрифа больше всего привлекали творения Гонгоры более позднего периода, отличавшиеся бурлескно-ироническими интонациями. С романсами такого типа и познакомился у Монкрифа Глейм. Они укрепили в нем ошибочное мнение о том, что романсу обязательно присущ шутливо-иронический тон. Так с легкой руки Глейма утвердился в немецкой поэзии жанр романса, содержанием и формой напоминающий уличные песни сенсационного характера. По стопам Глейма пошли Левен, Гельти, Шибелер и другие.
Из творений Глейма наиболее популярным был романс «Мариана». Успех его, вероятно, можно объяснить наличием элементов критики, в частности буржуазного брака. Лучшие романсы Глейма сыграли определенную положительную роль: в присущем им бурлеске были зачатки социальной сатиры, которые затем разовьются в балладах Бюргера и его последователей. Однако романсы Глейма и его сверстников уводили читателя от настоящей народной поэзии. В них преобладали сенсации, эротические истории с фривольным привкусом. Народное восприятие определялось школой Глейма как нечто очень примитивное, и в соответствии с этим поэты, стараясь угождать вкусам отсталой массы, строили свои романсы применительно к несложной технике уличного певца. Грубая шутка преподносилась как нечто» в наибольшей степени отвечающее духовным запросам народного читателя.
Однако не все ученики Глейма полностью придерживались взглядов своего учителя. Шибелер, например, первый отметил, что элемент комического вовсе не обязателен для романса. Мысль Шибелера развил Г. А. Бюргер, и именно он поднял бунт против традиций школы Глейма, открыв путь для нового, более правильного, понимания истинной сущности народной поэзии.
Готфрид Август Бюргер был одним из немногих революционных демократов в Германии XVIII века. Выходец из самой гущи народа, с детства познавший все тяготы жизни низов, он до самой смерти оставался горячим защитником угнетенной массы и непримиримым врагом правящих классов Германии.
Сын небогатого сельского пастора, Г. А. Бюргер с трудом пробивал себе дорогу в жизнь. Нужда, нищета и лишения преследовали его и на школьной скамье, и в стенах Геттингенского университета, где он учился, в конторе, где он работал судейским чиновником, и даже за университетской кафедрой в Геттингене, куда ему удалось поступить в качестве преподавателя эстетики.
Уже в студенческие годы формируется его плебейская оппозиционность по отношению к немецкому феодально-княжескому правопорядку. Он примыкает к содружеству молодых поэтов и писателей в г. Геттингене, «Хайнбунду» («союз рощи»), кружку энтузиастов, вождем которых был Ф. Г. Клопшток. Бюргер разделял интерес «Хайибунда» к социальным вопросам, увлечение старинной народной поэзией, но из трех девизов союза — «добродетель», «религия», «отечество» — он признавал, пожалуй, только последний. Бюргер не был слепым поклонником Клопштока и в отличие от других членов союза критически относился к пиетизму творца «Мессиады», симпатизировал Виланду, прозванному членами «Хайнбунда» из-за его горячей любви к античности «безнравственным поэтом». Бюргера как раз привлекали языческое вольнодумство Виланда, его сенсуализм, материалистически-чувственное восприятие мира. В то время как его друзья видели свой идеал в английской пуританской революции, Бюргер преклонялся перед энциклопедистами и восторгался французской революцией 1789 года.
Примкнув к движению «Буря и натиск», поэт занял в нем наиболее передовые позиции. С первых шагов своего творчества он выступал против косной религиозной морали и аскетических идеалов. Его застольные песни, любовная лирика были насыщены радостным мироощущением и языческой чувственностью, неприязнью к официальному христианскому мировоззрению.
Интерес к социальным вопросам характеризует Бюргера уже на раннем этапе его творчества. Вышедшее в
[…]
Революционный патриотизм Бюргера предохранил его от шовинизма, от апологии немецкой мещанской косности, от уступок правящим классам Германии, сделал его бескомпромиссным и непримиримым врагом реакции. Гейне имел все основания назвать Бюргера подлинным «гражданином».
Высокая гражданственность, демократизм Бюргера определили основные положения его эстетики, его понимание фольклора, народность его творчества.
Эстетика Бюргера многими нитями связана с эстетикой штюрмеров и Руссо, но она наполнена более глубоким демократическим содержанием.
В известном письме к Даламберу (1758). Руссо выдвинул новый критерий искусства: «Зрелища создаются для народа, и только по их воздействию на него можно судить об их абсолютных качествах». Народ — законодатель не только в области искусства, но и театральной критики, эстетики, — гласили положения Руссо. Искусство должно быть оценено в зависимости от того, насколько оно отвечает интересам народа. Это положение было развито штюрмерами. Если во времена Лессинга еще было принято придерживаться законов античного искусства, то теперь закономерности искусства стали определять народными вкусами. Художник должен максимально приспособиться к народному восприятию и его представлениям. Кредо своей эстетики Бюргер сформулировал так: «Всякая поэзия должна быть народной — это печать его совершенства». Определение искусства и задач, стоящих перед ним, вытекает у Бюргера из признания единственным критерием его ценности способности воздействовать на народ. В статье «О популярности поэзии» Бюргер говорит о поэзии как образном воспроизведении жизни, одухотворенном видением поэта и согретом его сердцем. Литература проникновенная, страстная, одушевляющая жизнь большим, глубоким чувством, доступна всем, кто обладает воображением и сердце. Поэт отвергает всякую попытку отнести искусство к предметам роскоши, доступным лишь избранным. Подлинная поэзия всенародна, она «должна восторгать не только даму, проводящую время за туалетным столом, но и дочь природы за прялкой».
Бюргер считал правомерным использование народной фантастики в целях большего приближения искусства к мировосприятию народа. В статье «Из книги Даниэля Вундерлих» он вступил в полемику с просветителем Николаи, который пытался изгнать из литературы все, что связано с народным творчеством. Поэт высмеивает косный рационализм Николаи и его коллег и призывает внимательно отнестись к плодам народного воображения. «Для того, чтобы вести задушевный разговор с народом, — писал Бюргер, — необходимо знакомиться с ним во всем, изучить его фантазию, его чувствительности, чтобы наполнить первую соответствующими картинами, а для второй найти нужный калибр».
Бюргер ссылается на Шекспира, который достигал большой действенности использованием фантастических образов, глубоко укоренившихся в народном представлении.
То, что близко народному воображению, волнует, вызывает соучастие, активизирует. Этой цели должны отвечать все стилевые формы и художественные средства. Поэт должен стремиться к наглядной ощутимости поэтического образа. Образ должен быть зримым, осязаемым, как в народной поэзии. Настоящий поэт должен учиться этому искусству у песенного фольклора.
Но где искать подлинные истоки народного творчества? К правильному ответу на этот вопрос Бюргер пришел не сразу. Поэт начал как последователь Глейма. Его первая баллада «Принцесса Европа» была написана в манере бурлескно-пародийной поэзии. Но уже здесь пробивалось нечто новое, бюргеровское: ирония местами обретала социально-обличительный характер и была направлена против нравов и обычаев придворного общества.
Бюргер смутно чувствовал, что не в уличной балладе с ее примитивом, не в глеймовских романсах с их грубоватым комизмом можно найти истоки подлинной народной поэзии. В это время ему в руки попал знаменитый сборник английских баллад, изданных Перси в 1765 г. Он помог поэту найти путь к народу и его поэзии. Народная баллада предстала перед ним в ее настоящем, неискаженном виде. Сборник английских баллад побудил поэта обратиться к жемчужинам немецкого поэтического фольклора.
В своих исканиях Бюргер не был одиноким. В это же время И. Г. Гердер, ссылаясь на собрание песен Перси, призывал своих соотечественников обратиться к богатейшим источникам немецкого фольклора. Молодой Гёте, следуя призыву своего учителя, с жадностью припал к родникам народной поэзии, и вскоре появились в свет первые шедевры его лирики, взлелеянные богатой фольклорной традицией.
Статьи Гердера «Оссиан и песни народов» и его предисловие к «Песням разных народов» нашли живейший отклик у Бюргера. Близким и понятным поэту было выступление Гердера против опошления народной песенной традиции, против «новейшего немецкого романса», исполненного «низменных, затрепанных, вульгарных острот и каламбуров».
«Какая радость... что такой человек как Гердер ясно и определенно говорит о лирике народа... именно то, что я смутно давно думал и чувствовал», — писал Бюргер своему другу Бойе в 1773 году.
В
В этих словах содержалась не только критика школы Глейма, но и программа действий, призыв к новому, более правильному подходу к фольклору. Здесь были изложены некоторые теоретические предпосылки того новаторства, которое уже намечалось в художественной практике поэта.
Созданные в начале
Обе баллады были подступами к написанной немного позже «Леноре». Бюргер демонстрировал в них свой отход от господствовавшей романсной традиции. Он писал, что ему больше не нравится «шаловливая» и «похотливая поэзия», так как она не достойна выполнять «почетной миссии наставницы жизни».
Чем дальше, тем больше росло убеждение поэта, что народная поэзия должна стать основой для большой национальной и демократической литературы, живо откликающейся на нужды и запросы своего времени. Отныне жанр баллады станет под пером Бюргера могучим средством для изображения страданий и чаяний народа, его гнева и возмущения, его светлых надежд на будущее. Старинные предания наполнятся злободневным животрепещущим политическим содержанием.
В творческом подходе к фольклорной традиции, в умении, опираясь на нее, создать новую, современную поэзию, насыщенную социальной проблематикой, и заключалось новаторство Бюргера. Оно уже проявилось в «Леноре», произведшей буквально революцию в литературе, и положившей начало литературной балладе не только в Германии, но и во всей мировой литературе.
«Ленора» возникла вскоре после того, как Бюргер познакомился с собравшем английских баллад Перси. Начало знакомства с ними относится к
Баллада писалась в период с весны до глубокой осени
Der Mond scheint helle, ,
Die Todten reiten so schnelle,
Feines Liebchen, graut dir nicht?
„Wie sollte mir grauen. Ich bin ja- bei dir“.
По-видимому, поэт знал один или несколько вариантов этой широко распространенной в народе песни.
С первого взгляда может показаться, что «Ленора» делится на две почти контрастирующие части: первая, сугубо реалистическая, поражающая своим драматизмом, живописной бытописательной наглядностью, вторая — фантастическая, кошмарная, почти мистическая. На деле же обе части настолько органически сплетены одним глубоким идейным замыслом, что составляют единое гармоническое целое.
Баллада начинается с вопроса Леноры, проснувшейся после тяжелой ночи на заре: «Иль не верен ты, Вильгельм, иль ты умер?» Читатель сразу включается в атмосферу тревоги и печали, которой проникнута баллада. Вопрос производит впечатление назойливой мысли, долгое время преследующей женщину. После этого следует почти спокойный авторский рассказ о том, как
Вильгельм «с войском Фридриха весной ушел под Прагу в смертный бой и ни единой вести не шлет своей невесте», о том, как монархи «смирили гнев и гордый нрав, и мир пресек раздоры», и как «спешат и стар и млад на стены, на заставы встречать ликующих солдат, любимцев бранной славы».
Спокойное повествование сменяется волнующими, насыщенными глубоким трагизмом строками. Среди ликующих счастливцев, женщин и детей, заключивших в объятия вернувшихся с фронта родных и близких, появляется Ленора, вопрошающая, молящая, ищущая любимого человека. Она не нашла долгожданного счастья, и когда все ушли, осталась одна на улице и,
Разметав волос волну,
Она в смятенье диком
На землю пала с криком.
Так постепенно нагнетается драматическое напряжение баллады. До возвращения солдат с фронта Ленора жила надеждой, которая придавала ей силы терпеть свою горькую долю. Теперь годами сдерживаемая боль, отчаяние и гнев вырываются наружу.
Ленора восстает против бога, того бога, которого она с детства привыкла считать добрым и милосердным. Бог обманул ее, и она в нем усомнилась.
Реплики Леноры лаконичны по сравнению с многословными увещеваниями матери, напоминающими избитые церковные тирады, но они категоричны и убедительны. Ее резкое, продиктованное суровой правдой жизни «нет» опрокидывает материнское слепое и лживое «да». Ленора отклоняет философию смирения и непротивления.
[…]
Страшный вопль отчаяния и горького скептицизма слышится в несколько раз повторяющихся, словно назойливый рефрен, словах Леноры:
Hin ist hin! Verloren Ist verloren!..
Der Tod, der Tod ist mein Gewinn!
Любовь или смерть — другой альтернативы нет.
Но Ленора не желает сразу сложить оружие. Она не хочет расстаться с иллюзией счастья. Она продолжила свой спор с богом и после, когда очутилась дома. Появление любимого, хотя и таинственное и непонятное, возродило надежду.
Образ молодого человека, вернувшегося из царства небытия, чтобы потребовать от жизни то, что безжалостно у него похитили, очень искусно вплетается Бюргером в бунтарскую ткань баллады. Погибший на фронте воин явился, чтобы отпраздновать день своей свадьбы, чтобы испытать с любимой те радости, которых их лишила война. В картине ночного путешествия продолжает звучать тема поруганной любви и мятежного протеста. Она слышится в пропитанных горечью, тоской и иронией словах мертвеца о свадебном хороводе, о предстоящем слиянии влюбленных в смерти. Она ощущается в нежном лепете Леноры, горячо обнявшей любимого, в трепете ее воскресших надежд, помогающих одолеть обуявший ее страх. Волна могучего порыва к счастью захлестывает обоих.
Но Бюргер оказался непоследовательным, изменил своему замыслу в конце баллады, уступил церковной традиции и внес тем самым в свое произведение противоречие.
В многочисленных народных балладах на мотив «Леноры» любовь одерживает победу над смертью. Гибель женщины нигде не трактуется как наказание за ее богохульство. Финал «Леноры» Бюргера явился данью религиозной традиции.
Вернувшийся жених, который воспринимался нами на протяжении всей баллады как образ-символ, дополняющий образ Леноры, обретает в финале другой облик. Он превращается поэтом в оружие небесного возмездия, в мстителя с «серпом и песочными часами», карающего Ленору за то, что она подняла голос против бога. Мораль гласит:
Терпи! Пусть горестен твой век —
Смирись пред богом человек!
Прах будет взят могилой,
А душу бог помилуй!
Передовые люди Германии, восторженно встретившие «Ленору», были недовольны ее финалом. Гердер упрекал Бюргера в «опасном смешении магических и христианско-религиозных представлений, которое приводит в финале к диссонансу между просветительским и ненародным».
В «Леноре» в полной мере проявилось большое художественное мастерство Бюргера.
В основу большинства баллад Бюргера легли уже известные сюжеты, но это не мешало им оставаться оригинальными произведениями поэта. Старинные источники обрели у Бюргера новую жизнь, наполнились дыханием современности.
Одновременно с «Ленорой» создавалась баллада «Дикий охотник», но она вышла в свет в
В основу баллады положено старинное предание, которое было знакомо поэту еще с детства. Древние поверья были использованы Бюргером для создания картины современной деревни, для изображения страданий крестьянства, изнывающего под гнетом дикого произвола кровожадных помещиков.
Поэт рассказал об одной из наиболее распространенных прихотей дворянства, об охоте, причинявшей огромные бедствия крестьянам. Пользуясь богатейшей народной образностью, поэт создал произведение, потрясающее своей эмоциональной силой и выразительностью.
Баллада искусно построена на контрастах. На фоне тихого солнечного утра выступает резким контрастом бешеный разгул страстей яростных охотников, окруженных стаей жадных псов; дикие крики, свист кнутов, лай собак заглушают благочестивое пение мирных прихожан.
Противопоставлены далее два начала: добра и зла, воплощённых в образах двух рыцарей, сопровождающих дикого охотника (оригинальное развитие образов народных преданий — доброго и злого ангелов). Спутник справа — на белом коне (белый цвет — символ мира, добра, благоволения), слева — на огненно-красном коне (цвет, символизирующий войну, зло, кровопролитие). Спутник справа пытается остановить дикую охотничью прыть, настроить людей на мирный лад, предотвратить преступления; спутник слева разжигает страсти, подстрекает ко злу, сеет раздор и гибель. Так создается основное настроение баллады: мир красив, и человек мог бы быть счастливым в нем, но мрачные силы губят счастье, приносят разрушение и смерть.
В центральной части баллады основной конфликт обретает конкретное социальное содержание. С одной стороны, грозная опустошающая сила тех, кому все дозволено, в чьих руках власть и все права, с другой — «зверьки лесов, долин, равнин», прячущиеся «в кустах, хлебах»; бедный селянин, умоляющий пощадить его жалкую ниву и за это до крови избитый хлыстом, пастух, загрызенный вместе со своим стадом рассвирепевшими псами по команде графа; мирный отшельник — жертва коварных издевок насильников.
Фантастический элемент, дающий возможность автору заострить образы, слегка гипертрофировать их, способствует художественному обобщению. Образ дикого охотника и хищной стаи его спутников обретает характер страшного символа феодального произвола и бездушной морали дворянского общества. Охота предстает как смерч, как пожарище, испепеляющее все на своем пути, как природная катастрофа, как мрачная, почти сверхъестественная сила. Блестяще поэт передает нарастание охотничьей страсти, превращающейся постепенно в неодолимую жажду крови, уничтожений, жертв.
Великолепен финал баллады.
В момент, когда яростное исступление охотников достигло своего апогея и дикие крики и злорадный смех насильников слились со стонами несчастных жертв, все сразу оборвалось. Бешеный разгул человеческой свирепости сменился гробовым молчанием, в которое мгновенно погрузилась вся природа, весь мир. Все, что до этого приходило в трепет от одного только крика всевластного графа, включилось в зловещий заговор молчания против него.
В испуге смотрит граф вокруг,
Кричит — не слышен крик его.
Коня хлестнул — не слышен звук,
Трубит — не слышно ничего.
Он шпорит, сатаной клянется,
И конь стоит, не шелохнется!
Картина возмездия выдержана полностью в традициях народных баллад. Гигантский кулак повис над разбойником как дамоклов меч. Отныне граф обречен без устали носиться в диком исступлении, преследуемой дьяволами и всеми силами ада.
Народная жажда мщения, неуклонная вера в неизбежность победы над силами зла и угнетения нашли здесь яркое и сильное выражение. Как и в «Леноре», Бюргер добивается в этой балладе наибольшей зримости и наглядной ощутимости картин. Как и так, поэт здесь уделяет огромное внимание звуковым эффектам, слуховому восприятию образов. В письме к Бойе Бюргер писал:
«Ты должен услышать в моей песне и бешеный галоп дикой орды, и крики, и лай собак, и стук рогов, и хлопанье бичей, и ты должен быть настолько смят этим шумом, словно это происходило в действительности».
И читатель на самом деле все это явственно слышит:
Risch! ohne Rast, mit Peitschenknall, Mit Hurrido und Hussasa,
Mit kliff und klaff und Hörnerschall Verfolgt’s der wilde Schwarm auch da.
Звукоподражание, звукопись, внутренние рифмы — все мобилизовано поэтом для создания акустического образа. Повторение различных гласных в рифмах помогает поэту передать контрастность картин. Например, повторяющееся О в картине охоты и более плавного А в картине воскресного утра:
Der wild und Rheingfaf stiess in Horn:
„Hallo, hallo, zu fuss und Rose!“
Sein Hengst erlhob Sich wiehernd vorn,
Laut rasselnd stürtzt ihn nach der Tross;...
Vom strahl der Sonntagsfrühe war,
Des hohen Domes Kuppel blank,
Zum Hochamt rufte dumpf und klar
Der Qlockeu ernster Feierklang.
Если в балладе «Дикий охотник» демократиям Бюргера проявляется преимущественно в глубокой неприязни к феодально-княжеской тирании и в центре ее образ феодала-насильника, доведенный до зловещего гротескного символа, а люди из народа являются лишь оттеняющим фоном, то в «Песне о благородном человеке» выступают на первый план симпатии поэта к простому человеку, который и является ее главным героем.
Вся баллада — гимн простолюдину, который с риском для жизни выполняет высокий долг человека. В герое своей баллады, крестьянине, поэт увидел нравственное здоровье народа, присущие ему гуманность и благородство.
Поэт искусно подготавливает читателя к знакомству с героем, о котором «стих поэта должен греметь как колокол». Появление графа и его «гуманный» жест могут навести на мысль, что он и есть тот достойный воспевания герой, о котором говорится во вступлении. Но образ графа тускнеет, его благотворительный шаг, продиктованный богатым содержимым его кошелька; выглядит жалким щегольством по сравнению с величием подвига простого человека, которым двигало только веление большого человеческого сердца!
С тонкой, едва уловимой иронией изображен граф. Автор искусно играет словом «brav». Подъехавший верхом благородный граф держит в руке кошелек. Поэт прибегает к распространенным в народной поэзии риторическим вопросам, как бы настораживающим слушателей, подготавливая их к чему-то неожиданному, сенсационному:
— Но что он держит, ввысь подняв? Чем машет?
И следует ответ: «Полным кошельком!»
Чем бравирует граф? Конечно, не храбростью, а кошельком/ Чем рискует он? Конечно, не жизнью, а лишь долей своих богатств.
Но не только храбрость графа не выдержала пробу. Его доброта и щедрость оказались на поверку весьма сомнительными в сопоставлении с настоящим благородством.
Снова — авторский вопрос, как бы обращенный к читателям и призывающий их оценить двух людей и два поступка, и снова — та же тонкая, едва уловимая ирония по отношению к графу.
Своим ответом крестьянин морально уничтожил графа, привыкшего разменивать честь и совесть на деньги. Жалкой оказалась «доброта» графа перед полным бескорыстием человека, всегда готового жертвовать собой ради других! А сколько скрытого презрения и сознания морального превосходства в словах крестьянина «я совесть, граф, не продаю» и в его гордом уходе, «повернувшись к графу спиной»! (в оригинале: «и, повернувшись спиной, зашагал прочь»).
Баллада написана необычайно просто. Бюргер здесь также прибегает к звукоподражаниям и акустическим эффектам, но без чрезмерного увлечения ими, что местами замечалось в «Леноре» и «Диком охотнике». Баллада эта более близка к народной своей задушевностью. Ее лирическое звучание достигается непосредственным включением поэта в повествование, риторическими вопросами, восклицаниями, репликами, эмоциональными комментариями:
О том, чей дух высок и смел,
Греми, как колокол, мой стих!
И сам я счастлив, что воспел
Того, чей дух высок и смел!
Ну что ж, им двигал злата звон?
Когда б не графский кошелек,
Ужель не сел бы он в челнок?
Диалог лаконичен и очень выразителен. Картины наглядны, пластичны. Как удачно, например, изображение нарастания разлива, разгула стихии! Поэт мобилизует весь арсенал изобразительных средств, чтобы заставить читателя не только увидеть картину разъяренной природы, явственно услышать гул надвигающегося смертельного вала, но и пережить вместе с людьми, которым угрожала гибель, стремительное нарастание тревоги и ужаса.
Глубоким сочувствием к простому человеку и ненавистью к гнусной морали феодального общества проникнута баллада «Ленардо и Бландина». Положив в основу известную новеллу Боккаччо («Декамерон»), поэт усилил ее антифеодальную сущность. В образе высокородного принца, сватающегося к Бландине, нетрудно уловить типические черты немецкого владетельного князя. Трагедия двух влюбленных, обреченных на гибель из-за разделяющих их сословных различий, поднята поэтом на высоту большого обвинительного акта против всей феодальной общественной системы.
Подкупает поэтический и в то же время героический образ Бландины, девушки, сумевшей пренебречь богатством, роскошью и самой жизнью во имя большого, всепоглощающего чувства любви. Потрясает эпизод предсмертной свадебной пляски обезумевшей от горя девушки. В ее исступленном призыве танцевать свадебный танец в момент, когда ее ожидает смерть, слышится безграничная боль, грозное проклятие обществу. В резких, грубых, бичующих народных словечках и оборотах, которыми изобилует речь девушки, доведенной до высшего предела отчаяния; поэт передал боль и гнев народа, его жгучую ненависть к правящим классам.
В художественном отношении «Ленардо и Бландина» уступает рассмотренным выше балладам. Не всегда Бюргер сохраняет народный тон. Кое-где ощущается характерное для бенкельзанга стремление к мелодраматическим эффектам. Некоторые места немного растянуты, отдельные эпизоды искусственны, даже немного надуманы. В изображении любви поэту не всегда удается избежать манерности, чуждой народной поэзии.
В балладах «Граф Вальтер», «Похищение», «Дочь пастора из Таубенхайна» Бюргер изображает трагедию женщины.
Может быть, Бюргеру не всюду удалось полностью придерживаться чеканного, сдержанного и лаконичного стиля народной баллады, но как нигде, он передал ее дух, присущий ей социальный накал, глубокую человечность, подлинный трагизм, суровую правдивость.
Как отмечалось, Бюргер продолжил на начальном этапе своего творчества традиции бурлескно-комического романса. К этому жанру он обращается и позже, когда создает свои наиболее известные серьезные баллады. Мы вскользь отметили, что даже в первых балладах этого рода есть что-то новое, а именно, юмор и пародия Бюргера имеют социальный, порой даже политический смысл. Поэт расширил рамки жанра, ввел сюжеты из повседневной жизни, социальную тематику, бурлеск заменил юмором и сатирой. «Похищение Европы» является не только подражанием комической уличной балладе, но заключает в себе и элемент пародии на нее. Баллада явно высмеивает придворные нравы.
В написанных позже балладах комического характера сатирические интонации усиливаются. Этот жанр получает у Бюргера новое качество. Его шутка получает, в отличие от безобидных и большей частью фривольных острот Глейма и его последователей, социальную и политическую нагрузку. Глеймовский романс побудил поэта искать истоки этого жанра в немецкой народной поэзии. И он их нашел в изобилии. Народная сатирическая поэзия помогла Бюргеру создать новый тип обличительной баллады, которая затем станет образцом для аналогичных баллад у многих поэтов и, в первую очередь, у Г. Гейне.
Возьмем, к примеру, балладу «Фрау Шнипс». Старинный английский сюжет (баллада из сборника Перси «The Wanton Wife of Bath») был использован поэтом для создания смелой пародии на священное писание. Средневековый сюжет о грешнике, попавшем в рай (например, известное фаблио о «виллане, который тяжбой приобрел рай») наполнился едкими и злыми насмешками над церковными учениями. И папаша Адам, и праотец Яков, и Лот, и Юдифь, и царь Давид, и царь Соломон, и пророк Иона, и святая Магдалина, и апостолы — весь «личный состав» старого и нового завета был настолько пристыжен женщиной легкого поведения, фрау Шнипс, что ее пришлое» пустить в рай, ибо порочность ее затмили своими грехами святые отцы.
Баллада написана сочным народным языком, изобилующим шутками и остротами. Портреты святых грешников настолько ярки и убедительны, что под ними легко угадать земных святош, немецких церковников.
Большой популярностью пользуется юмористическая баллада Бюргера «Князь и аббат». Источником послужила английская политическая баллада, изображавшая борьбу за власть в XVI-XVII вв. Характерно, что поэт отклонил вариант этой баллады, опубликованный у Перси («King John and Abbat of Canterberry»), в котором ощущаются католические симпатии и ненависть к светской власти: Бюргер рисует образ короля в духе народной балладной традиции как доброго, деятельного и мудрого народного правителя, острие же сатиры направлено против болтливого, праздного аббата.
На первый план выдвигается яркий образ умного крестьянина, целиком выросший из народных шванков и баллад. Из фольклора заимствована и положенная в основу баллады загадка.
[…]
«Князь и аббат» — совершенно оригинальное произведение Бюргера, подкупающее подлинно народным юмором и сатирой.
Баллада «Серый костюм и паломница», в основу которой положен сюжет английской баллады «The Frim of Orders gray» из сборника Перси, отличается ярко выраженной антиаскетической направленностью. И здесь Бюргер вполне оригинален и следует традициям немецкой народной баллады аналогичного характера (например «Монахиня», «Беглый монах» и др.). Любовь торжествует победу над религиозно-аскетическими догмами. Молодые люди сбрасывают монашеские одежды, нарушают церковный обет и отдаются полностью своему чувству.
Героиня баллады, паломница, торжественно восклицает: «Слава богу! Конец тоске и боли! Добро пожаловать, радость! Приди в мои объятья, милый, и только смерть нас сможет разлучить!»
И в этом жанре, жанре комической баллады, Бюргер выступил как новатор, как прокладыватель новых путей.
Конкретный анализ ряда баллад Бюргера позволяет нам определить некоторые особенности его творческой манеры. Они непосредственно вытекают из основных положений его эстетики.
Как уже отмечалось, главным критерием настоящего искусства поэт считал верность природе, непосредственность и жизненность ее воспроизведения. Образцы такого искусства он находил в народной песне, постоянно учась, по его признанию, у народа таинствам поэзии, прислушиваясь к «волшебному звуку баллад и уличных песен под липами в деревне, на лугу, где сушат белье, за прялкой, на крестьянских посиделках».
Устное песенное творчество народа поражало Бюргера силой своей зримой и звуковой действенности. В своих балладах он добивался той «дикости», «живости» и «свободы», которые, по мнению Гердера, создают обаяние народной поэзии. Поэт как бы всегда ощущал присутствие массы слушателей, памятуя девиз Гердера: «Песня требует массы, созвучия многих: ей нужно ухо слушателя и хор голосов и душ».
Бюргер рассказывает картинно. Образы наглядно ощутимы, даже когда они фантастичны. Поэт при этом не гонится за особы ми, надуманными поэтическими картинами, он их берет из по вседневной жизни, стремясь прежде всего к тому, чтобы они бы ли доступны народному восприятию.
Большое значение Бюргер придает световым и цветовым эффектам, часто играет светом и тенью, нюансами и оттенками красок. Но особенно чувствителен поэт к звуковой стихии образа (примеры нами приводились выше). Большой эмоциональной силы достигает Бюргер умелым использованием ассонансов, повторов сходных гласных для передачи оттенков настроений, чувств, драматических событий.
Даже в ритмике поэт стремится достичь наибольшей звуковой выразительности. И здесь он верен наставлениям Гердера и ведущим положениям своей эстетики.
«Одинаковые начальные слоги, симметрично расположенные в стихе, — писал Гердер, — словно удары, отбивающие ритм походного марша воинственной дружины. Одинаковые начальные буквы как бы служат сигналом, они звучат гулко, как щит, приставленный к губам воина-барда. Перекликающиеся двустишия, и отдельные строки; одинаковые гласные; слоги с созвучными согласными: вся эта ритмика стиха так искусна, так стремительна, так точна, что нам, книжникам, не легко разобраться в ней глазами. Однако не думайте, что ритмика эта была так трудна, для тех живых народов, которые ее не читали, но слышали, с младенчества слышали и сами песни — ведь на ней воспитывался их слух».
В своих балладах Бюргер часто прибегает к этим особенностям ритмики устной народной поэзии. Его излюбленный размер — распространенный в народной песне ямб, к которому, по словам Гердера, «больше привыкло немецкое ухо». В балладах Бюргера преобладает четырех- или пятистрочная ямбическая строфа.
Ориентация на поэтический фольклор определила также особенности языка и стиля.
Чтобы потрясти других, надо самому быть возбужденным. Поэт сознательно экзальтирует себя, активно включается в повествование, тем самым активизирует читателя, мобилизует его внимание и воображение, все его органы чувств, как это обычно делает народный певец. Восклицания, реплики, риторические вопросы, обращения к читателю то и дело сопровождают рассказ.
Большое внимание уделяется диалогу, что усиливает напряженность, драматизм. Прямая речь больше всего соответствует темпераментному, страстному тону баллад.
Поэтическим запросам Бюргера отвечает синтаксический и морфологический строй его стиха. Поэт широко применяет элизии, в глаголах на «n» отбрасывает «е» (hau’n, sau’n), часто практикует слияния артикля с предшествующим словом: («Wen’s Herz auch bricht») все это делает стих более динамичным.
Тончайшая скрупулезность Бюргера к языку и стилю своих творений, его придирчивое отношение к изобразительным средствам, огромная требовательность к технике стиха — все это не было капризом или причудой поэта, а вытекало из самой сущности его творческой манеры, его взглядов на искусство. Своими балладами поэт будоражил народ, разжигал таящиеся в недрах его души искорки ненависти к «кострам и бичам», будил к действию. Особой формой стиха, его могучей звуковой стихией, стремительностью строф, динамичностью поэтического языка, властно врывавшимся в его творения, поэт штурмовал косность и убожество, заставлял читателя всколыхнуться, насторожиться, включиться в битвы времени. В балладах Бюргера, народных по форме и содержанию, насыщенных социальным протестом и дыханием современности, нашел наиболее яркое и сильное выражение боевой темперамент поэта-демократа, и поэтому они по праву занимают самое почетное место в его бунтарской, проникнутой гражданским пафосом политической поэзии.
В своей резкой полемике с реакционным романтиком Августом Шлегелем Генрих Гейне акцентировал политически злободневный характер баллад Бюргера, их боевой демократический дух. А. Шлегель, восторженно отзываясь о некоторых балладах поэта, стремился выдвинуть на первый план присущие им элементы иррационального и сверхъестественного, считая их главными достоинствами его творений. При этом он всячески умалял их социальный смысл. От имени революционных романтиков, от имени поэтов революционной демократии Гейне осудил тенденциозность шлегелевской оценки творчества Бюргера и четко определил подлинное его значение для потомства.
«...господину Шлегелю, — писал Гейне, — удалось прославить перед толпой поэтические произведения, в которых погребено прошлое, за счет произведений, в которых живет и дышит наша современность. Но смерть не поэтичнее жизни. Старые английские; баллады, собранные Перси, передают дух своего времени, а стихотворения Бюргера передают дух нашего. Этого духа господин Шлегель не понял. Иначе в безудержности, с которой этот дух иногда прорывается в стихотворениях Бюргера, он ни в коем случае не услышал бы грубого окрика неотесанного школьного учителя, а скорее страдальческий вопль титана, которого ганноверские аристократишки и школьные педанты замучили до смерти. Ибо такова была судьба автора «Леноры» и судьба столь многих гениальных людей, которые бедствовали, голодали и умерли, влача жалкое существование бедных геттингенских студентов».
Принципиальное расхождение между реакционными романтиками и революционными поэтами Германии 30-40-х годов в оценке творчества Бюргера определило в дальнейшем пути освоения его наследия в балладной поэзии XIX века. Представители немецкой романтической школы с интересом отнеслись к балладам Бюргера. Его смелое обращение к образам и мотивам народного воображения, которое часто шло вразрез с духом Просвещения, его рационализмом и метафизичностью, весьма импонировало им. Они развили его традиции в своих песнях и балладах (например, Уланд). Однако наиболее реакционные среди них, предпочитавшие поэзию, в которой живут старинные верования и суеверия, выделили в балладном наследии Бюргера преимущественно то, что связано с отсталыми чертами народного сознания, с религиозными предрассудками. Элементы иррационального и кошмарного, которые использовались поэтом большей частью как художественное средство для более сильного эмоционального воздействия на читателя, стали для них самоцелью, образовали основное содержание их религиозно-мистических баллад. Они усвоили внешние формы бюргеровских баллад, но не их дух.
Духом баллад Бюргера была, по справедливому замечанию Гейне, современность. В них слышался «страдальческий вопль титана», горечь и гнев угнетенного, народа.
Мятежное начало балладного творчества Бюргера, их социальный пафос подхватили революционные романтики, поэты революции 1848 года. Именно они унаследовали политически злободневную сущность его баллад и песен. Глубокая насыщенность социальной тематикой составила характерную особенность баллад Шамиссо. Гейне, развивая традиции Бюргера, превратил балладу в могучее оружие политической сатиры. Некоторые черты серьезной социальной и юмористической баллады Бюргера плодотворно развивали Гервег, Веерт и другие поэты революции 1848.года.
Поэзия Бюргера с присущим ей, материалистически-чувственным восприятием мира, революционно-демократической направленностью, искусным сочетанием патетического, трагического с юмористическим и жизнерадостным оказало значительное влияние на революционную поэзию Германии 40-50-х годов XIX века.
Л-ра: Вопросы истории литературы и фольклора. – 1966. – Т. 30. – С. 252-280.
Произведения
Критика