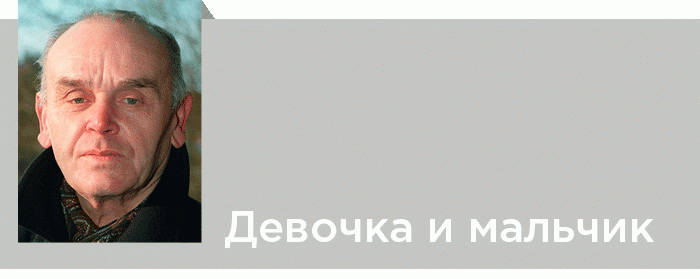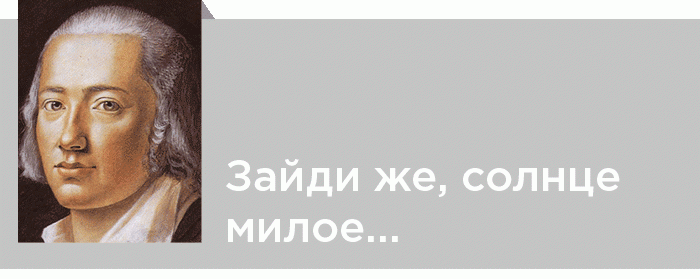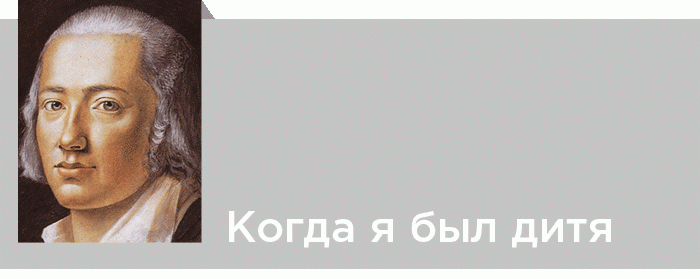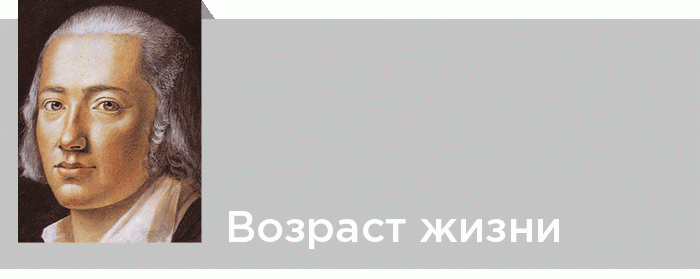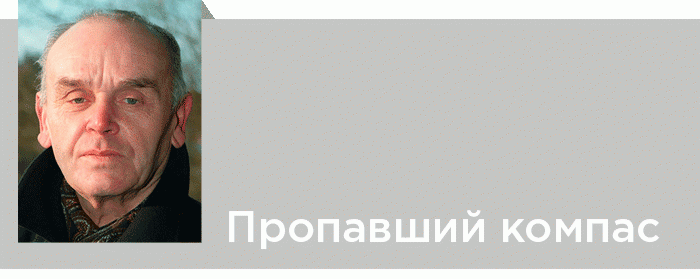Жанровое своеобразие романа Гёльдерлина «Гиперион»
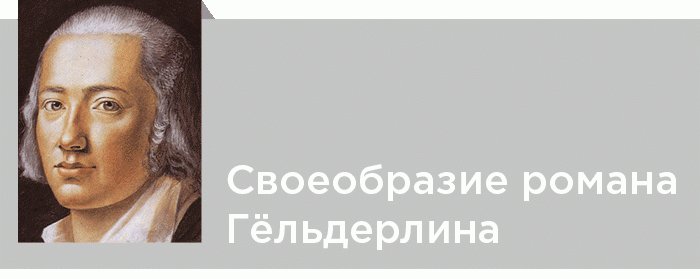
К. Г. Ханмурзаев
Относительно жанровой природы романа «Гиперион, или Отшельник в Греции» (1799) среди исследователей никогда не было единого мнения. Одним он казался «больше поэмой, чем романом», другие рассматривали его как «философский роман», третьи видели в нем «элегический роман». По-разному определяется жанр «Гипериона» и в отечественном литературоведении — «лирический роман», «трагедийная идиллия», «роман-поэма, близкий к роману воспитания», «нечто среднее между философско-политическим трактатом и воспитательным романом», «лиро-эпический роман» и т. д. Все эти определения, в сущности, не противоречат друг другу, они по-своему отражают различные стороны жанрового содержания и пафоса «Гипериона».
Внутрижанровая многослойность этого произведения отнюдь не случайна. Приступая к работе над ним, Гельдерлин отдавал себе отчет в необходимости поисков новых повествовательных форм, о чем свидетельствует, в частности, его письмо к Людвигу Нойферу, написанное в самом начале создания «Гипериона» — 20 июля 1793 г.: «Твои прекрасные слова о неизведанном в царстве поэзии в первую очередь касаются жанра романа. Первопроходцев здесь достаточно, но лишь немногие достигли новой, чудесной страны, и бесконечно много еще земель неоткрытых и невозделанных». Для постижения художественного смысла «Гипериона» чрезвычайно важно проследить, как различные аспекты его жанровой структуры — прежде всего элементы социального романа и «романа воспитания» — выступают в качестве определенных уровней приближения к истине и постепенно поглощаются философско-поэтической стихией «универсального» романтического романа.
Нетрудно заметить, что «Гиперион» Гельдерлина полон злободневного общественного содержания. Заглавный герой романа, молодой грек второй половины XVIII в., страдающий от порабощения своей родины турками и жаждущий борьбы, гражданского служения, вполне соответствует сложившимся представлениям о протагонисте остро социального произведения. Возлюбленная героя, Диотима, говорит, что Гиперион «глубоко проникается судьбами своего времени». Многие суждения Гипериона о современных греках воспринимаются как аллюзии на немецкие обстоятельства — «их ярмо стало их миром»; «...никакой светлой мечте не расцвесть под гнетом тяготеющего над нами проклятья...»; «мои благовоспитанные ближние смеялись, когда речь заходила о духовной красоте и юности сердца».
Но Гельдерлин не довольствуется этим. В конце романа странствующий по свету Гиперион посещает Германию, что дает ему повод разразиться в адрес немцев гневными инвективами, в которых слышится голос самого автора: «Варвары испокон веков, ставшие благодаря своему трудолюбию и науке, благодаря самой своей религии еще большими варварами... Я не могу представить себе народ более разобщенный, чем немцы...» и т. д.. Не случайно Томас Манн видел в Гельдерлине одного из тех великих немцев, которые бросали в лицо Германии беспощадные истины, а Иоганнес Бехер считал его «политическим поэтом». Иначе говоря, «Гиперион» в известной мере — роман о современности, «Zeitroman», в котором, автор, следуя известной просветительской традиции («Персидские письма» Монтескье, «Философские повести» Вольтера, «Нескромные сокровища» Дидро и др.), камуфлирует свои резкие выпады против отечественных устоев, вкладывая их в уста «чужеземца», человека иной культуры. Социальная тенденция произведения, его тираноборческий пафос несомненны. Хотя, с другой стороны, вряд ли следует на основании этого преувеличивать революционность романа, как это часто делается. В Германии, где, по меткому наблюдению Т. Сильман, можно было быть «апостолом свободы» без критического отношения к князьям, подобные настроения имели достаточно умозрительный характер.
Так или иначе, Гиперион, воодушевленный историческим прошлым Эллады, страны богов и героев, ищет «знамя», «свои Фермопилы», чтобы «пролить кровь» за свободу. Он социально активен, принимает участие в греческом восстании в Морее, вспыхнувшем в рамках русско-турецкой войны, сражается в знаменитой морской битве при Чесме. Но его ждет жестокое разочарование в своих соплеменниках, которые за годы рабства настолько одичали в нравственном отношении, что даже в момент высочайшего национального подъема преследуют свои корыстные цели и не могут отказаться от грабежа и разбоя: «Ты вел их к свободе, а они помышляли о добыче. Ты ввел победителей в их древний Лакедемон, а эти чудовища разграбили город...». В итоге Гиперион приходит к крушению своих гражданских идеалов, хотя еще далеко не исчерпал себя, своих возможностей — «силы во мне созрели, жаждут работы». Но только теперь он не знает им применения. Диотима говорит в романе, что Гипериону «не к чему было приложить свои силы».
В сущности Гиперион открывает собой галерею образов «лишних людей» в европейской литературе XIX в., являясь ближайшим предшественником шатобриановского Рене и многочисленных скорбников байронического типа. Один из героев романа, Алабанда, рассуждая о «людях, истомленных скукой нашего века», имеет в виду, конечно, и своего друга Гипериона. Да и сам Гиперион воспринимает свой век как «вечно порожнюю бочку Данаид». На этом отрезке своей жизненной судьбы гельдерлиновский герой находится целиком в сфере действия конкретной внешней обусловленности и жесткой мотивации, что в раннеромантическом романе встречается не часто. В целом он и сам склонен признавать свою зависимость от каких-то надличностных начал: «Мыстремимся расти ввысь и раскинуться в вышине всеми своими сучьями и ветками, но что из этого выйдет, решают почва и погода...». В то же время для Гипериона как романтического героя характерно стремление поступать сообразно своей внутренней сути и вопреки опыту, потому что «жизненный опыт обогатил нас именно тем, что мы не в состоянии представить себе совершенство без его безобразной противоположности».
Социальные искания Гипериона и его разочарование в этой сфере при всей их важности и существенности составляют все же лишь один из аспектов художественного содержания романа, один из этапов сложной внутренней эволюции героя, которая дается в духе традиции немецкого «романа воспитания» (идущей, как известно, от «Агатона» Виланда), но с такими значительными отклонениями от нее, что это дает возможность рассматривать Гельдерлина как родоначальника романтической разновидности этого жанра. Особенности своего замысла он определил в предисловии к роману как «разрешение диссонансов в некоем человеческом характере». Писатель-романтик, творящий на исходе «рефлективного традиционализма», обычно не следует жанровой схеме, а читатель в свою очередь сплошь и рядом обманывается в своих «жанровых ожиданиях». Опыт «Гипериона» еще раз убеждает в этом.
Взаимодействие характера и обстоятельств, определяющее развитие героя, здесь не отвергается в принципе, но и не становится объектом художественного изображения. Гиперион, конечно, противостоит «среде», но она сразу же в романе куда-то отодвигается, поскольку составляет сферу того, что герой считает для себя несущественным,— «вся душа моя противится несущественному». Сам процесс «воспитания» Гипериона у Гельдерлина не изображается, вместо этого отмечаются определенные «го этапы, указывается на основные действующие факторы и сообщается о результатах их воздействия на героя. При этом речь в романе идет о пути человека от «чистой простоты» к «совершенной образованности», который предстает как движение от одного идеала бытия к другому. Они не противоречат один другому, а взаимно предполагают друг друга. К такому пониманию сущности Гипериона читателя должны подготовить слова из эпитафии Игнатию Лойоле, взятые в качестве эпиграфа к роману: «Не иметь себе предела в великом, и притом содержаться в самом малом — божественно».
При всей обобщенно-универсальной манере изображения жизни и человека, исключающей внимание к частностям и подробностям, можно выделить ряд стадий в становлении личности Гипериона. Прежде всего это безоблачная юность героя, прошедшая на острове Тине, когда он жил в естественном единстве с природой, заботливо и мудро пестуемый добрым наставником Адамасом («я рос, как растет виноградная лоза без подпоры, буйные побеги которой своевольно раскинулись над землей»). Тем не менее юноша приходит к мысли, что человек изъят из прекрасного круговорота природы. Это первая нота в романе, возвещающая об изначальном изъяне человека среди других существ. Причем подобные истины формируют мироощущение героя в гораздо большей степени, нежели разочарование в обществе. Ощущение неблагополучия человеческого бытия как такового в дальнейшем идет по нарастающей и окончательно растворяет в себе конкретно-исторические печали Гипериона. Гиперион воспитывается как бы самим бытием, и для бытия, а не обществом для общества. Он постоянно смотрит, если воспользоваться словами Фета, «из времени в вечность».
Годы учения в Смирне обогатили его знанием человеческих нравов, ему открылось жалкое состояние современного греческого общества, в котором царит бездуховность — «неисцелимый недуг нашего столетия». Гиперион постепенно учится жить своим внутренним миром. Он понял теперь, что напрасно искать мира вне себя, если ты сам не можешь дать его себе. Он хочет заразить сограждан своей восторженностью, пробудить их к осмысленной жизни, ищет «братованья» с ними, во имя чего даже «дерзнул отречься от себя» — высшая мера жертвенности с точки зрения романтического сознания. Но все оказалось напрасным, стремление к высокому покинуло этих людей, «они чувствовали себя уютно». И тогда Гиперионом овладело «неизъяснимое уныние духа».
На протяжении всего романа Гиперион мечется между разочарованием и надеждой, и эта раздвоенность становится для него обычной. Встреча с «полубогом» Алабандой, убежденным в том, что он «бесконечен и неразрушим», а также с Диотимой дарует ему духовное обновление. Диотима воплощает в романе преобразующую силу любви; вместе с возлюбленной к Гипериону приходит ощущение полноты человеческой жизни: «Все, что делали и думали люди на протяжении тысячелетий, что все это перед единым мгновением любви». Причем любовь у Гельдерлина дается сначала в предчувствии, а потом уже является. Сначала она каким-то образом обнаруживает себя, разлитая; в природе, в окружающем мире. Это хорошо передано в ранней редакции «Гипериона»: «Из темноты рощи окликнуло меня что-то, из глубин земли и моря позвало меня: почему ты не любишь меня?». Такое «предсуществование» любви отражено и в лирике Гельдерлина, в частности, в стихотворении «Диотима»: «Как твой лик высок и светел! / Как я долго ждал, скорбя! / Прежде, чем тебя я встретил, / Я предчувствовал тебя» (пер. Е. Эткинда). Любовь делает Гипериона самим собой, помогает ему раскрыться как неповторимой индивидуальности — «и тогда стал я тем, что я есть», а возлюбленная, как впоследствии у Новалиса, воплощает собой вселенную. Во всяком случае Гельдерлин рассматривает природу как «закутанную в покрывало возлюбленную», предвосхищая тем самым символику «Учеников в Саисе» Новалиса.
Дальнейшие этапы жизненного пути Гипериона — это неудавшаяся попытка реализовать себя в сфере общественного деяния, утрата друга и возлюбленной, скитания.
Огромную роль в духовном развитии героя играет его восприятие античности, древней Греции. Это придает особый оттенок романтизму Гельдерлина. Фридрих Шлегель заметил, что «на деле романтическое не находится в противоречии с древним и подлинно античным», и «Гиперион» в полной мере подтверждает это наблюдение. Еще в юности Гиперион подолгу любуется руинами Смирненской крепости, и пастернаковское «нас воспитала красота развалин» как нельзя лучше помогает понять смысл этой ситуации. Через весь роман проходит образ Эллады, страны, в которой люди были «средоточием природы» и имели возможность постоянного самоосуществления. Этот образ наделен в романе двоякой функцией: он должен оттенять убожество настоящего и служить доказательством того, что идеальное состояние возможно и однажды уже было достигнуто, что «источник вечной красоты еще не иссяк».
Древняя Греция как социокультурная данность в строгом смысле слова мало интересует Гельдерлина. Исследователи без особого труда указывают на имеющиеся в «Гиперионе» отступления от «эмпирии исторических фактов», от географических реалий. Античность для Гельдерлина (в отличие от «веймарских классиков») не становится и эстетической нормой. Эллинизм Гельдерлина — романтический, он изображает Элладу своей души. Карл Розенкранц еще в 1838 г. заметил, что «Гельдерлин чувствовал себя в Элладе как дома и писал стихи прекрасными размерами, которые изобрел греческий дух, но душа у него была истинно романтическая». Характер отношения поэта к античности наглядно отражает сцена из романа, когда Гиперион и Диотима недалеко от развалин Парфенона встречают двух английских ученых, «собиравших жатву среди афинских древностей». Это занятие кажется герою бесплодным, для него все дело заключается в том, чтобы «проникнуться духом этой красоты». В таком «романтическом подходе к античности предшественником Гельдерлина можно, видимо, считать итальянского поэта XVI в. Гварини, которому в пасторали «Верный пастух», по мнению Фридриха Шлегеля, «удалось слить в прекрасной гармонии романтический дух и классическую культуру».
Для Гипериона Эллада — глубоко внутреннее понятие, к ней нельзя приобщиться чисто эмпирическим путем. В романе это хорошо понимает Диотима: «Ты печалишься не о том даже, что погибло много лет назад, — говорит она Гипериону, — ведь точно не скажешь, когда это было, когда, это кончилось, но это было, это есть и сейчас — в тебе!». Эллада в «Гиперионе» — это образ, созданный в процессе интеллектуального созерцания образованного человека, «человека культуры». Она увидена при этом не глазами путешественника, историка, археолога, но изнутри, душой, когда процесс постижения и сотворения совпадают. Жан-Поль как-то признался Тику, что «охотнее всего описывает местности, которые никогда не видел, и избегает увидеть их, так как действительность только мешает ему». Гельдерлин никогда не был в Греции и, будь он там, она, как природа Жан-Полю, возможно, только «мешала» бы ему ее изображать. Знать о мире все, не выходя за околицу — возможно, это и есть модель романтической гносеологии, новалисовского «пути вовнутрь», связанного с традицией средневековой мистики. «Человек, — писал Мейстер Экхарт, — постигает вещи не только внешними чувствами, но и внутренним прозрением, не только чувственно и рассудочно, но и сливаясь с их сущностью изнутри; он перестает быть в мире чем-то обособленным, находит все в себе и себя во всем.
«Гиперион» полон античных реминисценций и аллюзий, социокультурной топонимики, он населен богами и героями, мифологическими существами. И это все не холодный мертвый реквизит, бесстрастно лелеемый неоклассицистом, а живое, непосредственное переживание романтического индивида («Эллада носит цвета моего сердца»). Со страниц романа встает пленительный образ страны «детства человечества», когда «люди обменивались оружием и любили друг друга до гроба, когда в опьянении любовью и красотой зарождались бессмертные дети и подвиги во имя отчизны, небесные песнопения и слова мудрости...». Но этот прекрасный мир теперь в руинах, Афины лежат перед Гиперионом и Диотимой, «словно обломки гигантского кораблекрушения», герой «пробуждает от грез вой шакала, поющего на развалинах древнего мира свою дикую надгробную песнь». Современная Греция в глазах Гипериона не имеет собственного измерения, она целиком видится ему в плане ее несоответствия античным идеалам, которые остаются для него живым импульсом, вдохновляющим на поведение, адекватное неповторимой сути индивида.
«Гиперион» Гельдерлина весьма существенно отличается от просветительского романа воспитания. Ни к чему определенному в области практической жизни герой романа не приходит. Его многотрудный жизненный опыт, его «воспитание» не приводят к примирению с действительностью. Он не ищет в ней места ценой отказа от себя. В этом смысле роману нечем завершиться, внутреннее развитие героя бесконечно. Слова Юлия из шлегелевской Люцинды — «мой жизненный путь был окончен, но не был завершен» — можно отнести и к Гипериону, одному из «бесконечных» героев романтизма. Ничто в этом произведении не становится тем гармоническим аккордом, в котором нашли бы свое разрешение мировые диссонансы.
Для понимания жанрового своеобразия «Гипериона» важно иметь в виду, что в нем изображен, говоря словами Д. Лукача, «процесс, который, как таковой становится внутренней формой романа, — путь проблематического индивида к самому себе». Это определяет внутреннюю целостность произведения, различные темы и мотивы предстают с этой точки зрения как различные аспекты единого художественного содержания романа. «Мой дух постигал себя в полноте жизни» — эти слова Гипериона можно принять в качестве превосходной: формулы романтического романа воспитания.
После крушения общественных идеалов Гипериона содержанием романа безраздельно становится внутренний мир героя. С этого момента перестают действовать прежние жанрообразующие факторы, связанные с комплексом проблем современности и возможностью человека найти в ней свое место, и начинает доминировать принцип философско-поэтического изображения мира. «Гиперион» превращается в роман о человеке, в котором рождается новое мироощущение; в нем появляется новое жанровое содержание — философское; герой теперь в разладе не с обществом, а с миром, с конвенциональными формами бытия. В то же время «Гиперион» сильно отличается от немецкого философского романа того времени, наиболее ярко представленного в творчестве Виланда («Перегрин Протей», «Агатодемон», «Аристипп» и др.), у которого герои являются носителями той или иной, чаще всего античной, философской системы и стараются обнаружить «истину» в неторопливых и пространных «сократических диалогах». У Гельдерлина наблюдается совершенно иная форма любомудрия, когда философия и поэзия нерасчленимы в едином потоке медитации, — следствие убежденности автора в том, что «поэзия есть начало и конец философии».
Такая форма философствования, когда философские взгляды не излагаются терминологически и системно, а как-то скрыто присутствуют в художественной ткани произведения, весьма характерна для раннего немецкого романтизма. «Разобщение поэта и мыслителя — только видимость, — писал Новалис, — и оно в ущерб обоим». Ф. Шлегель отмечал, что «философия и поэзия, высшие силы человека, ... теперь проникают друг в друга, чтобы в вечном взаимодействии оживлять и формировать друг друга». А Фридрих Аст полагал даже, что «поэзия в глубинах нашего духа сама превращается в философию».
Так или иначе, «Гиперион» Гельдерлина — это, по меткому суждению Э. Шелленберга, «единственный роман, в котором философия оформлена как переживание, а не как учение...». В нем происходит «художественно-образное освоение предметной области философского познания». Герой романа «стряхнул с себя, как хлопья снега, все внешнее» и отныне пребывает «на высочайших вершинах духа». В напряженных раздумьях ищет он свою философию жизни. Его интересует не бюргерское жизнеустройство, а своего рода феноменология бытия и духовный статус человека. К Гипериону в полной мере относится то, что Гельдерлин сказал однажды о себе: «Я до смертельного изнеможения боролся за то, чтобы сохранить веру в высшую жизнь».
Философский характер принимает постепенно и резиньяция героя — он разочаровывается в самом деянии как таковом, «ибо человек не в силах ничего изменить, и свет жизни приходит и уходит, когда он хочет...». Даже сама земля начинает казаться ему «заурядной планетой». Судьба Гипериона приобретает трагический характер, но для него нет вопроса о добровольном уходе из жизни, как это было с гётевским Вертером или жан-полевским Рокеролем (травестированным Вертером). Социальная практика — не единственная сфера, где он мыслит дальнейшее развитие своей человеческой сущности. Есть еще природа, «полнота вселенской жизни и возможность слиться со всей вселенной». Предпочтя небытию «отъединение от всего живущего», став «отшельником в Греции», Гиперион погружается в глубины собственного духа, постигая тем самым не только себя, но и мир, ибо, как сказал Мейстер Экхарт, «никому не принадлежит мир в той мере, как тому, кто отказался от всего мира».
Самосовершенствование личности у Гельдерлина включает в себя борьбу человека с судьбой. Гипериона «с давних пор привлекало больше всего на свете величие души, не подвластной судьбе». Неудачи и невзгоды только интенсифицируют и углубляют жизнь души. Этот мотив отражен и в лирике Гельдерлина: «Не пенилась и не рвалась бы ввысь / Волна души, и стала б чистым духом, / Когда б немой, седой утес судьбы / Не стал ей на пути» (пер. С. Ошерова). Причем для Гипериона в отличие от героев просветительского романа нет сугубо личного счастья, он может быть счастлив только в мире всеобщей гармонии. Смерть Алабанды и Диотимы, друга и возлюбленной, символизирует в романе именно эту идею. Герой мечтает не о личном благе, не о том, чтобы, пользуясь словами Гегеля, «в конце концов получить свою девушку и какую-нибудь службу», а о том, как объединить людей в «новой церкви» «золотого века». «Тот, чья душа так оскорблена, как твоя, — говорит ему Диотима, — не утолит свою боль одной какой-нибудь радостью...».
«Смерть при жизни», которую избрал Гиперион, — сплошная видимость. На самом деле это интенсивная жизнь страдающей души, причем способность человека к страданию есть, по Гельдерлину, признак совершенства. Герой скитается по свету не в поисках «места под солнцем», его скитания символизируют бесприютность человека в мире. Это становится одним из центральных переживаний всего творчества Гельдерлина:
Усталый пахарь сел отдохнуть в тени.
Пред ним дымится мирный очаг его,
И колокол гостеприимный
Путников поздних зовет в селенье.
Уже ветрила движутся к гавани,
Умолкнул торг веселый; безмолствуют
Пустые стогна; скромный ужин
В тихой беседке накрыт для друга.
А мне куда?..
(«Вечерняя фантазия», пер. Г. Ратгауза).
Гельдерлин творит в своем романе романтический миф, в котором пытается осмыслить путь человечества. Согласно его представлениям, человек «был некогда счастлив, как лесной олень...». Несчастья человека начались оттого, что он «выделился из отчего дома природы». С тех пор человечеством овладели «нужда, страх и тьма». «Все страдания нашего бытия, — размышляет Гиперион, — происходят из-за того, что разорвано нечто, чему надлежит быть соединенным». Герою кажется, что над человечеством тяготеет Ничто, и он никак не хочет согласиться с «этой вопиющей истиной». Человек забыл, что он — «одно из обличий, которое принимает бог...». Возникает мотив богооставленности человека:
Но горе! Блуждает в ночи, живет, словно в Орке,
род наш, оставленный богом
(«Архипелаг», пер. В. Микушевича).
Гельдерлин верит, однако, что времена всеобщего счастья и гармонии еще возвратятся: «И все же мы можем еще стать как дети, и вернется еще золотой век чистоты, век свободы и мира...». Для этого нужно «уничтожить эту бренность, что тяготеет над нами», и вернуться «в объятия природы, неизменной, спокойной и прекрасной». При этом Гельдерлин словно возрождает платоновский миф атанасии, он приходит к отрицанию смерти. Человек не исчезает, он возвращается в мир природы, в котором царит «блаженное обновление растительного мира», природа «празднует свою вечную победу над всяческим распадом». Даже Эмпедокл, как считает Гиперион, бросился в пламя вулкана, «охваченный дерзкой жаждой жизни». «Если я стану даже растением, что за беда? — говорит Диотима, — Я пребуду вечно. Как я могу исчезнуть из круговорота жизни, в котором вечная любовь, присущая всем, объединяет все создания? Как могу я расторгнуть союз, связующий меня со всеми существами?.. Мы умираем, чтобы жить». В этих идеях по-своему преломляется романтическое неприятие завершенности, покоя, вера в то, что суть жизни — в постоянном обновлении и что в этом процессе для человека всегда найдется возможность начать все сначала.
Тайну «золотого века» знает в романе некий «живущий где-то в Азии народ редкостных душевных качеств», на поиски которого отправляется учитель Гипериона Адамас. Это удивительная параллель к «пранароду» из «учеников в Саисе» Новалиса. Гельдерлина и Новалиса вообще многое роднит. Прежде всего это сама идея «золотого века» и пути возврата к нему — уничтожение времени, «эстетическое воспитание», отказ от «умствования в ущерб душе» и слияние с природой. С этими идеями связана цикличность структуры романа: все в нем ходит по кругу, герои в своих настроениях вовлечены в круговорот вещей, в смену времен года, расцвета и увядания, последующего возрождения. Такое построение задано уже именем главного героя, поскольку в античной традиции Гиперион — это солнце. Круговращенье символизирует в романе целостность самого бытия и в то же время идею бесконечности, которая присутствует здесь не в своей трансцендирующей функции, а как постоянство замкнутой, но вечной метаморфозы.
Гельдерлин отмечает в предисловии к «Гипериону», что в его романе «мало внешнего действия». Это принципиальный момент, свидетельствующий о том, что Гельдерлин выдвигает на передний план интроспективный принцип изображения. Вся книга, по словам самого героя, представляет собой «рассказ о жизни моей души». В романе нет ничего, что существовало бы само по себе, не входя в сферу духовного созерцания героя. Особенно характерен в этом отношении эпизод Чесменского боя. Это историческое событие — благодатнейший материал для миметически настроенного художника, дающий ему возможность развернуть яркие батальные сцены. Но их нет у Гельдерлина. Он обошелся без «списка кораблей». Грандиозное сражение представлено в романе как реальная возможность смерти, которой ищет Гиперион, обманутый в своих человеческих и гражданских ожиданиях.
Мир с его событиями и делами реально существует, но он мало интересует героя — «события внешнего мира проходили мимо меня, как осенние туманы...». Гельдерлин с иронией пишет об авторах, для которых важнее всего указать, что дорогу перебежал заяц и никакое другое животное...». Теодор Адорно заметил в этой связи, что «абстрактность» и «обобщенность манеры Гельдерлина, присущее ему нежелание изображать конкретные детали находятся в резком противоречии с теорией искусства его века». Ингеборг Герлах обращает внимание на то, что в «Гиперионе», «несмотря на историческую основу, речь идет не об объективных отношениях и их изменении, а о чувствах и ощущениях. Гиперион описывает не нравы Смирны, от которых он страдал, а свои страдания, ими вызванные».
Занимательное и остросюжетное вообще исключается из романа Гельдерлина. Об этом автор говорит с самого начала, когда произведение было только задумано. «Поинтересуйся у своих благородных подруг, — писал он Нойферу 20 июля 1793 г. — не думают ли они, что мой Гиперион сможет когда-нибудь занять свое место среди тех героев, кои все же дают больше пищи нашему уму, нежели велеречивые странствующие рыцари». Такая установка вполне понятна, потому что в эпоху романтизма сюжетные схемы «романа испытания» от частого использования в просветительском романе окончательно тривиализовались. Широкое обращение романтиков к эпистолярному роману, который давал возможность оторваться от сюжетного догматизма и непосредственно отражать опыт души, объясняется не в последнюю очередь этим обстоятельством.
«Гиперион» Гельдерлина, написанный в форме писем героя к своему другу Беллармину, является наряду с «Вильямом Ловеллем» Тика первым романтическим опытом в этом жанре. В нем ощущается традиция, идущая от гётевского «Вертера». Оба произведения относятся к «моноперспективному» эпистолярному роману, когда все письма пишутся одним из персонажей. И «Вертер», и «Гиперион» близки по своей поэтике роману, написанному от первого лица (Ich - Roman), в котором рассказчик «выступает как одна из фигур изображенного им мира». Но на этом, пожалуй, сходство между двумя романами кончается.
Основное и весьма существенное различие между ними заключается в том, что Вертер в своих письмах говорит о том, что с ним происходит в данный момент, он находится в эпицентре развивающихся событий. Гиперион же повествует не о том, что он переживает в настоящее время, его письма — это уже воспоминание о былом. Особенности эпистолярного романа он соединяет с принципами ретроспективного повествования. Это происходит за счет композиционной инверсии. Гиперион уже в начале романа предстает как человек, переживший свою «историю». Он рассказывает ее в письмах к своему другу и в конце романа возвращается к исходной точке. И хотя пережитое стало теперь его личным достоянием и он в сущности говорит о своем внутреннем мире, все же дистанция, необходимая для эпически взвешенного повествования, в романе создана. Позиция рассказчика как бы вынесена за пределы происходящего. Это именно повествование о душе, а не лирическое излияние души. Письма Вертера написаны переживающим персонажем, письма Гипериона — пережившим. Один из исследователей верно заметил, что «эпическая опосредованность „Гипериона“ существенно отличается от лирической непосредственности „Вертера“».
Рассказчик в «Гиперионе» не просто «рассказывает», он вовлечен в процесс изложения сам и на протяжении рассказывания проделывает определенную эволюцию. Одни свои мысли и поступки он принимает, от других как-то дистанцируется. Под конец у него уже несколько иное отношение к своему прошлому, нежели в начале. Можно сказать, что рассказчик в процессе повествования приходит к пониманию случившегося. Ретроспективное изложение становится средством постижения смысла. В то же время лирическое начало в романе, несомненно, сохраняется. Характер произведения определяется не причинно-следственной вереницей событий и фактов, а прихотливой динамикой естественного чувства. При этом каждое письмо образует некое внутреннее единство. Это достигается сосредоточенностью рассказчика при всей эмоциональности тона на какой-то одной проблеме. К тому же связь между отдельными письмами чисто субъективная. «Гиперион» даже в своей сугубо «событийной» части менее всего придерживается строгой последовательности сообщения. Каждое письмо как бы первое, в каждом все происходит сначала, оно написано не ради продолжения «истории», рассказчик руководствуется не внешним ходом событий и положений, а тем, что диктует ему душевное состояние.
У героев Гёте и Гельдерлина разное мироощущение. Счастью Вертера мешают чисто внешние причины. Если их устранить, он будет вполне благополучен и даже счастлив. Здесь сказывается характерная черта произведений сентименталистской литературы, в которых, по наблюдению М. М. Бахтина, «несчастья героя уже не судьба, а их просто создают, причиняют ему злые люди, ... он даже не погибает, а его губят». Гипериону же открылись какие-то онтологические бездны, трагизм самого существования. Так что разница между «Вертером» и «Гиперионом» не просто в тех или иных внутрижанровых нюансах, она имеет духовно-исторический характер. «Гиперион» воплощает иную стадию развития европейского сознания. Он значительно отличается от просветительского эпистолярного романа вообще. Фридрих Шлегель писал о Ричардсоне, родоначальнике этого жанра, что «его слишком пространная обстоятельность становится тягостной и мучительной». Гельдерлин освободил эпистолярный роман от бытовых подробностей и полностью подчинил его проблемам духовной жизни человека. Новаторство писателя в этой области настолько значительно, что некоторые исследователи отказывают «Гипериону» в принадлежности к данному жанру.
В романе Гельдерлина господствует авторская речь, все совершается внутри нее. В отличие от Жан Поля, у которого она носит сентиментально-юмористический характер, у Гельдерлина основная ее интонация патетико-элегическая. Элегическое связано с тоской по былому миру совершенства и гармонии, патетика — с надеждой на то, что высокий мир богов и героев, природосообразного существования еще вернется. На уровне поэтики это проявляется в символике руин, упадка, запустения, с одной стороны, и высоты, парения, горнего хода — с другой. Печаль героя «светла». Роман весь пронизан солнечным светом, который является единственной средой, соответствующей внутренней сути Гипериона — печального солнцебога. «Твой великий тезка, небесный Гиперион, воплотился в тебе», — говорит ему Диотима. Атмосфера ликования в романе все время пробивается сквозь скорбные ламентации. Но это не бравурное и пустое ликование прекраснодушного верхогляда, беспечно планирующего над бытийными безднами. Это ликование de profundis, радость, рождающаяся из сурового опыта, когда человек равно знаком и с безднами и с вершинами. Гиперион — прямой наследник эллинского человека, который, по словам Томаса Манна, «часто поникал и неизменно снова выходил к солнцу».
В 1793 г., в пору работы над первым вариантом «Гипериона», Гельдерлин ориентировался еще на эстетику реализма XVIII в. Он считал, что написанное им «более смесь случайных настроений, нежели продуманное развитие верно схваченного характера, ибо я оставляю пока в стороне мотивы этих мыслей и чувствований, и это потому, что мне более хотелось занять вкус читателя картиной мыслей и чувствований (для эстетического наслаждения), нежели его разум — показом закономерного психологического развития. Но, естественно, в конце все должно свестись к характеру, а также к обстоятельствам, имевшим на него действие. Так ли эта будет в моем романе, покажет дальнейшее». В этих словах по сути дела отражено просветительское понимание романа. Однако окончательный текст «Гипериона» свидетельствует о переходе автора в сферу романтического понимания принципов построения литературного характера, когда определенная детерминированность его внешними условиями как бы и не оспаривается, но в то же время основные моменты этой зависимости элиминируются. В целом «Гиперион» Гельдерлина — это свободная, «открытая» художественная конструкция, очень близкая к тому, что иенские романтики называли «универсальным» романом.
Л-ра: Известия АН СССР. Серия литературы и языка. – 1990. – Т. 49. – № 4. – С. 361-371.
Произведения
Критика