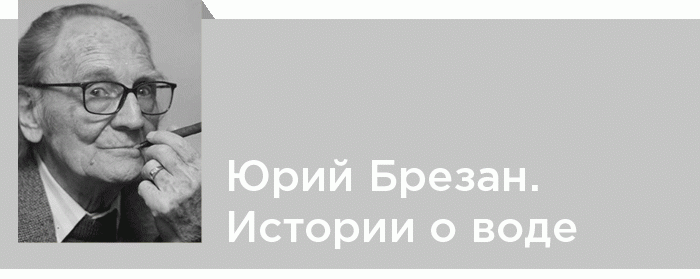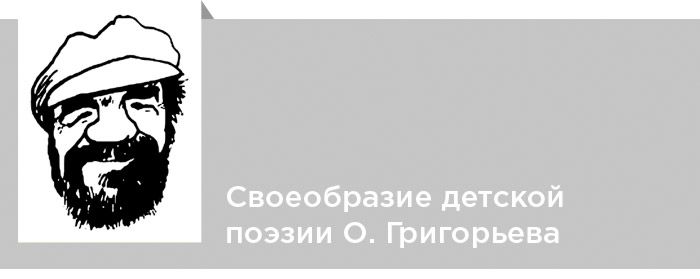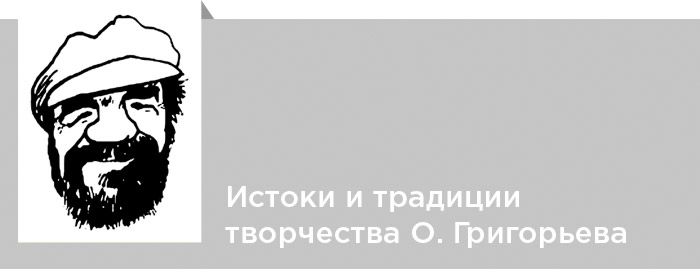Тип героя и хронотоп его изображения в романе Жан Поля Рихтера

Л. Ю. Фуксон
В романах немецкого прозаика конца XVIII — начала XIX века Жан Поля Рихтера (известного больше под псевдонимом Жан Поль) действует множество персонажей. Их первую классификацию осуществил уже сам автор в многочисленных авторских отступлениях и предисловиях к своим романам. Нас интересуют герои, которых Жан Поль (а вслед за ним и все исследователи его творчества) называют «юмористами». Они являются новой ступенью в литературном развитии традиции «шута» и «дурака» и во многом обусловливают самобытный характер юмора Жан Поля.
«Юмористом» Жан Поль называл смеющегося, субъекта смеха, — в отличие от «юмористического характера», объекта юмора. По мнению О. Манна, Жан Поль в образе юмориста стремится объединить «эстетическую наглядность и пронизанность рефлексией». Исследователь определяет задачу Жан Поля как художественное воплощение субъекта юмора, авторского «единомышленника».
К «юмористам» Жан Поль относил Фенка («Невидимая ложа»), Виктора («Геспер»), Зибенкеза и Лейбгебера («Зибенкез»), Шоппе и Рокероля («Титан»), Вульта («Озорные годы»). Большинство исследователей отмечает, однако, существенное несходство между некоторыми из перечисленных персонажей, выявляя его в анализе их мировоззренческих и психологических установок. В результате учеными выделяются две разновидности: «сентиментальные» и «волевые» юмористы (Й. Фолькельт), или «чувствительные» и «пессимистические» (М. Циммерман), или «наивно-сломленные» и «сломленные» (И. Хуле). Несколько иначе подходит к этому вопросу Г. Фохт. Он считает, что лишь Фенк, Лейбгебер, Шоппе и Вульт «стоят в центре сферы собственно юмористической». Виктор и Зибенкез, по его словам, «стремятся из этой сферы в другую, а иные остаются в преюмористическом круге чистой иронии и цинизма».
Мы видим свою задачу в том, чтобы рассмотреть особенности двух выявленных разновидностей героя-«юмориста» не в идеологическом и психологическом аспектах, а с точки зрения характера их художественной воплощенности, что имеет, по-видимому, прямое отношение к пространственно-временной организации художественного мира романов Жан Поля. По мнению М. М. Бахтина, она в значительной мере определяет и образ человека в литературе; «этот образ всегда существенно хронотопичен». Наилучшим материалом для этой цели мы считаем роман «Зибенкез», т. к. в нем действуют сразу два «юмориста», Зибенкез и Лейбгебер, которых все названные исследователи противопоставляют друг другу.
Зибенкез изображен преимущественно в сценах семейной жизни. Эта жизнь характеризуется малым, ограниченным пространством и медленно текущим, измеряемым днями и часами, временем. Имперское местечко Кушнаппель, в котором проживает Зибенкез, — обобщенный образ немецкой провинции — имеет неправдоподобно малое пространство: «...я должен еще сегодня выбраться за вашу границу, — давай, побежим, чтобы мы не позже, чем через шесть... минут, оказались на территории соседнего княжества». Эта пространственная ограниченность символизирует ограниченность всей провинциальной жизни: политической, экономической, духовной (ее критика дается в ироническом «Приложении ко второй главе»). Здесь у Жан Поля намечаются контуры гротескного образа немецкой «карликовой» действительности, ставшего традиционным у Э. Т. А. Гофмана и Г. Гейне.
Чрезвычайно узкий «топос» городка сужается еще больше до пределов тесного жилища Зибенкеза. Пространство это еще больше узится и дробится наполняющими его вещами: «длинный, красный обеденный стол», «другой, низкий», «высокие кресла», «тронный помост шкафа», «кожаное дедовское кресло». Вещи, окружающие Зибенкеза, носят подчеркнуто бытовой характер: масленка, кофейные чашечки, чернильница; он еще усиливается упоминанием таких подробностей, как пыль, просыпанный из песочницы песок, мусор, накопившийся за зеркалом. Эта густая и детализованная «вещность» окружающего Зибенкеза пространства «заземляет» его образ в бытовой реальности.
Другая «система координат», в которой строится образ Зибенкеза, — это место его прогулок и путешествий, «лоно природы», по выражению повествователя. Природное пространство большей частью изображается ограниченным, предельным. В описании путешествия Зибенкеза в Байрет о нем говорится так: «В три с половиной часа пополудни, когда он еще не вышел за пределы Швабии и находился в одном селении...». Временами оно даже уподобляется камерному пространству дома: «...изолированное убежище, предназначенное для дружбы и преступления». При описании прогулок Зибенкеза повторяются одни и те же места: городские ворота, церковь, кладбище. Эти пейзажи носят реалистический характер, создаваемый наглядными, чувственно конкретными приметами: холм, руины, поросший травой эшафот, «свежая, еще рыхлая могильная насыпь в крашеной деревянной обивке, наподобие ларя». Фигура Зибенкеза и здесь вписывается в предметный мир.
Кладбище рисуется в романе особенно часто и почти всегда а важные моменты жизни Зибенкеза. Здесь завершается история его супружества, и отсюда он под именем Лейбгебера уходит из Кушнаппеля. Заключительная сцена романа разворачивается также на кладбище: неожиданная встреча с идеальной Натали, объяснение с ней и завязка нового, «небесного» брака.
Конкретно-пространственное значение кладбища в романе постепенно уступает место философско-поэтическому образу некой «пограничной зоны» между земной и неземной жизнью. Так, повествователь называет кладбище садом, «откуда не каждый возвращается и с которым соприкасаются висячие райские сады потусторонней жизни». Граница между жизнью и смертью предстает здесь несущественной, малозаметной, лишь как незначительное видоизменение ландшафта: за кладбищенским садом — «райские» сады потусторонней жизни, пространство, топографически сходное с земным. Различие между ними в том, что райские сады располагаются не горизонтально, а вертикально, они «висячие», уходящие с земли ввысь. Сходство земного и «небесного» пейзажей наделяет «потустороннее» физическими признаками земной жизни и, в сущности, отменяет небытие в соответствии с воззрениями Жан Поля на смерть как освобождение подлинной — внутренней — жизни от физических ее «оков». Открывающаяся перспектива бесконечности раздвигает на какое-то время пространственный предел действия, который, однако, вновь возвращается к себе, а в конце романа опять снимается.
Бытовое и природное пространство, в котором вращается Зибенкез, органически слиты с бытовым и природным временем, все события его жизни предельно локализованы не только в пространстве, но и во времени: «Зибенкез... провел весь понедельник, глядя в слуховое окно...», «В поздний час он с трепетом прокрался; в тот сад...». Это время такое же дробное, как и пространство, постоянно повторяющееся ежедневное «бывание». Оно изображается то как более разреженное, когда целые месяцы проходят, не сгущаясь в события жизни Зибенкеза, то как очень концентрированное, в виде хроники одного дня (так описан, например., день 11-го февраля в 10 главе). Но это единый тип художественного времени — бытовое время. История супружества, мнимой смерти и «очищения» Зибенкеза разворачивается последовательно, в веренице дней-будней и праздников.
Бытовое время течет в романе параллельно природ ному: «Одновременно с первым жаворонком он... выпорхнул из борозды-постели», «Фирмиан (Зибенкез —Л. Ф.) поднялся вместе с летучими и майскими жуками...». Параллелизм «человеческого» и «природного» времени, их единый ритм характеризует самый общий уровень романа, его сюжет. Так, с наступлением осени разлад в семейной жизни героя и материальная нужда усиливаются («душевные морозы., вырастают вместе с физическими»; во все последующие холодные месяцы года Зибенкеза преследуют удары судьбы, зато весной он по зову Лейбгебера предпринимает путешествие в Байрет, которое возрождает его силы и жажду жизни.
В описании путешествия Зибенкеза, где характер пространства не меняется, моменты природной жизни стоят чаще уже в ряду не с внешними событиями, а с событиями внутренней жизни героя, причем это не только сопоставление длительных состояний его души с временами года (как в двух последних примерах), но и минутных настроений с временем дня: «Когда он снова вышел на открытый воздух, то ослепительный блеск сменился ровным светом, а восторг перешел в тихую радость», «...чем дальше он брел, тем холоднее и крупнее становилась падавшая на его сердце вечерняя роса тоски». Внутренние состояния героя как бы поясняются внешне природными явлениями. При этом грань между внутренним (психическим) и внешним (физическим) размывается, становится нечеткой. Природность изображения человека носит здесь метафорический характер — обычный для литературы сентиментализма.
Необходимо отметить также наличие в изображении Зибенкеза и еще одного, более общего, временного плана — библейского. Важные этапы жизни Зибенкеза совпадают с религиозными праздниками, общий ритм его жизни отражает жизнь Христа в период между его преследованием и воскресением — это сопоставление настойчиво проводится в романе. Сопоставление бытового и библейского времени, столкновение возвышенного и низменного хронологических рядов, их опосредованность друг другом является источником юмористической перспективы изображения.
Указанные пространственно-временные особенности придают образу Зибенкеза черты связанности определенным, как правило, узко локализованным местом в бытии, укореняют его телесное существование в быте, духовное — в природной жизни.
Подобная хронотопическая определенность совершенно отсутствует в изображении Лейбгебера. В действии романа он появляется лишь в важные моменты »жизни Зибенкеза как его спутник и попадает в пространственно-временную орбиту его существования. Хронотопическая определенность изображения Лейбгебера появляется лишь постольку, поскольку он сопутствует Зибенкезу: присутствует в церкви, где венчается Зибенжез, ездит с визитами вместе с ним, сопровождает его во время прогулок.
Характерно для Лейбгебера то, что в план повествования он входит всегда особым образом: не приходит, а является, причем зафиксировано уже его пребывание, а не прибытие, приход. Так, во время брачной церемонии внимание всех присутствующих в церкви были отвлечено загадочной фигурой на хорах. «Наверху стоял его (Зибенкеза — Л. Ф.) друг Лейбгебер». Во второй приход Лейбгебера в Кушнаппель Зибенкез, услышав шум на чердаке, идет туда и находит своего друга. Интересно сравнить, как изображается прибытие обоих героев на место условленной встречи в Байретс после их ухода из Кушнаппеля.
Путь Зибенкеза пролегает в конкретном пространстве: город, улицы, гостиница «Солнце», лестница. Обилие деталей рисует обстоятельства его прибытия. Перемещение Зибенкеза в этом пространстве показано весьма наглядно: «В сумерки он, внимательно вглядываясь, медленно шел по улицам города, усеянным рассыпанными колосьями...». Характерно, что психическое движение в этой сцене попадает в зависимость от физического: радостное волнение Зибенкеза нарастает по мере его приближения к цели: «От каждой новой улицы его учащённо бьющееся сердце пылало все сильнее...». Эта доминанта внешнего действия над внутренним состоянием придает развернутой здесь сцене особую пластичную наглядность.
Если путешествие Зибенкеза из Кушнаппеля в Байрет от начала до конца описано поэтапно с точностью хроники, то о путешествии Лейбгебера говорится лишь, что он «теперь пустил в ход больше крыльев, чем серафим, чтобы скорее полететь вдогонку за своим другом». Далее оказывается, что он уже ждет Зибенкеза в Байрете, прибыв туда быстрее необъяснимым «серафическим» способом. Нереальность, заключенная в этой метафоре, никак не отменяется и ставит под сомнение физическую действительность этого персонажа.
Как только Зибенкез и Лейбгебер расстаются, Лейбгебер исчезает из поля зрения читателя, теряя какую-либо определенность своего облика. Вот характерный для романа конец сцены и главы: Зибенкез, надолго простившись с Лейбгебером, возвращается домой и думает «об одиноком ночном пути, которым его друг шел там вдали под звездами». Здесь очевидна противоположность пространственно-временной характеристики персонажей: Зибенкез — в своем семейном доме, Лейбгебер — в пути «под звездами». Но еще существеннее этого различия характер изображения: дом Зибенкеза рисуется как действительность, а путь Лейбгебера дается не как реальное (пусть и неопределенное) пространство, а через сознание Зибенкеза, в форме его мысли, то есть как воображаемое.
Когда Лейбгебер не рядом с Зибенкезом, он не имеет места обитания. Он, по его словам, постоянно путешествует по городам Германии и за границей, некоторые места названы: Байрет, Гоф, Италия, но образов этих мест и пути к ним, как правило, нет в романе. Путешествия Лейбгебера являются фактом декларативным, они не развернуты в художественный образ. Только один раз описано, как Лейбгебер «под видом приезжего художника явился в здешний клуб лишь для того, чтобы улечься в уголок на канапе и, не обменявшись ни с кем ни единым словом или даже слогом, публично заснуть... перед всем «Отдохновением» (так назывался клуб). По словам Лейбгебера, такого обыкновения он придерживался во всех городах, обладающих клубами, казино, филармониями или музеями...». Здесь определенный «топос» (Кушнаппель — клуб «Отдохновение» — канапе в уголке) остается чуждым герою, демонстративно отвергается. Происходит двойное отчуждение героя от места: во-первых, его анонимностью, маской приезжего художника, а во-вторых — неуместным, намеренно парадоксальным к нему отношением: в публичном месте совершается акт личной жизни. Этот «юмористический» жест, обычный для Лейбгебера, порывает традиционные отношения человека с действительностью окружающего его пространства, так как сон есть как бы временное небытие.
В конце романа он исчезает безымянный в «безбрежном океане человечества». Лейбгебер лишен не только имени, он не имеет даже собственного лица. Он «копия», «двойник» Зибенкеза. Он часто появляется под маской, изображая то странствующего художника, то призрак Зибенкеза. Единственная наглядная черта его облика — это хромота. Но ее надо понимать не как конкретно-индивидуализирующую характеристику, а как знак его принадлежности к миру юмора. Такой же символический смысл скрыт и в неоднократно упоминаемом умении Лейбгебера вырезывать силуэты, которым он зарабатывает себе на жизнь. Силуэт, теневой портрет, лишен черт конкретности, это обобщенный образ, создать который можно лишь при условии «возвышения» над чувственной реальностью, отрешенности от нее. Характерно, что Зибенкез, в отличие от своего друга, никак не может сделать силуэт своей жены Ленетты именно в силу своей связанности реальным: «Зибенкез все время косился на ту поверхность, которая цвела живыми красками возле ее руки, а потому рисовал так же скверно, как ремесленник, расписывающий шкатулки... Фирмиан (Зибенкез — Л. Ф.) поцеловал губы, которые он никак не мог верно срисовать...». Лейбгебер виртуозно вырезает силуэты, даже не глядя, именно в силу своей отринутости от жизни, своей позиции стороннего наблюдателя и судьи. Силуэты, мастером которых является Лейбгебер, содержат в себе одновременно и намек на призрачность его собственного существования. Он сам силуэт, условная, обобщенная фигура в художественном мире юмористического романа, тяготеющего к чувственной конкретности.
Сравнение героев-«юмористов» романа «Зибенкез» в плане их образной конкретности показало, что изображение Зибенкеза радикально отличается степенью пространственно-временной определенности от образа Лейбгебера, что дает несомненное основание для их типологического разграничения. Описанные особенности пространственно-временной характеристики Зибенкеза соответствуют форме хронотопа, названной М. М. Бахтиным идиллическим. Несмотря на его частичную редукцию, он сохраняет все свои основные типологические признаки.
Лейбгебер вообще не обладает какой-либо хронотопической определенностью. Ее отсутствие и является признаком «юмориста». Г. Фохт определил его сущность как чистую идеальность, рефлексию, а эффект рефлексии есть, по его мнению, «отмена действительности». Это суждение Г. Фохта, на наш взгляд, в принципе верно объясняет особенность героя-«юмориста», в отличие от приведенного выше высказывания О. Манна о соединении в образе «юмориста» «эстетической наглядности» и «пронизанности рефлексией».
Объяснение феномена героя-«юмориста» дает, по нашему мнению, работа М. М. Бахтина об авторе и герое в эстетической деятельности. Ценностная и функциональная близость героя-«юмориста» к автору юмористического произведения, малая дистанция между авторской точкой зрения и персонажем препятствует воплощению его образа.
Намерение Жан Поля соединить рефлексию с эстетической наглядностью, создать художественный портрет субъекта юмора неосуществимо в принципе: герой художественного произведения может быть лишь объектом, но не субъектом эстетической деятельности.
Из двух героев-«юмористов» в романе «идеальным», «безобразным» бытием в его художественном мире обладает лишь Лейбгебер. И только он является действительно «юмористом», в то время как Зибенкез, обрисованный в рамках идиллического хронотопа, изображен «объектно» и являет собой поэтому иной тип героя.
Л-ра: Литературное произведение и литературный процесс в аспекте исторической поэтики. – Кемерово, 1988. – С. 133-141.
Произведения
Критика