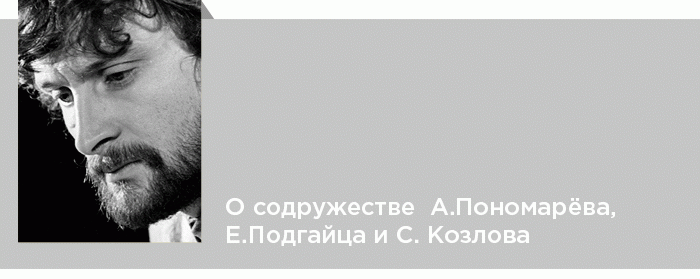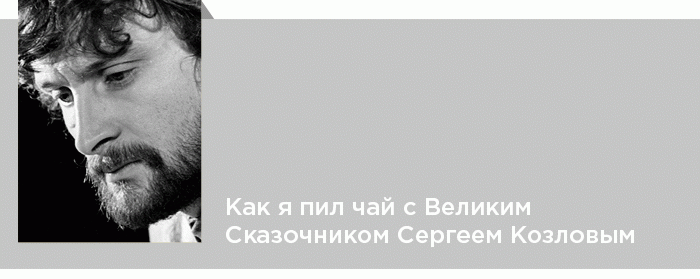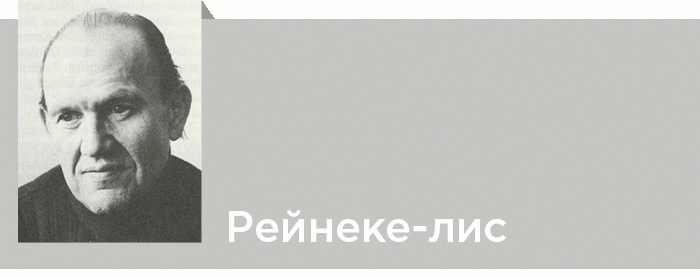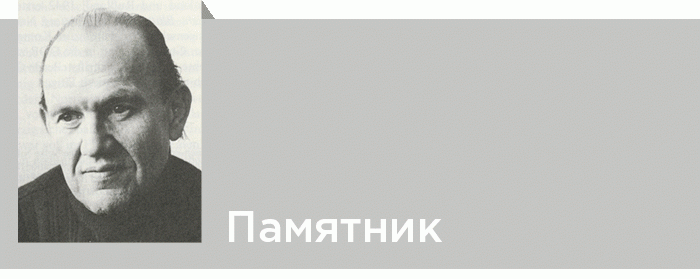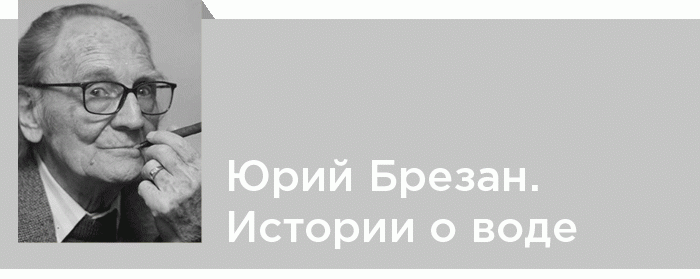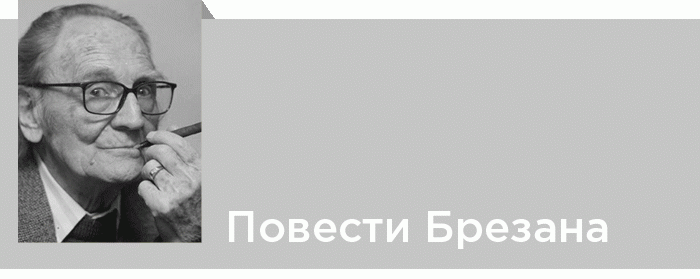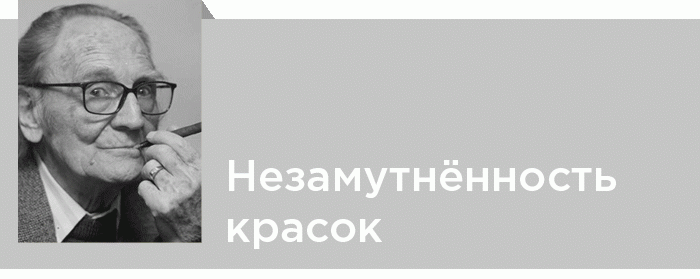Юрий Брезан. Крабат, или Преображение мира

(Отрывок)
Глава 1
Как раз в самом центре нашего континента - многие в наших краях ошибочно полагают, что, значит, и в центре мира, - берет свое начало речка Саткула, весело журчащая мимо семи деревень, чтобы сразу же за ними нырнуть в большую реку. Ни океан, ни море ведать не ведают об этой речке, но море было бы другим, не вбери оно в себя и Саткулу.
Все семь деревень в ее долине уютные и опрятные, однако населены не слишком густо, - правда, и люди здесь живут не совсем такие, как везде, да и в мировой истории они не оставили сколько-нибудь заметного следа, хотя история эта не обделила их малыми и большими войнами, грозными битвами, зловонными чумными эпидемиями, великими страхами и столь же великими надеждами; она же и перебрасывала деревеньки из одних господских рук в другие, по случаю чего на каком-нибудь холме на правом или левом берегу речки всякий раз ставились виселицы.
Войны, битвы и чума поросли быльем, господские косточки сгнили в сырой земле, холмы висельников стали обычными пригорками и ничем не отличаются от прочих, так что мировая история и не знала бы о деревеньках на речке Саткуле, когда бы не жил тут Крабат.
Правда, рождение его нигде не отмечено, да и умереть он вряд ли мог. А вот о жизни его есть множество самых разных суждений: то он герой, то плут и мошенник; то весельчак и гуляка; то философ, не знавший поцелуя женщины, то странствующий певец, не пропускавший ни одной юбки; то человек, покинувший землю ради звезд, то открывший звезды на земле; то не стареющий от жизни юноша, то утомленный жизнью старец, жаждущий смерти, - короче говоря, сколько людей, столько и суждений. Причем большинство высказывают свое мнение не так, как философы и другие ученые мужи, досконально изучившие в жизни все ее уголки и закоулки, столбовые дороги и кривые тропки, то есть кратко и прямо, без обиняков и уверток, в четких, продуманных и ясных выражениях, а потчуют пространными - а нередко и престранными - историями, в которые сами верят и хотят, чтобы и другие поверили; а то даже слагают притчи, где высказывают то или иное мнение о Крабате, причем притчи эти порой похожи на незрелые орехи, еще висящие на ветке. И тем не менее любая притча и история сама по себе кажется вполне разумной и правдоподобной. Но стоит лишь попытаться собрать их все воедино, как сразу оказывается, что они не только не вяжутся между собой, но и противоречат самой жизни, - так предмет неправильной угловатой формы не влезает в обувную коробку того же объема.
Однако и ныне - как и во все времена - встречаются люди, которые почитают обувную или, к примеру, шляпную коробку чуть ли не священным саркофагом и объявляют ересью все, что в ней не помещается. Эти-то люди и завладели свидетельствами о жизни Крабата; они кромсали, пилили и рубили до тех пор, пока то, что осталось, не уложилось без труда в шляпной коробке их реальности.
Из этого жалкого обрубка явствует, что Крабат родился вскоре после Тридцатилетней войны, что детские годы его прошли в деревне под названием Итк, а родители были честные, хотя и бедные люди. Юношей Крабат выучился черной магии у одного мастера этого дела, большого специалиста по чудесам, впоследствии победил своего учителя в поединке не на жизнь, а на смерть и стал сам веселым и добрым волшебником, другом бедняков и короля, которого он предостерег от кубка с ядом и освободил из-под ига турецкого султана. Потом он мало-помалу отошел от чародейства и прибегал к нему, так сказать, лишь в самых крайних случаях, а под конец и вовсе забросил черную магию и умер почтенным старцем. В знак того, что душа его спасена, на коньке крыши явился белый голубь.
Все это звучит вполне правдоподобно и убедительно для людей, предпочитающих иметь дело с гладким и округлым плодом чьей-то фантазии, а не с грубой и шероховатой плотью реальности и считающих жизнь волшебника Крабата всего лишь нарушением нормального хода вещей, по которому заключительное "спасение" его души, в сущности, не имеет никакого отношения к Крабату и пришивается белыми нитками лишь для того, чтобы в конечном счете свести необычайное к обыкновенному, - этакая манная каша с изюмом и цукатами, в которой бесследно тонет капля темной и загадочной плазмы.
Жизнь Крабата, поданная в виде сказки для детей, вероятно, устраивает и тех, кто не знает, например, хотя бы о таком случае из времен Тридцатилетней войны, когда Крабат в день заключения мира в Оснабрюке жарил ежа в песчаном карьере и на запах жареного сбежались трое мальчишек из ближней деревни. Деревня называлась Розенталь, ее, единственную во всей долине, пощадила война, а вокруг все поросло лесом и обезлюдело, да и в этой деревне остались лишь женщины и дети. Крабат разделил свою трапезу с опухшими от голода ребятишками; в результате и досыта никто не наелся, и голодным никто не остался. А кого не грызет голод, тот интересуется кое-чем еще, кроме собственного желудка. И вот один любопытный мальчишка потянулся к дорожной палке Крабата: палка была черного дерева с круглой тяжелой рукоятью из слоновой кости. На рукояти и на самой палке были вырезаны Адам и Ева, змей-искуситель и древо познания. Дети ничего не знали об этой истории, и Крабат ее им рассказал.
"Если бы ты был Адамом, - спросил мальчик, - ты бы тоже откусил от яблока?"
"А ты?" - вопросом на вопрос ответил Крабат.
"Нет, - сказал мальчик. - Мы все остались бы в раю, тогда к нам не пришли бы солдаты и не закололи наших отцов".
В жалких лачугах, лепившихся вокруг церквушки Девы Марии у Леса, кое-как сложенной из нетесаных камней, после ухода из этих мест последнего отряда солдат не осталось в живых ни одного мужчины - даже старика.
"Волки уже и днем приходят, - добавил мальчик. - Ведь нас они не боятся".
Крабат взял в руки палку, с которой никогда не расставался во время своих странствий по земле людей и которая служила ему то посохом, то дубиной от волков всех мастей, воткнул ее в песок и спросил мальчиков, каким им видится тот рай, что потерян для них по вине Адама и Евы.
Первый ответил: досыта еды; второй: нету солдат; третий: нету волков.
Крабат кивнул и подумал: Страна Без Страха.
Он велел детям расходиться по домам, а когда они ушли, палка его превратилась в крюк, на котором повисла темная монашеская ряса.
На исходе дня в пустующую хижину рядом с заброшенной церковью вошел монах-доминиканец, и примерно в то же самое время на другом конце деревни появился оборванный бородатый солдат, изможденный долгими годами войны. Солдат был достаточно молод, чтобы, сбросив солдатскую лямку, прожить еще много лет, он был весел и нес в руках блестящую трубу.
Монах повстречался с солдатом и, когда посторонние уши не могли его услышать, назвал солдата Якубом.
Назавтра солдат сыграл на трубе "сбор", созвал всех женщин и детей в церковь, а монах прочел им проповедь на тему: Нужно вкусить от яблока, ибо это нужно. "Таких слов нет ни в католической, ни в лютеранской библии, и слова эти человеческие, а не божьи", - сказал монах. И стал говорить им об их деревне, а не о рае небесном, и после его проповеди на душе у паствы стало скорее радостно, чем благостно. Он уступил солдату одиннадцать молодых женщин и созревших для любви девушек, а сам занялся остальными.
Меньше чем через год с того дня монах занес в церковную книгу восемнадцать крещенных им детей: одиннадцать под фамилией Швед, поскольку солдат назвался шведом по рождению, а семь под фамилией Доманья, поскольку монашеская ряса на нем принадлежала не ему, а святому Доминику.
Столь же дружно монах и солдат возделали и другие залежные земли, посеяли просо и коноплю, повыбили волков и прогнали в три шеи кое-кого из ловкачей, зарившихся на чужое.
В один прекрасный день собрались они наконец на поиски образа Девы Марии у Леса, похищенного из церкви последним шведским отрядом. Одна старуха, долго кравшаяся за солдатами, чтобы спасти мадонну, рассказала, что образ, хоть и был невелик, с каждой милей становился все тяжелее. И к тому часу, когда один солдат заметил старуху и отбил ей ноги, чтобы не шастала, где не надо, шведам уже пришлось запрячь в легкую повозку с мадонной шесть пар лошадей. И осталось у них всего две пары; значит, далеко они со своей добычей не ушли.
Монах Крабат и солдат Якуб Трубач нашли образ в целости и сохранности под большой липой. Эта липа с могучим стволом и раскидистой кроной росла на холме висельников, и Крабат знал ее, и Якуб Трубач тоже, и Крабат сказал: "Живое умирает, а мертвое оживает", а его друг Якуб заиграл на трубе песню, неистовую гуситскую песню, которую в тех краях уже больше двухсот лет не слыхивали. Они вбили в ствол дерева толстый гвоздь и повесили на него образ Девы Марии у Леса.
Для бедной пустой церквушки Якуб Трубач написал новый образ. У его мадонны были длинные темные волосы, и по глазам ее было видно: она знала, что такое страх. Но кое-кто, в страхе прибегавший к ней за помощью, видел, как она улыбалась.
А украденный образ и по сей день висит на той липе, и люди говорят, что когда-нибудь будет такая война, что никому не удастся спастись. Но под липой с древним образом встретятся двое. Один придет с востока, другой - с запада, и у первого в руках будет богато украшенная резьбой палка, у второго - труба, и они спросят друг друга: "Как же ты спасся, брат?"
И оба ничего не смогут ответить, просто будут знать, что белый голубь не сидит на коньке крыши, еще - все еще - не сидит, и что все надо начинать сначала, с самого начала, с начала всех начал: земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездною.
Во всем этом кое-что верно, а в целом все неверно.
Верно, что Крабат и Якуб Трубач встретятся под липой и что один придет с востока, другой - с запада, один принесет с собой сердце убитого страха, а другой - его голову. И все же брат Крабата созовет своей трубой все четыре ветра, чтобы еще раз спросить у них, и ветры скажут: страх мертв.
Тогда Крабат зароет под липой останки страха, как зарывают убитого волка, а Якуб Трубач сыграет на трубе мелодию, про которую одни скажут: свадебная песнь, а другие: эту песнь никто прежде не слыхивал. И с каждым ударом заступа оба они все больше станут превращаться в землю, а может, в кору и ствол дерева, никто этого в точности не знает.
Останутся от них лишь палка черного дерева с рукоятью из слоновой кости да труба, которая сперва была просто листком, поющим листком, зажатым между пальцами.
На дереве же будет сидеть белый голубь; а что бы это значило, нынче никто не скажет, ведь до той поры еще много воды утечет.
Посох, может, опять превратится в сук, а труба - в лист, ветер веет, а сказка сказывается:
Вначале было так, как и представить себе невозможно. Потом вдали замерцал маленький светлячок. Он все приближался и приближался, а когда подлетел совсем близко, оказалось, что это солнце. Солнце взошло, и стал День Седьмой.
В этот день Творец создал все сущее: женщин и мужчин, горы и моря, небесное воинство и себя самого, ненасытную жадность и страсть к познанию, рыб и птиц, хлеб и соль, все, что можно себе представить и чего представить нельзя, а также водку для выпивки и табак для курения.
Сам Творец и его свита разместились на небе, а все прочее валялось как попало, без всякого порядка и присмотра, и никто не знал, что к чему. Мужчины даже не знали, что им делать с женщинами. А Творец, устав от трудов, прилег отдохнуть.
Когда он проснулся, дым стоял коромыслом, кто-то побросал всех рыб в водку, они перепились и горланили срамные песни. Творец прикрикнул на них: "Тихо!", и рыбы навеки потеряли дар речи.
А женщинам захотелось звезд с неба, чтобы воткнуть их себе в волосы или еще куда, и мужчины вскарабкались наверх и уже успели срезать несколько звезд - ведь Творец развесил их на небе, как на рождественской елке. А когда он прикрикнул на рыб, мужчины со страху выпустили звезды из рук, никто их уже не стал привязывать, вот они и плавают теперь по небу и выныривают то тут, то там. Сколько Одиссеев скорее вернулось бы домой на свою Итаку, если бы женщины не заставляли мужчин хватать звезды с неба.
Творец, поначалу разработавший свод законов только для рая небесного, теперь почесал за ухом и сказал решительным голосом: "Внимание! Сейчас буду раздавать все подряд; кому что надо, пусть крикнет "это мне!". Поняли?"
Люди поняли. Творец выхватил из общей кучи, что под руку попалось. Первым попался слон. Негр крикнул: "Это мне!" - и получил слона.
Вторым был конь. Крабат стоял рядом с человеком в богатом охотничьем наряде, и оба одновременно крикнули: "Это мне!"
"Кто крикнул первый?" - спросил Творец. Но никто не мог ответить с полной уверенностью. Поэтому он сказал: "А ну-ка, еще разок: кто крикнет громче, тому и конь".
Благородный господин крикнул громче, все это слышали, он и получил лошадь.
"А тебе зато достанется корова", - сказал Творец и дал Крабату корову.
Теперь на очереди была собака. И опять оба захотели ее иметь.
Охотник сказал: "Собака нужна мне для охоты, где конь, там и собака".
Творец согласился: "Верно говоришь", дал ему собаку и сказал Крабату: "А ты зато получишь кошку".
Под конец он стал раздавать поля, луга и леса. Благородный господин высказался в том смысле, что по логике вещей все это должно достаться ему. Ибо если поля, луга и леса будут не его, как же он сможет свободно охотиться на зверя. Тут он прав, подумал Творец.
Но Крабат сказал: "А где мне тогда взять корм для коровы? Ведь я крестьянин и знаю толк в своем деле!"
Благородный господин возразил: "И корм для коровы, и крестьянскую работу ты получишь из моих рук".
Господь был милостив от природы, и торг показался ему не совсем честным, но время было позднее, день клонился к вечеру, и ему хотелось поскорее покончить с этим делом. "Ну ладно, - заключил он вяло, - будь по-твоему".
Он увидел, что Крабат огорчен, нагнулся к нему и прошептал на ухо: "Даю тебе вечную жизнь - до тех пор, пока..." Тут неподалеку взревел лев, и никто не расслышал конца фразы, в том числе и сам Крабат.
Под самый конец, уже уходя, Творец сунул руку в карман и протянул Крабату жаворонка.
"Этот знает все песни до единой, - сказал он. - Дарю его тебе".
И улыбнулся еще раз на прощанье, кажется, ему было немного грустно: раздача прошла не совсем так, как ему бы хотелось. И наверняка приведет к неурядицам. А что охотник под шумок отхватил заодно и ненасытное всё-больше-всегда-мало, Творец даже не заметил.
Библейская гора Арарат еще была залита солнцем, а здесь внизу левкои и полынь благоухали уже по-вечернему.
Владелец лошади подошел к Крабату: "Подержи-ка коня!"
Крабат взялся за недоуздок, а тот выжег на ноге лошади свое клеймо - разверстая волчья пасть и перед ней гора.
Лошадь захрипела и рванулась, запахло горелым мясом. Крабат хмуро буркнул:
"Зачем ты это делаешь?"
"Затем, что она моя".
Охотник сгреб в охапку собаку, собака взвыла, когда раскаленное железо подпалило ей шкуру, но тут же лизнула руку своего господина. Тот дал ей пинка, и собака завиляла хвостом.
Крабат погладил ноздри лошади.
"Когда у нее родится жеребенок, - сказал он, - дай его мне".
"За хвост жеребенка заплатишь одним глазом, за его голову - другим", - ответил тот.
Крабат презрительно рассмеялся, взял кошку и посадил ее корове на спину, потом взял жаворонка и посадил его на правый рог, сам взялся за левый и тронулся в путь вдоль ограды рая. Когда из-за горы Арарат показалась луна, он остановился на ночлег.
А между тем в раю во время вечернего ритуала архангел Люцифер затеял распрю с Творцом. Сначала он критиковал лишь некоторые частности творения, возможно и впрямь не слишком удавшиеся: например, он считал запланированное открытие Америки настолько преждевременным, что из-за него и тысячу лет спустя хлопот не оберешься. Кроме того, он назвал дешевым балаганом мелодраму с запретным плодом, намеченную к постановке в раю на завтрашний день: по его мнению, надо не запрещать Адаму вкусить от яблока, а дать Еве противозачаточное средство.
Как бы в противовес этим придиркам архангел Михаил затянул бесконечный хорал: Господь, благи твои деянья. Такой образ действий уже в ту пору скорее разжигал, чем умиротворял вольнодумцев, и в конце концов Люцифер напрямик заявил, что имеет принципиальные расхождения с Творцом, в особенности в вопросе распределения благ. И если говорить начистоту, без обиняков и прикрас, то Господь уже одним сотворением этого Райсенберга - так Люцифер назвал благородного охотника, - а также явным пособничеством ему в ущерб Крабату взвалил на людей такую тяжкую ношу, что они в три погибели согнутся и все жилы из себя повытянут, пока наконец не догадаются ее сбросить.
Онемев от гнева, Господь только потряс кулаками, а святой Михаил затянул новую строфу: Лишь нужда учит молитве - Райсенберг, мол, и есть тот человек, который научит людей молиться. Уж он позаботится о том, чтобы они не закоснели в тупом довольстве и не сочли земную жизнь слишком приятной, чтобы стремиться попасть на небо. При этом Михаил поднял свой огненный меч и встал в позу, которую впоследствии поколения Райсенбергов воспроизводили на памятниках, а также при выборах императоров, объявлении войн и прочих райсенберговских апофеозах.
Люцифер в сердцах сплюнул на огненный меч, отчего Михаил окутался облаком пара, и заявил Господу, что за этой парочкой - воинствующим фанатиком Михаилом и горлохватом Райсенбергом - нужен глаз да глаз, дабы мир до поры не пошел прахом.
Однако Господь остался глух к словам Люцифера и лишил его всех привилегий, в частности права носить перед Господом семисвечник и распоряжаться его волшебными жезлами: в свое время Господь заказал себе - скорее для забавы, чем по необходимости - разные волшебные жезлы для сотворения разных чудес; некоторые из них были гладкие, как дирижерская палочка, другие богато украшены резьбой.
Люцифер, не желая, чтобы его окончательно загнали в угол, не только тайком сохранил за собой власть над змеем-искусителем, но и похитил самый красивый и один из самых могущественных волшебных жезлов Творца. Он вложил в руку спящему Крабату рукоять из слоновой кости. Пусть этот волшебный жезл будет его дорожным посохом, не без злорадства решил он.
Этот жезл, кстати сказать, служил Творцу для совершения забавных чудес, и хотя тот не заметил его исчезновения, но с тех пор больше уже не создавал таких смешных или диковинных тварей, как динозавры, драконы или кенгуру, разве что Гаргантюа да еще, пожалуй, последний кайзер Вильгельм, который ему, впрочем, не удался, с какой стороны ни глянь.
Рано поутру Крабат обнаружил в своей руке чудесную палку, повертел ее так и сяк, прикинул в уме то и это и, рассмотрев как следует вырезанную на палке Еву, подумал, что не прочь бы иметь жену. При этой мысли его охватило такое томление и в то же время такая тоска, что душа его словно раздвоилась, и непрерывные трели жаворонка стали так раздражать его своей слащавостью, противоречившей этому состоянию, что он вновь улегся и уснул.
Когда он проснулся, рядом с ним сидела девушка.
Оправив платье из грубого холста и откинув назад длинные темные волосы, она с любопытством, а может, просто внимательно оглядела его и сказала: "Здравствуй!"
Крабату ужасно хотелось дотронуться до нее, но он поостерегся - может, она ему только снится, а сны нельзя трогать руками. Он подоил корову и дал девушке молока, она выпила; значит, это был не сон.
Она сказала: "Меня зовут Смяла".
Когда они тронулись в путь, она спросила: "Куда мы идем?"
Но, поскольку нечего спрашивать "куда", не сказав "откуда", Крабат отвечать не стал. Правда, он и вообще счел за лучшее помолчать и послушать, что она скажет, чем болтать попусту, как ветер болтает с травой и деревьями.
Девушка играла с кошкой и пела вместе с жаворонком, но о вопросе своем не забыла и как бы между прочим сказала: "Куда-нибудь, где мы будем счастливы".
Она знает так много слов, и слова всё такие диковинные, подумал Крабат, а вслух сказал: "Хочу поискать для нас обоих Страну Счастья".
"А она далеко?" - встрепенулась девушка.
"Раз есть название, значит, есть и страна", - уклончиво ответил он.
К вечеру они добрались до быстрой речушки шириной в два хороших шага; вода в ней была прозрачная и чистая. Смяла, дававшая имена всему, что ей приходилось по вкусу, - вероятно, и собственное имя она тоже сама придумала - назвала речушку "Саткула".
На берегу им почудилось, будто где-то неподалеку работает мельница, и они поднялись на пригорок с раскидистой липой наверху. Пригорок этот, едва достигавший пяти ржаных колосьев в высоту, очень понравился Смяле, но имя для него почему-то не придумалось.
Потом с ясного теплого неба стал накрапывать дождик. Они уселись под липой, кошка устроилась рядом, а корова предпочла остаться под дождем и укрыла своим телом курицу, склевывавшую с нее черных, отливающих зеленью мух. Луга, полого спускавшиеся к Саткуле, заволоклись легкой дымкой. Крабат сказал: "Это будет наша земля".
Смяла кивнула в знак согласия - то ли потому, что место ей тоже понравилось, то ли потому, что липа источала сладкий аромат; потом она запела песню без слов, радостную и в то же время печальную. Крабат нахмурился - ему очень хотелось сказать что-нибудь такое, что бы подходило к песне, но звучало бы вполне разумно. Таких слов у него не нашлось. Подумав, он чуть было не сказал, что Смяла ему кого-то напоминает, но удержался - это было бы ложью, а ко лжи у него не лежала душа. Еще не ясно, не сон ли она, да и чувство его только что зародилось. Все будет напоминать мне тебя - вот это было бы правдой, но правдой о конце, а не о начале. Поэтому он промолчал.
Смяла, легкая и гибкая, одним движением поднялась с земли, Крабат попробовал было встать, как она, но завалился на бок и, лежа, подхватил ее песню без слов, но теперь у этой песни появились слова. О Смяла, до чего же ты хороша.
Смяла перебросила на грудь свои темные волосы - знала, для чего: для этого теплого дождика, а может, для аромата липы или для хриплой песни Крабата, - она перебросила волосы на грудь, и дождик смыл и унес ее платье. Иди ко мне, сказала она, а может, и не сказала, но Крабат это услышал.
Иди ко мне, поманила она и побежала, легко отрываясь от земли, но потом вдруг вскрикнула и остановилась. Она села на камень и, закинув правую ногу на левое колено, низко склонилась над ней и принялась искать занозу в ступне поднятой ноги, придерживая ее за щиколотку. Крабат смотрел на ее выгнутую дугой спину, на округлую линию бедер, мягко переходящую в очертания ноги, напряженной от неудобства позы, и заноза в ее ноге колола его больнее, чем десять заноз в собственной груди; он опустился на колени и хотел вытащить занозу. Но Смяла проворковала что-то ласковое - а может, вовсе и не ласковое, - обвила волосами его шею и вскочила так внезапно, что он покатился в траву, а она пустилась прочь, пританцовывая на бегу. Заноза впилась не в ее ногу, а в его живую плоть, он погнался за ней, и, хотя она звонко смеялась, дыхание ее уже стало прерывистым, а темные волосы разлетелись по ветру.
Внизу у пригорка стояла яблоня, ее раскидистые ветви свисали почти до самой земли. Смяла обвила руками кряжистый ствол и, когда Крабат догнал ее, соскользнула на землю; над ее головой дерево зазеленело. Под ними высохла трава, над ними дерево покрылось плодами.
Из лесу выехал всадник, он был при оружии и с собакой. Собака залаяла, Крабат поднялся с земли. Всадник оглядел местность и одобрительно кивнул - ему она тоже понравилась. Он подъехал поближе и, не обращая внимания на парочку под деревом, сорвал яблоко и впился в него зубами.
"Вы здешние?" - спросил он. И, не спеша доедая яблоко, стал в упор разглядывать Смялу. Глаза его сидели как-то слишком близко друг к другу - на широком лице узкие, жесткие глаза. Собака почесывалась, свесив влажный язык.
Крабат ответил, что они живут на этом холме.
Всадник соскочил с коня и захлестнул поводья вокруг ствола яблони. Смяла увидела, что на левой задней ноге лошади выжжено клеймо: разверстая волчья пасть и перед ней гора. Она рассмеялась прямо в лицо чужаку - волку, мол, не проглотить гору.
Крабату очень хотелось, чтобы всадник поскорее уехал, и он сказал: "Возьми себе горы, этот холмик наш".
Но всадник топнул ногой, и на земле отпечаталось его клеймо. Смяла уже не смеялась, и Крабат понял, что такое страх.
Когда стемнело и они занялись любовью, Крабат увидел волчье клеймо на плече Смялы, а она - такое же на его плече; они слились в одно целое, грудь к груди, он ощутил себя в ней, а глаз на затылке у них не было.
К ним на холм поднялся мельник, тоже меченный волчьим клеймом; мельник сорвал листок с липы, зажал его между пальцами, и листок запел: мельник охранял их любовь.
Смяла лежала рядом с Крабатом, а над ними нависал страх. С каждым вздохом они вбирали его в себя.
Когда занялось утро, Крабат оставил Смялу и подсел к мельнику. Они сидели рядом, плечо к плечу, и не было нужды говорить какие-то слова или клясться кровью в знак вечного братства.
Жаворонок взлетел ввысь.
Крабат сказал: "Дарю его тебе".
Мельник поглядел вслед взмывшей в небо птице и кивнул. Листок, певший ночью в его пальцах, превратился в трубу. Он приложил трубу к губам и заиграл, но песня не получилась.
Смяла проснулась, подсела к ним и нарекла мельника Якубом Кушком. "Якуб звучит надежно, а Кушк - весело", - заявила она.
Может, оно и так, а может, и нет, ведь каждый слышит по-своему, но эта выдумка Смялы привела впоследствии к некоторой путанице.
Ибо некий Якуб Кушк, мельник и мастер играть на трубе, привлекался к суду низшей инстанции за сидение со своим инструментом в стоге сена, что и засвидетельствовано документально летом 1908 года.
Согласно его собственным показаниям, этот Якуб Кушк мирно спал в том стоге, не замышляя ничего дурного, пока какая-то лошадь не сунула морду в сено. С перепугу мельник затрубил что было силы, не подозревая, что на лошади той восседает сам кайзер Вильгельм Второй, который в свою очередь принял трубу мельника за библейскую трубу Иерихона.
Во время судебного процесса не удалось, однако, с полной достоверностью установить причинно-следственную связь между подлинной или мнимой иерихонской трубой, с одной стороны, и пугливой лошадью императора - с другой, и в силу этого обстоятельства судья, засадивший мельника Кушка за решетку по обвинению в злоумышлении против Его Величества и нарушении порядка во время маневров, говорил не о библейском событии, а об искусствах. Искусства, доказывал он, если им предаются, так сказать" необузданно, не сдерживая себя благонадежным образом мыслей и уважением к всевидящему оку закона, в состоянии разрушить и не такие твердыни, как стены какого-то захудалого городишка, к тому же еще и иудейского.
Сев на своего конька, судья уже не мог с него слезть и в конце концов договорился до революции 1848 года, в которой были замешаны как мельник Кушк, так и некий субъект по имени Крабат - а в высших инстанциях доподлинно известно, что эти неразлучные друзья при любом удобном случае науськивают народ против властей.
Люди, которые - по личной ли склонности или по долгу своей профессии - часто витийствуют публично, очень любят уснащать свою речь образными выражениями; по, поскольку эта любовь не всегда бежит в одной упряжке с правдой, они невольно смешат своих слушателей. Вот и тут публика, заполнившая зал участкового суда, покатилась со смеху, и только защитник злоумышленника, посягнувшего на жизнь кайзера, одобрительно кивал головой, с серьезным и глубокомысленным видом внимая словам оратора. Но именно это и заставило судью покраснеть: по-человечески он уважал этого защитника больше, чем полагалось судье по должности.
Защитник этот, по профессии вовсе не ученый адвокат, а простой каменщик по имени Петер Сербин, был знаменитым дружкой, то есть распорядителем на свадьбах, а кроме того, еще и выборным и признанным властями представителем деревень из долины Саткулы.
Это последнее обстоятельство и впрямь имело некоторое отношение к революции 1848 года.
В ту пору люди из этих деревень пришли толпой к воротам замка и потребовали, чтобы их делегатов впустили внутрь. Поскольку замок не подавал признаков жизни, они начали кричать и кричали до хрипоты, но замок оставался глух и нем. Графиня Райсенберг продолжала раскладывать пасьянс в парадной зале, выходящей окнами в сад, время от времени серебряной ложечкой кладя себе в рот селедочьи глаза: от всех других яств у графини делалась мигрень. Граф же читал семейную хронику.
Перед замком главарь делегации Бастиан Сербин закурил трубку, и дым потянулся к замку - ветер дул восточный, что было редкостью в это время года.
"Раз мы охрипли, пусть-ка и он покашляет", - сказал главарь. Сельчане натащили к замку, старой соломы и прелых листьев, дым и чад поднялись такие, будто черти поджаривали грешников в аду, так что у графини, несмотря на селедочьи глаза, все же разыгралась мигрени, а от короля Саксонии так и не прискакали ни гонец, ни отряд кавалерии. Тогда Бастиан Сербин за воротами замка затянул песню: ...Вольф Райсенберг был жестокий господин. "Песне этой много сотен лет, а они все учат ей своих детей с колыбели, хотя она давно уже устарела", - проворчал граф. Наконец кузнецу удалось установить у ворот таран, и Фридрих Вильгельм граф Вольф Райсенберг приказал открыть перед революцией двери замка.
Тем не менее революция продолжала напускать на замок дым и вонь, пока граф не поставил своей подписи под ее условиями - семнадцать пунктов, какие пустяковые, а какие и нет: право пасти скотину на большом заливном лугу после дня святого Михаила, отмена выкупных долгов, право ловить рыбу в Саткуле и собирать грибы в лесу, запрет замку нанимать мастеров со стороны, если по этому ремеслу имеются мастеровые в деревнях, и так далее, я тому подобное, а под конец торжественное заверение в том, что каждый волен держать собаку и называть ее, как ему вздумается - хоть Вольфом, - и что все деревни выбирают одного представителя, который станет защищать их интересы в споре по любому из семнадцати пунктов, буде таковой возникнет, даже и перед судом, коли того пожелает одна из сторон.
Граф - все еще волчья шкура, но давно уже не волчье сердце - подписал бумагу, Бастиан Сербин тоже нацарапал свое имя, и сперва хотел было поставить точку, но потом передумал. Еще не пришло время ставить точку, решил он, ставить точку и подводить черту.
Когда Бастиан Сербин умер - а время ставить точку и подводить черту все еще не пришло, - деревни выбрали своим представителем его сына Петера, и вот он-то и представил теперь судье официальную бумагу, удостоверявшую, что к тем событиям мельник Кушк опоздал родиться на целых восемь лет.
Что касается Крабата, то он и впрямь при них был.
"Ага, значит, все-таки был!" - воскликнул судья.
"Ясное дело, - ответствовал защитник и дружка, как бы в подтверждение своих слов подняв над головой самый красивый из пяти жезлов, который всегда имел при себе в торжественных случаях: черное дерево, окованное серебром, рукоять из слоновой кости, а чеканкой по металлу и резьбой по кости - история Адама и Евы. - Ясное дело, - повторил он, - но ведь тут и Наполивон ничего поделать не мог".
Люди в зале суда задвигались, усаживаясь поудобнее, а кое-кто даже еще и приложил ладонь к уху, чтобы лучше слышать, мельник Кушк подмигнул своему другу, а судья переспросил: "Наполеон?"
Петер Сербин, начав издалека, рассказал, как в мае 1813 года, после битвы под Бауценом, союзники потому лишь успели убраться подобру-поздорову, что Наполеон вместо того, чтобы отдать приказ об их преследовании и добиться его выполнения, по воле Крабата всю ночь протанцевал с девицей Любиной в парадной зале богатого дома Хартманов на Лауэнгассе.
После этого Петер Сербин собирался поведать, как и у наполеоновского белого коня, уж наверняка набравшегося боевого опыта в сражениях и войнах, тоже иногда сдавали нервы, а затем перейти от одной императорской лошади к другой и таким образом доказать невиновность Якуба Кушка.
Но едва он приступил к обстоятельному рассказу, как неподалеку на башне ратуши пробило четыре раза. В четыре часа суд обычно заканчивал работу, судья и без того считал свой труд низкооплачиваемым, и, не видя достаточных оснований, чтобы перерабатывать лишнее, он, не говоря худого слова, поднялся и огласил приговор: злоумышлявшему на кайзера по распоряжению свыше полагалось не меньше года тюрьмы, однако судья - вероятно, по ассоциации с числом только что пробитых ударов - засадил Якуба Кушка за решетку всего лишь на четыре недели.
В скором времени судья воспользовался каким-то пустяковым предлогом, чтобы заглянуть к Петеру Сербину, жившему на холме, и послушать историю про Наполеона и девицу Любину.
Петер Сербин - он как раз вязал метлы, а это занятие беседе не помеха - рассказывал, смакуя все сочные и скоромные места, а судья слушал затаив дыхание; однако чем дальше, тем яснее возникало в нем странное ощущение: казалось, он одновременно и видел своими глазами события столетней давности там, в парадной зале, и сидел здесь на деревянной скамье под липой, напротив Петера Сербина. Тот оседлал деревянную колоду и перевязывал пучки прутьев гибкой хворостиной; а судье казалось, что напротив него на широком подоконнике удобно устроился Крабат и помахивает жезлом то совсем медленно, то быстрее, и точно так же - то совсем медленно, то быстрее - двигается Наполеон в паре с девицей, танцуя вокруг стола, заваленного военными картами.
В некотором смятении судья попрощался, сам не зная с кем: то ли с Крабатом, то ли с Наполеоном или же с дружкой; конфискованную трубу мельника он без всяких объяснений оставил на скамье.
Судье не случалось бывать в доме, где в тот раз останавливался Наполеон, теперь он туда поехал и под каким-то предлогом попросил показать ему парадную залу: она оказалась в точности такой, какой виделась ему во время рассказа о событиях той майской ночи 1813 года.
Судья никому не сказал, что однажды побывал одновременно в двух местах и двух временах, мало-помалу ему удалось даже забыть об этом, но он никогда больше не расспрашивал о Крабате, а о дружке Петере Сербине говорил как бы между прочим, что тот умеет так рассказывать разные истории, что в конце концов кажешься себе своим собственным прадедом.
Петер Сербин никому не навязывал своих историй, тем более о Крабате, но, когда его спрашивали, он отвечал.
Никто не расспрашивал его так много, как внук Ян: он спрашивал о звездах на небе и о камнях в земле, о воде в колодце и о листьях на дереве.
В ответ дед всегда рассказывал длинные истории, и сами эти истории вначале были для мальчика многоцветной действительностью; спустя какое-то время их краски постепенно поблекли, и проступила серая явь, а спустя еще много времени - когда дед уже давно лежал в могиле - явь снова стала играть и переливаться всеми цветами, как радуга, которая ведь не что иное, как проявление целого через части.
Это проявление началось - не замеченное Яном - очень рано, когда все невероятное казалось простым и свободно перемещалось во времени и пространстве, когда слово еще обозначало лишь один предмет и каждый предмет был только самим собой. В ту пору Крабат был для внука Петера Сербина и Али-Бабой, и Синдбадом Мореходом, и Тилем Уленшпигелем - плутом и насмешником, и Тилем - свободным гёзом, и победителем дракона, и благородным принцем; он был для него могучим богатырем - вершителем великих дел.
Но только когда Крабат отправился на поиски Страны Счастья, он стал Яну близким и родным, он начал взрослеть вместе с мальчиком, и преграды на его пути стали преградами и для Яна. Этот новый - и близкий - Крабат познал глубь веков, пустыни бессилия, океаны бесправия, бескрайние дали вечного возрождения и горизонты счастья. Он участвовал и в открытии Америки, и в сражениях с турками под Веной, и в штурме Бауцена гуситами. Он изобрел колесо и солнечные часы, поднялся на Гаури-Санкар, открыл северный полюс, завел шведов в болота, штурмовал Бастилию и был похоронен на кладбище Пер-Лашез.
Но он не был бездомным перекати-поле: здесь, на холме у Сербинов, была его родина. Здесь он копал колодец и сеял рожь, здесь он умом и хитростью, а то и с оружием в руках боролся с Вольфом Райсенбергом. Здесь он был не раз убит и вновь оживал, умирал и был своим собственным сыном. Здесь он установил моровой столб и подновлял его раз в столетье. Для Яна Крабат принял образ дедушки, и их жизни были как опавшие лепестки кувшинки, которую щука нечаянно сбила хвостом: лепестки эти то сближаются, то отдаляются друг от друга; случается, что некоторые лепестки прячутся под другими и кажутся одним лепестком.
Мальчику всегда хотелось быть Крабатом, а однажды, в день похорон дедушки, ему захотелось стать таким, каким был его покойный дед.
В деревню, где его отпевали, съехалась вся округа, и тот судья тоже приехал проводить Петера Сербина в последний путь. Власти прислали два грузовика с полицейскими - для поддержания порядка, как поговаривали в народе. Остальные деревни в долине Саткулы настолько обезлюдели, что цыган Богаз имел полную возможность спокойно прибрать к рукам знаменитую трубу мельника Кушка. Он играл на ней два года, потом она развалилась, и цыган опять взялся за точильное ремесло.
Но труба была совсем не та, настоящую-то мельник Кушк взял с собой на похороны и ее звуками проводил своего друга в могилу; в полицейском рапорте властям отмечалось, что он вопреки христианскому обычаю играл что-то неподобающе веселое.
Мельник Кушк и не подумал объяснять властям, почему он играл именно так, а не иначе. За три дня до этого он зашел утром к Петеру Сербину, принес миску вишен,
"Хорошо, что ты пришел, Якуб, - сказал тот, - я как раз собираюсь в путь-дорогу. Похоронят меня в будущий вторник, в этот день я справлял свадьбы, всего их было тысяча четыреста сорок девять, и, чтобы вышло круглое число, сыграй на моих похоронах, как на свадьбе".
Мельник Якуб Кушк пообещал, они выпили по рюмочке, и мельник пошел домой. А дед позвал внука и протянул ему самый красивый из своих свадебных жезлов, обвитый синими, красными и белыми лентами, с рукоятью из слоновой кости. "Этот жезл знает все, что я не успел тебе рассказать, храни его как зеницу ока", - сказал он и кивнул внуку, чтобы тот уходил, потом съел несколько вишен из миски и стал перебирать в уме, не забыл ли чего, - оказалось, вроде все сказал и все сделал; он откинулся на подушку и умер.
Яну было тогда десять лет; много людей собралось, чтобы проводить в последний путь своего верного защитника и знаменитого дружку, и внук тоже бросил три пригоршни земли на гроб того, кто был для него в детские годы великой книгой жизни. Священник сказал, что покойный был человеком мудрым, справедливым и не ведавшим страха перед людьми, которые ставят свое право выше справедливости, - при этих словах полицейские на всякий случай взяли резиновые дубинки в руки, а внук посмотрел на белых голубей, сидевших на крыше церкви: дедушка, а как это - быть мертвым?
И тут мельник Кушк весело и торжественно ответил за деда: когда меня опускали в могилу, мельник Кушк играл свадебную песню - значит, мертв тот, кто не жил.
Мальчику почудилось, будто эти слова произнес Крабат, и это не особенно удивило и ничуть не смутило его, и, когда все голуби взлетели с крыши, а один остался, в его глазах это был голубь Крабата, а сам Крабат стоял рядом с ним, и дедушка не был мертв, и они переходили друг в друга, а потом стали им самим. Но и это не смутило его и не показалось странным - просто мир был так устроен, что его не всегда удавалось понять.
Он понял его позже, имея за плечами тысячу снов и дел, мыслей и впечатлений, переплетавшихся друг с другом, многослойных и многоликих. С годами из этой мешанины все четче выделялся один слой, который он называл про себя "реальностью Крабата" и который включал антивремя и антипространство. Он был уверен, что эта реальность в тысячах точек пересекалась с его собственной и в тысячах точек отклонялась от нее - вплоть до обращения в полную противоположность.
Иногда ему казалось, что стоит лишь протянуть руку - и прикоснешься к Крабату. Но так ни разу и не протянул: не видел в том нужды.
А иногда казалось, что он может и должен проникнуть в эту другую реальность, стать Крабатом и, взмахнув волшебным жезлом, совершить чудо спасения.
Такие и подобные мысли и чувства заставили его однажды сделать в своем дневнике, который он вел от случая к случаю, следующую запись: "Но если когда-нибудь День Седьмой придет к концу, то станет необходимо - последним актом свободного разума - овладеть также и несвязанным временем, чтобы всё время взять с собой в День Восьмой, который начнется с того, что человек окончательно решит, кем он станет: НИКЕМ или наконец-то ЧЕЛОВЕКОМ без страха перед жизнью и без надежды на спасение от нее".
В другом месте он назвал Седьмой День периодом несамоопределения человека, за которым последует период полного самоопределения. День этот может продлиться и века, и несколько секунд самоуничтожения - это будет зависеть от того, будут ли моральные качества человечества в тот момент не только уравновешивать, но и превосходить его технические возможности.
Он, бывший свидетелем того, как одна Великая война закончилась атомной бомбой, а другая благодаря ей же не состоялась, как в пробирках и ретортах готовилась третья, бескровная, по еще более ужасная, а дух смертельного соперничества уже заразил своим семенем землю, и чрево ее вздулось от бомб и ракет - почем знать, когда оно лопнет? - он шаг за шагом растерял былую веру в глобальность воздействия идей и нравственных принципов, якобы способных идти в ногу со стремительным развитием техники. С утерей этой веры укоренилось в нем убеждение, что именно его наука, биология, призвана спасти человечество. Она откроет главные принципы жизни, выяснит все детали ее структуры и научится синтезировать ее элементы с равноценным качеством - для того, чтобы в конце концов ген за геном создать нового человека, запрограммированного на овладение своим собственным будущим. Этот человек будет, как утверждал Ян Сербин, и разумным, и нравственным, - правда, не разумным от нравственности, а нравственным от разума.
Поэтому он трактовал "несвязанное время" как то, что иногда им же самим обозначалось термином "антивремя", но одновременно и как всю совокупность проблем и опыта прошлого. Он исходил при этом из того, что, если хочешь вообразить себе будущее как можно более осмысленным, прошлое не может представляться абсолютно бессмысленным. Если отказаться от этого условия, то и настоящее неизбежно окажется сущей бессмыслицей, а с ним и все бытие, и несовершенство сущего мира предстанет как непреложный закон хаотического нагромождения случайностей.
Эти соображения подтолкнули Яна Сербина к тому, чтобы наряду с изучением человека как биологической категории заняться им как категорией нравственной, и в ходе этих исследований картины, впечатления и представления его детства и ранней юности как-то незаметно для него самого стали занимать все больше и больше места в его мыслях.
Среди немногих вещей, которые остались у него от тех лет, были свадебный жезл из черного дерева и толстая тетрадь в черном картонном переплете с записями его деда и мельника Якуба Кушка.
Последняя запись, сделанная рукой деда, гласила: "Я видел странный сон. На одичавшей яблоне висело три одинаковых яблока. Под деревом сидела Смяла и играла моими часами. Одно из яблок можешь сорвать, сказала она. Я не знал, какое выбрать. Она сказала, одно из них солнце. Когда оно взойдет, настанет ночь. Второе - земля. Правильно выберешь - не потеряешь. Третье - твои часы. Они идут или стоят. Я должен был сорвать яблоко и не знал какое. Я сорвал одно, оно оказалось таким тяжелым, что двумя руками не поднять, - это была земля. Смяла обрадовалась, а я стал совсем молодым. Я все молодел и молодел и наконец превратился в своего внука Яна. Мои часы тикали на дереве. У меня осталось совсем мало времени".
Ниже Ян Сербин приписал: "У нас осталось совсем мало времени на размышления - взять землю в свои руки или позволить Черному Солнцу взойти. Наше время сокращается, как шагреневая кожа, - каждый день наполовину".
Произведения
Критика