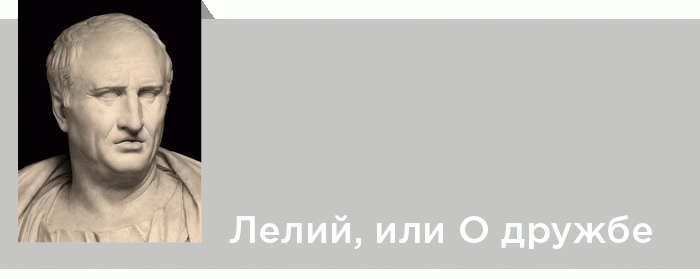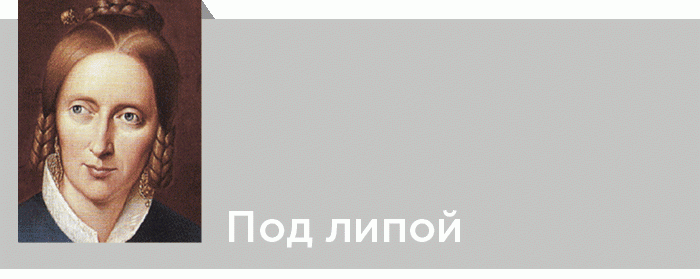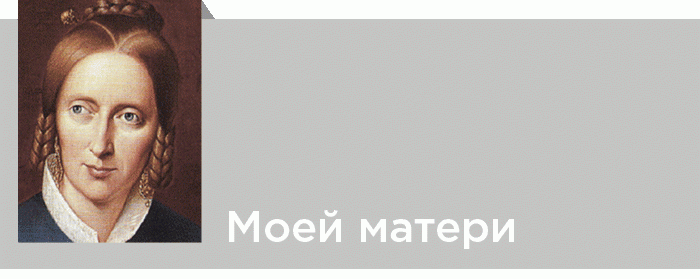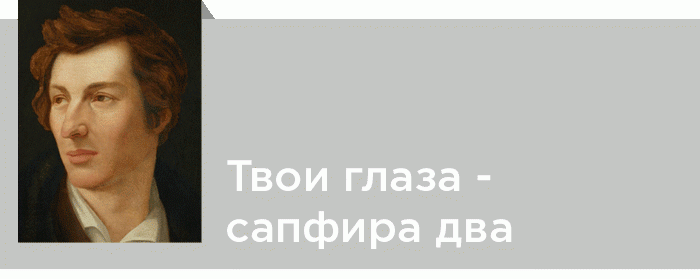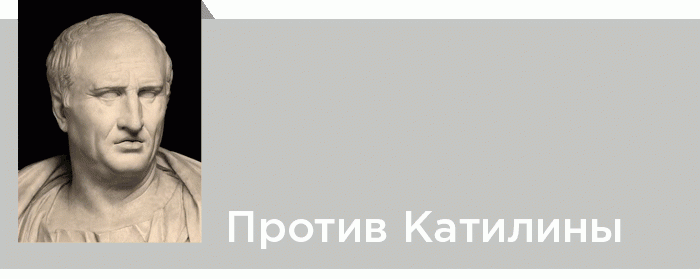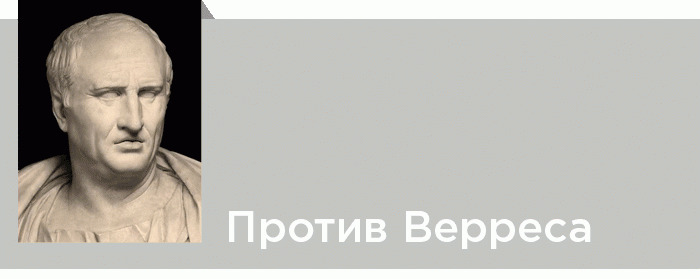Понятие «современности» искусства в эстетике Гейне и роль французской литературы в формировании мировоззрения писателя

Н. П. Банникова
Понятие «современности» приходит в литературу вместе с романтизмом, с открытием исторически детерминированного искусства, долженствующего соответствовать неповторимому многообразию конкретной эпохи.
Проблема связей Гейне с культурой и революционной мыслью Франции давно стала достоянием литературоведения. Но из поля зрения исследователей выпали вопросы связи Гейне непосредственно с французской литературой.
Отечественное литературоведение и современное демократическое литературоведение Германии вскрывают сложную диалектику взаимоотношений национальных немецких традиций и передовых идей французской революционной мысли в мировоззрении писателя, однако и в этих работах литературные связи Гейне ускользнули от внимания исследователей.
В конце XIX в. и особенно в последнее время в западном литературоведении появилось несколько крупных работ и большое количество статей, в которых исследователи кропотливо изучают личные связи Гейне и французских писателей, но вопрос о творческих взаимосвязях в них даже не ставится.
Вместе с тем, однако, совершенно очевидно, что из сложного комплекса французских влияний, политических и философских, нельзя исключать влияний эстетических. Гейне-писатель был теснейшим образом связан с писателями Франции, где в это время происходила напряженная борьба различных течений и направлений. Франция для Гейне стала не только политическим убежищем, но и родиной созданных им лучших произведений, как художественных, так и публицистических. Не требует доказательства то положение, что Гейне и во Франции остается прежде всего национальным немецким поэтом и все его произведения этих лет — это творческое развитие национальных традиций на новом историческом этапе. И столь же несомненно, что литературные процессы, происходившие во Франции и соответствовавшие направлению борьбы Гейне за создание новой революционно-демократической эстетики, не могли пройти мимо внимания писателя. Публицистические работы Гейне этих лет свидетельствуют о стремлении писателя понять причины отставания Германии от всех крупных европейских стран не только в области политической и экономической, но и в области духовной, и прежде всего литературной. При анализе литературоведческих работ Гейне напрашивается интересный вывод: французская литература присутствует почти в каждой статье в качестве своеобразного критерия ценности того или иного литературного явления в такой же степени, как анализ политической жизни Франции становится критерием истины в процессе разоблачения реакционных сил Германии.
В 20-е годы начинающий поэт, переживавший трагический разлад с действительностью, делает первые шаги в стремлении определить свое место в искусстве и одновременно задачи и цели развития литературы Германии и современного европейского искусства в целом (статья «Романтика» и др.). В письме Христиану Зете от 14 апреля 1822 г. Гейне в свойственной ему манере, полушутя определяет свои интересы, где теснейшим образом переплетены его симпатии к Германии и Франции. «Все передумал за одну ночь: смесь из семьи, истины, французской революции, Прав человека, Лессинга, Гердера etc.».
Начиная с первых выступлений, эстетическая мысль Гейне развивается в сложном и своеобразном процессе слияния субъективного писательского опыта и объективного творческого осмысления законов развития действительности, традиции национальной и зарубежной литературы и философии. Творческий поиск осмысляется в критических работах, критическое освоение прогрессивных явлений прошлого и настоящего становится основой эволюции творчества поэта, прошедшего путь от романтического разлада с действительностью до осознания необходимости ее изменения революционным путем.
После смерти Гёте, на протяжении почти всего XIX в. немецкая литература не сумела выдвинуть почти ни одного писателя, кроме Гейне, представлявшего немецкую литературу на мировой арене.
Неудавшаяся революция 1848 г. погрузила Германию на долгие годы в состояние застоя.
Широта политических, философских и эстетических воззрений Гейне позволила поэту преодолеть исторически сформировавшуюся узость и мелкобуржуазный характер немецкой литературы XIX в. и вывести немецкую мысль на арену мировых борений, близких и родственных направлению борьбы революционной Франции.
Не ставя своей целью дать в этой работе общую картину развития эстетики Гейне, хотелось отметить лишь несколько интересных моментов, сближающих эстетические искания понятия «современности» немецкого поэта и крупнейших писателей Франции.
Драматизм исторической эпохи — умирание феодальной и рождение буржуазной формации — требовал адекватного выражения в искусстве. Несколько позднее, в 1830 г., Гейне четко сформулировал это ощущение, внутренне созревавшее в мировоззрении писателя еще в 20-х годах. «Революция врывается в литературу, и война становится серьезнее», — писал Гейне Варнгагену фон Энзе 4 января 1830 г. В литературе начала XIX в. ломались старые каноны, старые жанры наполнялись новым содержанием, менялись привычные формы искусства. Драматическая сущность эпохи искала своего выражения. Начинающий писатель, всегда удивительно тонко чувствовавший новые веяния эпохи, еще в 20-х годах пытается выразить назревшие социальные проблемы именно в драматургической форме. Опыт ранней драматургии Гейне («Альманзор», «Ратклиф») был обречен на неудачу. В Германии этого времени еще не родился театр, способный выразить проблемы современности с такой силой, как это сделал театр Гюго во Франции в 30-х годах. Гейне, сознавая свою неудачу, пытался осмыслить ее причины.
В одной из ранних статей «Смерть Тассо» — расширенной рецензии на трагедию В. Сметса, современника писателя, — Гейне пытается понять проблемы современной драматургии. Работы первого периода свидетельствуют о глубоком внимании, с которым писатель изучает национальные традиции и прежде всего творчество Лессинга, Гете, Шиллера. Вместе с тем поэт ощущает внутреннюю неудовлетворенность эстетикой драматургии прошлого и ищет новые формы, способные передать кричащие противоречия современности, уловить драматическую диалектику противоборствующих сил. «За что добродетельный человек должен погибнуть от козней негодяев? Почему доброе намерение оказалось пагубным? За что принуждена страдать невинность?..».
Древняя трагедия, как отмечал Гейне, пыталась возместить отсутствие ответов на все эти вопросы введением фатума, судьбы, рока. Французская трагедия «псевдоклассицизма», нашедшая последователей также и в Германии (Готшед и др.), пыталась дать ответ путем введения в трагедию «раздвоенной личности». «Раздвоенность» героя в трагедиях «псевдоклассицизма» базировалась, по мнению Гейне, не на конкретно-историческом противоречии, а на случайных совпадениях, недоразумениях и т. д. «Не следует допускать, — писал Гейне, — чтобы холодный рассудок измышлял всяческие ужасы, составляя из них мозаику и штабелями укладывал их в трагедию».
Не приемля крайностей рационалистической трагедии, Гейне не может согласиться и с субъективизмом и иррационализмом романтического немецкого театра, отказавшегося от строгости и стройности, естественной цельности классицистов. Гейне не столько выразил, сколько верно почувствовал, что классицистическая эстетика, сформулированная Буало, не оставляла места для явлений иррациональных. Поэтому трагедия должна, по мысли писателя, дать «общее представление о природе, отрешение от субъективности, точное живое описание событий, ситуаций, страстей и характеров...». В определении, которое дает Гейне трагедии, ощущается терминологическая путаница, в нем спокойно уживаются понятия классицистической и романтической эстетики. И вместе с тем обращает на себя внимание принцип историзма — «описание событий и ситуаций», — который пришел в литературу с новой эпохой и стал достоянием литературы английской (В. Скотт) и французской (Стендаль, Мериме, Бальзак), а в Германии не получил, да и не мог получить еще широкого распространения в силу все тех же причин политического положения страны. Явно романтическое понятие «страстей» нивелируется «отрешением от субъективности» и в свою очередь дополняется и уточняется понятием «характера», поставленного в зависимость от событий и ситуации.
Так, начиная с первых шагов, Гейне подходит к определению того своеобразного синтеза романтической и реалистической поэтической стихии, которая стала сущностью его художественного метода.
В предисловии к драме «Альманзор» (1823) поэт пишет о практической попытке «воссоединить романтический дух со строго классической формой». Ратуя против субъективного произвола романтиков, Гейне не только допускает наличие лиризма, то есть той же субъективности, но даже считает, что лиризм способен заменить классицистические единства «единством чувства». Гейне апеллирует к творчеству Расина, тем самым вскрывая сущность его театра как синтеза лирических, эмоциональных и рационалистических начал. Именно это и привлекает Гейне в творчестве Расина, к осмыслению которого он обращается неоднократно.
Вопросы формы волновали Гейне только лишь в той степени, в которой они могли способствовать выражению нового содержания «современности». Идеал «действенной» драматургии заставляет писателя мучительно искать новые формы. В этих поисках Гейне обращается к творчеству Гете и Шиллера, Фосса и Форстера, Бюргера и Лессинга, наконец именно этой идее подчинен весь многообразный анализ творчества французских просветителей, на основе которого Гейне приходит к выводу о взаимозависимости «мысли» и «дела», идеологии и действительности.
Именно с этих позиций Гейне обрушивается на реакционно-романтическую критику творчества Расина Фридрихом Шлегелем. «Славу г. Шлегеля еще больше повысило впечатление, произведенное им впоследствии во Франции, когда он начал нападать на французские литературные авторитеты. С гордой радостью видели мы, как наш боевой земляк доказывает французам, что вся классическая литература ничего не стоит, что Мольер балаганный фигляр, а не поэт, что Расин тоже никуда не годится и что, наоборот, в нас, немцах, надо видеть настоящих царей Парнаса. Его припев был всегда один, что французы — самый прозаический народ на свете и во Франции вовсе нет поэзии. Это утверждал сей человек в эпоху, когда на его глазах еще продолжали живьем выступать многие корифеи Конвента, великой трагедии титанов, когда Наполеон ежедневно импровизировал по хорошей эпопее, когда Париж кишел героями, королями и богами...». В последних словах заключена основная мысль обращения Гейне к французскому классицизму и прежде всего к творчеству Расина, сумевшему в свою эпоху понять и отразить основной конфликт времени, воссоздав его в совершенной, строгой форме, обнажавшей трагическую сущность столкновения идеологии умирающей формации феодализма и рождавшегося буржуазного общества. То есть, иными словами, творчество Расина помогло сформулировать требования отражения искусством ведущего исторического конфликта эпохи.
Подобно Винкельману, Лессингу и Гердеру, подходя к вопросам искусства с исторической точки зрения, Гейне сумел в условиях Германии верно понять и отразить эстетические искания и литературные процессы, которые происходили в 20-30-е годы также и во Франции, а следовательно, выражали сущность эпохи. Во Франции идеи борьбы за современное, исторически верное и действенное искусство сформулировали в своих манифестах Стендаль в работе «Расин и Шекспир» и Гюго в предисловии к драме «Кромвель». «Я чту Корнеля и люблю Расина, — писал Гейне. — Они создали мастерские произведения, которые будут стоять на вечных пьедесталах в храме искусства. Но на сцене их время прошло, они исполнили свою миссию». Новое время «требует новых поэтов».
И вместе с тем Гейне в 30-е годы вновь обращается к творчеству Расина с той же последовательностью, с которой и сам он, и писатели Франции в те же годы обращались к национальным и инонациональным традициям просвещения, романтизма, да и многих других эпох (Стендаль, Бальзак, Мериме, Гюго) в создании теории современного искусства.
Для Гейне Расин стал «современным поэтом», «глашатаем нового времени» прежде всего потому, что отразил в своих произведениях исторически родственную для Германии эпоху, так же, как был отвергнут Стендалем во Франции, где творчество Расина символизировало давно уже пройденную эпоху. Знаменательно то, что оба писателя с разных позиций приходят к одинаковым выводам о необходимости создания искусства, способного отразить историческое развитие каждой страны и грандиозную ломку веками устоявшихся представлений, свергнутых XIX веком.
Французская драматургия подсказала Гейне и пути искусства будущего, когда историю будут определять народные массы. «Вообще, кажется, миновал тот период мировой истории, — писал Гейне в статье «Французские дела», — когда надо всем высились деяния отдельных личностей. Сами народы, партии, герои нового времени. Современная трагедия отличается от античной тем, что теперь хоры принимают участие в действии и исполняют настоящие главные роли, тогда как боги, герои и тираны, бывшие раньше действующими лицами, опустились теперь до ролей праздных представителей воли партий и деяний народа...».
И, может быть, не без влияния Расина (автора «Гофолии») появился в «Альманзоре» Гейне хор, исполняющий роль оракула революционных событий, переносивший давно минувшие события в XIX век. «В Расине окончательно угасло мировоззрение средних веков, в нем рождаются только новые чувства, он рупор нового общества; в груди его благоухали первые фиалки нашей современной жизни; здесь могли мы увидеть даже первые почки тех лавров, которые так могуче распустились лишь позже, в наше время. Кто знает, сколько подвигов выросло из нежных стихов Расина!».
В процессе осмысления классицистического и просветительного театра Гейне теоретически наметил пути развития современного драматического искусства, но рядом, как в Германии, так и во Франции существовал реальный театр. Сколь неудовлетворительным ни казался он Гейне, его опыт должен был координировать теоретический поиск писателя. Во Франции писатель знакомится с романтическим и мещанско-буржуазным театром.
Примитивность мещанской драмы возмущает Гейне, он с иронией говорит о жалких героях Эжена Скриба, заменивших на сцене героев классицистического театра. «Автору трагедии, — писал Гейне в работе «О французской сцене», — необходима вера в героизм», а это невозможно в стране, где господствует буржуазия. Героика театра Расина, его величественный пафос несовместим с торгашеским духом буржуазного общества. Особенно возмущает писателя попытка механического соединения на французской сцене классицизма и мещанской драмы, когда обыденные события, достойные лишь сатиры, приподнимаются, героизируются и становятся ложно преувеличенным, искаженным зеркалом действительности.
Позже, после поражения революции 1848 г. во Франции, Гейне особенно остро осознает антибуржуазную направленность подлинного искусства современности. Во Франции установилось безграничное господство буржуазии с ее ограниченным утилитаризмом, законами «голого чистогана», измерявшими все великое, поэтическое ценностью обыкновенного товара. В буржуазном мире нет места подлинному искусству, и поэт с горечью говорил, что «угольный дым отпугивает певчих птиц, и вонь от газового освещения отравляет ароматную лунную ночь». Утверждения поэта ничего общего не имеют с защитой принципов «чистого искусства». Он выступает защитником подлинного, современного, в лучшем смысле этого слова, искусства от рыцарства «прозы и тривиальности» с такой же резкостью, как и против апологетов реакционного романтизма, критиковавших буржуазию с позиций неприятия вообще всякой реальности и действительности. «У нас уже не остается времени ни для игры, ни для того, чтобы воплощать сновидения прошлого».
В романтической французской драме Гейне привлекает ее несомненная антибуржуазность, пафос страстей, бурная экспрессия выражения чувств, обостренное восприятие конфликтов современности. Этой симпатией объясняется как оценка творчества Гюго 30-х годов, так и преувеличенно восторженные оценки романов Жорж Санд. «По всему поэтическому значению он превосходит всех своих современников», — писал Гейне о Гюго. Гейне страстно спорит с критиками Гюго, упрекавшими поэта в отсутствии интимности в его поэзии, и подчеркивает те качества творчества Гюго, которые были ему наиболее близки: «осязаемость», «материальность» его поэзии, «склонность к пластическому».
Восторженные оценки начала 30-х годов постепенно сменяются чувством неудовлетворения по отношению к сценической практике писателя и вообще романтической драмы. Идеалистическое противопоставление добра и зла, преувеличенная гротескность выражения кажутся Гейне неприемлемыми. Теперь в драмах Гюго Гейне отмечает отсутствие «чувства меры, которым мы восхищались в классических писателях». Оценки творчества Гюго можно понять только с точки зрения той борьбы, которую вел писатель, ратовавший за создание драмы, отражающей реальные противоречия современности. С восторгом отмечает он во французском театре это стремление к выражению драматической сущности противоречивой и богатой событиями эпохи, чего так недоставало театру Германии. «Словом, здесь во Франции, жизнь более драматична, и в зеркале жизни — театре — действие и страсти достигают высшей ступени».
Гейне не сумел ни сам воплотить в театре синтез, представлявшийся ему идеальным, ни обнаружить его у своих современников. Поэтому так раздраженно оценивает он драму З. Вернера: «...дело было не в том, чтобы расцветить романтическими шутками мирскую серьезность жизни». Совершенно неприемлем для Гейне и романтический театр «ужасов», где экспрессия преобладала над истинной реальностью изображения, доводилась до крайностей, противоречащих рассудку. «Действительно ли эти новаторы расширили границы французского театра? Не знаю. Но эти французские драматурги (речь идет о театре Бушарди. — Н. Б.) всегда напоминают мне того тюремщика, который сетовал на тесноту темницы и, стремясь расширить ее пределы, не нашел лучшего средства, как запирать в нее все больше и больше заключенных, не раздвигавших, однако, стен тюрьмы, а только душивших друг друга». Исходя из этой критики, Гейне часто дает нарочито завышенные оценки тем драмам, которые прежде всего отражают «умную и ясную картину печальных неурядиц нынешнего общества», как он писал о пьесе Ружмона «Элали Гранже». С этих же позиций он резко отвергает драму Гюго «Бургграфы», противопоставляя ей драму Дюма «Антони».
Критика, когда говорит о резкости Гейне в отношении Гюго, не анализирует ее причин, а сетует на личную антипатию писателей, доказательств которой привести не может. Драма Гюго «Бургграфы» была написана в стиле «фатальных» драм, характерных скорее для Германии, чем для Франции. Не случайно и сюжет драмы заимствован Гюго из истории Германии, и вся пьеса в целом воссоздает облик средневековой Германии. Не является открытием и тот факт, что драма Гюго создана под непосредственным влиянием драмы 3. Вернера «24 февраля» и Грилльпарцера «Праматерь». Естественно, что для Гейне идея мистики, фатальной предопределенности, роковых случайностей, подменяющих реально-исторический ход событий, была неприемлема. Извечное роковое предопределение заранее предрешало исход борьбы, а следовательно, делало ее бессмысленной. Попытка Гюго перенести на французскую сцену идеи «фатальных» немецких драм была встречена Гейне резко отрицательно.
Осмысление драматургии современной Франции помогло Гейне отчетливее понять трагедию немецкого театра, «у которого есть вчера и завтра, но нет сегодня». Иными словами, затушеванность политических процессов, их трагическая незавершенность не позволяла немецким писателям с необходимой ясностью осознать, а следовательно, и отобразить основной конфликт современности. Напротив, обнаженность конфликтов во Франции вскрывала трагические коллизии, которые «ежедневно и ежечасно случаются в Париже в буржуазнейшей действительности», и способствовала созданию современной социальной драмы.
Вопросы драматургии для Гейне были частью его борьбы за создание эстетики революционно-демократического искусства, и выводы, к которым писатель приходит к началу 40-х годов, относятся не только к проблемам драматургии. «За последнее время оба народа — французы и немцы— многому друг у друга научились, — писал Гейне. — Отсюда вообще та огромная перемена, которая сейчас происходит с немецкими писателями».
Огромность этих перемен для Гейне заключалась прежде всего в решительном повороте литературы к проблемам действительности, умению найти, понять и отобразить ведущие проблемы времени, «проникать внутрь вещей», «остро отточенным заступом взрывать безмолвную почву явлений и обнажать их сокровенные корни». Понятие самой действительности также конкретизируется в 40-е годы. Для Гейне это прежде всего «правдивое изображение низших классов».
Так понятие «современного» искусства наполняется конкретным социально-историческим и эстетическим содержанием.
Вскоре после переезда в Париж Гейне создает цикл стихотворений, получивших символическое название «Новые стихотворения». В этом цикле в своеобразном гейневском стиле отражены те изменения, которые претерпело во Франции мировоззрение Гейне. В его поэзии появляется качественно новый жанр. В поэзию врывается многоликий, шумный, современный Париж, с его кричащей пестротой жизни и нравов большого города, с французским юмором и тонкой насмешкой, с любовью к жизни и женщине. Стихотворения этого цикла создавались в разные годы, с 1831 до 1844 г. Весь цикл — комментарий к словам Гейне о французском искусстве: «В Париже не может быть чистого искусства, так как жизнь врывается в него и корректирует его». В предисловии к стихотворениям 1831 г., которое позже было издано отдельным изданием как самостоятельное произведение («Швабское зеркало»), писатель говорит о новом направлении своей лирики. Субъективная, углубленная в интимный мир лирика романтиков становится узка поэту, его тянет в широкий мир, привлекает бурная жизнь города. Швабская школа в своей лирике создавала образ идеализированного, тихого, сонного болота немецкой провинции с его мещанской, ханжеской моралью. Гейне же нарочито дерзок, нарочито «аморален», но вместе с тем до бесконечности реален в создаваемых им миниатюрах парижской жизни (цикл «Разные»), Каждая деталь, подмеченная поэтом, становится типической картиной — яркой, образной, колоритной, и все это пронизано лукавством и иронией. Стихотворения Гейне были поэтическим гимном учению французского утописта П. Анфантена «об эмансипации плоти», которое привлекало Гейне антибуржуазным характером. Своим сборником поэт бросил дерзкий вызов мещанствующей Германии.
«Пробел, образовавшийся в этом, втором томе, я попытался поэтому заполнить новыми «Весенними песнями». Я публикую их с тем меньшим притязанием, что знаю, сколь мало нуждается Германия в таких лирических стихотворениях. К тому же невозможно дать что-либо в этом роде лучше того, что уже представлено прежними мастерами, особенно Людвигом Уландом... Правда, эти молитвенные рыцарственные звуки, эти отголоски средневековья, еще недавно в эпоху патриотической ограниченности доносившиеся отовсюду, затихают теперь в громах современных освободительных боев, в грохоте общеевропейского братания народов и в остроте мучительного ликования тех современных песен, которые, отвергая лживость католической гармонии чувств, наоборот, с якобинской беспощадностью расчленяют чувства во имя истины. Интересно следить за тем, как подчас один из этих родов песен заимствует у другого внешнюю форму. Еще интереснее бывает, когда в одном сердце сливаются оба рода».
В своем прологе Гейне иносказательно дает развернутую программу не только своей лирики, но и современной поэзии в целом. Гейне-поэт вырос на национальных, народных песенных традициях. Отвергая реакционно-романтическое учение о мистической душе народа, вечной и неизменной в ее качествах, Гейне мечтал о переустройстве жизни ради народа, в силы и возможности которого он верил. Понятие народности стало неотъемлемой частью как творческой практики, так и эстетической мысли Гейне. Писатель говорит о необходимости «оплодотворить литературу, влив в нее народную жизнь». По приезде в Париж поэт слагает революционному народу Франции гимны в своих публицистических работах, («Французские письма», «Лютеция»). Здесь же для него открывается новая сторона народных песен, которую он не мог постичь в Германии. Народная песня может быть не только лиричной, тонкой, образной, но и беспощадной, отражать революционные устремления народа, «рассекать чувства», с «якобинской беспощадностью» ради «вящей правды». Не гармония чувств, а резкая беспощадность привлекает поэта. В конце процитированного предисловия Гейне говорит о синтезе, слиянии народного лирического и народного мятежного начал. Если вспомнить программные «Современные стихотворения» и вообще политическую лирику Гейне, то станет очевидным, что значило для Гейне это слияние «якобинской беспощадности» с исконной красотой и образностью народного творчества. Понятие «современного» становится адекватным понятию «народного» в широком смысле этого слова.
Что за песнь — писал он о «Марсельезе». — Она пронизывает меня пламенем и радостью, зажигает во мне огненные звезды вдохновения и ракеты насмешки. Да пусть и они будут на великом фейерверке современности. А ты, прелестная сатира... приди ко мне на помощь. Одолжи мне меч твоей матери...». Поэтому так близок Гейне обличительный пафос Огюста Барбье, воплотившего в своем творчестве лучшие традиции французской революционной песни и «печальное лукавство» Беранже, поднявшего песенки парижских улиц до значения классической литературы, «величайшего поэта», с которым Гейне не мог никого сравнить ни во Франции, ни в Германии.
Немецкая критика была возмущена и шокирована новыми стихами поэта, но вместе с тем даже современная поэту критика почувствовала нечто новое, непонятное и необычное в его стихах. Но в чем это новое заключалось — понять не захотела и не сумела.
Немецкий писатель К. Гуцков в своем нашумевшем письме, опубликованном в «Телеграфе» в 1839 г. (№ 75-76), сформулировал наиболее отчетливо отношение критики к произведению Гейне, прямо подчеркнув связь новой манеры Гейне с Беранже, правда, усмотрев ее лишь в склонности к фривольности. «Назовите мне нацию, которая допустила бы в своей литературе нечто подобное... Беранже не стеснялся рассказывать о ночном визите к гризетке, но ведь он не заявляет, что «чувствовал себя при этом недурно»... Не считаете ли Вы меня педантом, или Вы думаете, что я не чувствую этой поэзии, оригинальность которой найдена Вами среди вещей прозаических и обыденных? Я знаю, здесь пункт, по которому Вы больше всего мне возражаете. Вы хотите дать нечто, поставленное вверх ногами, нечто оригинально прозаическое и в то же время поэтическое. Мне кажется, что в Ваших понятиях о поэзии происходит теоретическая путаница».
«Прозаизм» поэзии Гейне, так возмущавший его критиков, способность обыденное, реальное поднять до высокой поэзии не только роднило Гейне с Беранже и его творчеством — «величайшей арфой современности», но и стало эстетическим принципом его поэзии, сущностью понятия современного искусства. «В этом отношении он (поэт — Н. Б.) подобен древним историкам, — писал Гейне, — которые не знали разницы между поэзией и историей и давали не только перечень событий, пыльный гербарий фактов, но прославляли правду пением и в пении давали звучать одному только голосу правды», «поднимать правду до поэзии» — изображать реальную жизнь, используя при этом все богатства арсенала романтической и народной поэзии, сделать насущные проблемы жизни, политики, борьбы достойными высокой поэзии — таков эстетический идеал Гейне — создателя лучших поэтических творений немецкой поэзии.
Еще в юности писатель, мечтавший восполнить печальный пробел в немецкой литературе, пытался создать драмы, а несколько позже и возродить немецкий роман. Но и на этом поприще его постигла неудача, прошло более 80 лет, прежде чем в Германии был создан роман, завоевавший мировое признание — «Будденброки» Т. Манна. Гейне постигла неудача по тем же причинам, что и на поприще драматургии. «Бахарахский раввин» так и остался фрагментом. Но проблема эпического монументального творения продолжала волновать Гейне.
Мы не располагаем непосредственными высказываниями Гейне о реалистическом романе Франции, но совершенно достоверно известно, что писатель был хорошо знаком с творчеством французских реалистов. Сюжеты многих стихотворений сборника «Романцеро» были взяты Гейне из книги «О любви» Стендаля и новелл Мериме. Проблема эпического повествования интересовала поэта и в истории немецкой литературы — романы Гете, Виланда и др. Гейне сумел подметить своеобразное качество эпических построений в Германии, — их философский подтекст, своеобразную погруженность во внутренний мир, чуждый реальности, которую много позже Т. Манн определил как немецкую Innerlichkeit и видел в ней трагедию немецкого романа. Несомненно одно, что Гейне не прошел и не мог пройти мимо литературы, в которой суровая реальность действительности стала достоянием высокого искусства.
«Мы, немцы, тоже сочиняем эпические поэмы, но герои их существуют только в нашем воображении. Напротив, герои французской эпопеи — действительные герои, совершившие большие подвиги и претерпевшие большие страдания, чем в состоянии придумать мы на своих чердаках... может быть господь бог пришел на помощь французам иным путем, и им стоит только рассказать, что видели они и проделали за последние тридцать лет, как у них получится такая прожитая, из жизни взятая литература, какой не создал еще ни один народ, ни одна эпоха». И далее: «Тон эпопеи Франции не пробуждает любви к безвозвратно минувшему, это тон, вдохновляющий нас в борьбе за современность».
В сборнике «Новых стихотворений» Гейне, в котором выкристаллизовывался новый стиль поэта, обращает на себя внимание удивительная цельность каждой выписанной маленькой картины, ее проникновенная реальность, изображающая нравы и характеры эпохи. Поэт создает галерею женских образов, ярких и вместе с тем индивидуально своеобразных, выписанных кистью художника-реалиста, хотя и не лишенных присущей Гейне романтической лиричности. Героини Гейне по глубине психологической характеристики близки героиням романов Бальзака, тонкого мастера женского портрета, в которых Гейне поражала «величайшая верность изображения». Гейне, оценивая творчество Бальзака, касается именно проблемы изображения женского характера. Его привлекает реалистическая манера, предельно выразительная «без наставительной цели, без любви и отвращения», т. е. «верность изображения», подразумевающая глубокое проникновение в духовный мир героя и окружающей его действительности, беспощадную правдивость образов. «Наверное ему никогда не приходило в голову скрывать подобные явления или же реабилитировать их, чего не допустили бы ни искусство, ни нравственность». Иными словами, если перефразировать последнюю мысль, то всякая самая суровая правда достойна искусства, напротив, всякое отступление от нее безнравственно и недостойно искусства. Под влиянием осмысления реалистической литературы Франции понятие «современного» искусства приближается к эстетической платформе критического реализма, хотя и в присущем для Гейне выражении синтеза реалистического и романтического. Значение сборника Гейне верно подметил в комментариях к произведению Н. Берковский. «В своих стихах о Париже, о парижских женщинах, о парижской любви Гейне — реалист, он резко и открыто рассказывает о том, что есть». И далее о цикле «Разные»: «Критики проглядели своеобразный реализм стихов, их внутреннюю близость к нравописательному роману, к романам Бальзака».
Глубокое взаимопонимание двух столь разных и во многом близких современников выразил Бальзак в своем посвящении к рассказу «Принц Богемы». «Дорогой Гейне! Вам посвящаю я этот очерк, Вам, который в Париже представляет мысль и поэзию Германии, а в Германии — живую и остроумную французскую критику; Вам, который лучше чем кто-либо другой поймет, что здесь от шутки, от критики, от любви, от истины».
Нет надобности доказывать значение сатиры и иронии Гейне в его творчестве, ее оригинальности и самобытности. Все многочисленные исследователи творчества поэта внесли свою лепту в изучение это проблемы, каждый раз открывая какие-то новые оттенки сатиры Гейне. Гейне является создателем и своеобразной теории сатиры, противопоставленной в своей действенности теории «романтической иронии» Ф. Шлегеля. Однако и здесь многие наблюдения писателя уточняются, а иногда и конкретнее формулируются под влиянием осмысления французской литературы.
Неоднократно говоря о силе смеха, «атакующего остроумия, «оружии нападения»... «в это скверное и никуда негодное время», подчеркивая, что сатира — это своеобразный метод, позволяющий вскрыть тайные противоречия, выявить сущность явлений, Гейне особое внимание уделяет вопросу художественности изображения самых прозаических, но вместе с тем насущных проблем современности. Иными словами, тех же проблем, которые волновали писателя в связи с осмыслением творчества Бальзака в 40-х годах. Еще в 1825 г. основе собственного опыта, национальных сатирических традиций и творчества Аристофана Гейне приходит к выводу: «Все самое чудовищное, самое отвратительное, самое страшное, чтобы не сделать е непоэтичным, можно изобразить только под пестрой, все покрывающей одеждой смешного».
В 30-е годы писатель неоднократно возвращается к понятию сатиры, выявляя своеобразие творчества Поля Скаррона, Лафонтена, Мольера; подмечает в комедии Мольера те черты, которые были наиболее близки его творчеству этих лет, когда, наметив себе основную цель — борьбу против немецкой реакции, он подвергает беспощадной насмешке все, часто и незначительные факты ее проявления, будь то философия или литература, явления действительности или большие политические события.
«Тем-то и велик Мольер, что, подобно Аристофану и Сервантесу, он делает предметом своего издевательства не только случайное и преходящее, но и предвечно смешное...», — писал Гейне. Направление сатиры писателя иногда приводило его к однолинейности оценок, к известного рода гипертрофии ведущего, самого главного, за счет утраты многогранности (книга о Берне, оценка Платена, оценки философии Германии). В этой специфике сатиры Гейне нашел отражение классицистический, обобщающий метод сатиры, ведущий через единичное к общему.
Еще в 1823 г. Гейне подчеркивал свою склонность к «искусству концентрации». В противопоставлении классицистического театра романтическому, при всей симпатии к последнему, Гейне постоянно подчеркивает идейную нечеткость, обилие незавершенных проблем, т. е. как раз отсутствие искусства концентрации, которая была близка ему как в театре, так и в сатире классицистов. Своеобразная целенаправленность творчества Гейне позволила ему прозреть многие явления действительности, увидеть их конечные цели.
В публицистических работах Гейне 30-40-х годов настойчиво повторяется проблема соотношения теории и практики, передовой идеи и действительности. Философский ученик Гегеля и восприемник его диалектики (правда, в своеобразном гейневском стиле), Гейне вместе с тем нередко механически сопоставляет теорию и практику. Совершенно верно определяя ведущую роль теории, — вывод, подсказанный ему анализом идеологии французского просвещения, — Гейне слишком нарочито подчеркивает непосредственную зависимость практики от теории. Причем сатира исполняет, по мнению Гейне, роль исторической метлы, расчищающей мусор предрассудков, политических и религиозных. И в этом отношении ему близок и дорог Вольтер, учеником которого он именует себя, «бедным немецким соловьем, который свил себе гнездо в парике господина де Вольтера». Не случайно Гейне утверждал, что сатира Вольтера расчистила дорогу французской революции. «Едкий смех Вольтера должен был прозвучать прежде чем ударит топор Сансона». И отвечая критикам, упрекавшим Вольтера в аристократизме, Гейне вновь подчеркивает разящую силу его сатиры. «Вольтер, услужливо носивший светильник впереди великих мира, этим же светильником освещал их наготу».
В своих характеристиках французского искусства современности, в комплекс которого входит и литература, и живопись, и театр, и очерк, Гейне вновь возвращается к проблеме сатиры, углубляя ее, пытаясь определить ее социальную сущность как одну из основ современного искусства. Если даже великие сатирики прошлого исходили чаще всего из отдельного человеческого характера или из отдельного социального явления, находя в них объект для сатиры, обобщая комическое, благодаря чему индивидуальное превращалось в социальное обобщение, то в современном обществе сатира должна отражать, по мнению писателя, прежде всего конфликты различных классов. К этой мысли Гейне приходит, наблюдая и изучая явления литературной жизни Франции. Так конкретизируется наконец и понятие ведущего конфликта эпохи, которое долго вызревало в творчестве писателя. Гейне отмечает типичные конфликты современности, породившие новое искусство сатиры — «между многими старыми учреждениями и нынешними нравами», «между нынешними нравами и тайными мыслями народа» и особенно конфликт «между благородным энтузиазмом французов» и «положительными» тенденциями буржуазии, как иронически именует Гейне ее реакционные устремления.
Теория сатиры Гейне требовала от писателя умения рассказать о самом сложном, даже ужасном таким образом, чтобы не утратить поэтичности, образности. Для этого необходима «пестрая, все покрывающая одежда смешного», утверждал поэт.
Большинство художественных очерков Гейне создано в Париже, в период расцвета французского сатирического очерка, с которым Гейне был хорошо знаком. Навряд ли нужно повторять мысль о своеобразии прозы и поэзии Гейне, как и утверждать какую-то зависимость писателя, но огромный общественно-политический опыт французского очерка не мог пройти мимо Гейне. Он восторженно пишет об одном из самых блестящих публицистов Франции Поле-Луи Курье, что его остроумие «весело, почти шаловливо... шипит и пенится как молодое вино в давильнях Турени, и порой дерзко переливается через край...». Мастерство сатиры, тонкость иронии, все оттенки юмора служили верную службу как немецкому, так и французским публицистам, внесшим неоценимую лепту в создание публицистической злободневности современной им литературы.
Характеризуя творчество Филиппона, одного из ведущих издателей сатирических альманахов, Гейне отмечает внутреннюю общность в методах сатирической типизации, гротескного обобщения, свойственных его очерку в такой же мере, как и французскому.
«Правда, это зеркало (французский очерк. — Н. Б.) показывает нам карикатуры, но так как у французов все преувеличивается самым резким образом и превращается в карикатуру, то и эти карикатуры все же дают нам беспощадную истину, если не нынешнюю, то во всяком случае истину завтрашнюю».
Политическая близость Гейне и французских очеркистов вызвала общность взглядов в эстетических работах Гейне и критиков сен-симонистов и фурьеристов. В одном из интереснейших документов французской демократической эстетики «Театр, как революционное орудие» Э. Арго, как и Гейне, противопоставляет цельность и идейную целенаправленность театра классицистов ничтожеству буржуазной мещанской драмы. Гейне разделяет взгляды сен-симонистов, в частности Атфантена и Барро, в отношении отрицания реакционного романтизма, мистики и нигилизма, и в противопоставлении им идеологии Просвещения, но расходится с ними в оценке французского романтизма 30-40-х годов. Сен-симонисты (Базар и др.) отрицали романтическое восприятие действительности, как выражение спиритуализма в искусстве. Они критиковали романтиков за отход от действительности и перенесение центра тяжести в произведении на «внутренний мир «героя». В этом вопросе Гейне ближе к фурьеристам (Изальгье и др. критики, выступавшие на страницах газет «Фаланстер» (Le Phalanstera) и «Фаланга» (La Phalanque) с их признанием положительных сторон романтической критики буржуазного общества).
Анализ взаимоотношений Гейне с французской литературой вскрывает сложность процесса становления эстетических воззрений немецкого поэта, в котором французская литература играет роль шлифовального камня, на котором оттачивалось и приобретало необходимую завершенность мировоззрение писателя — революционного демократа.
Л-ра: Филологические науки. – 1969. – № 6. – С. 58-71.
Произведения
Критика