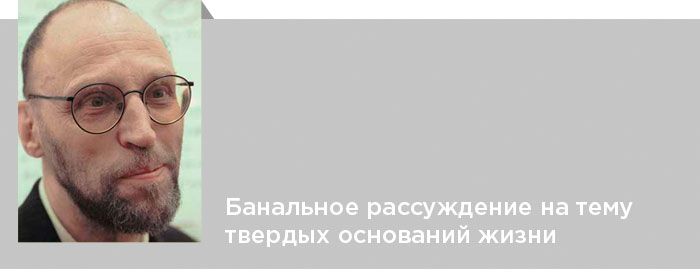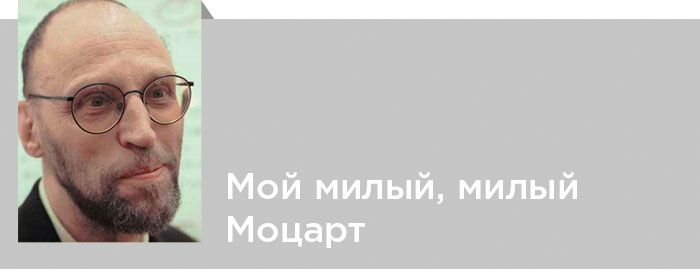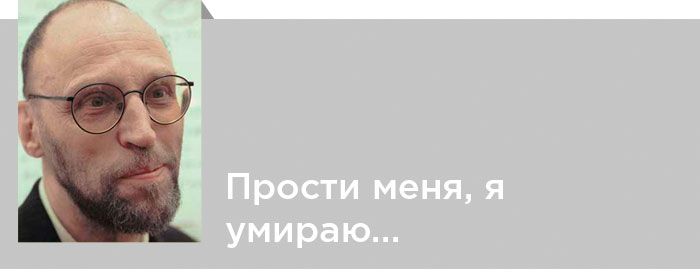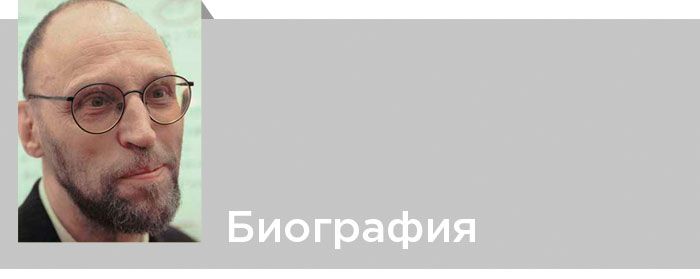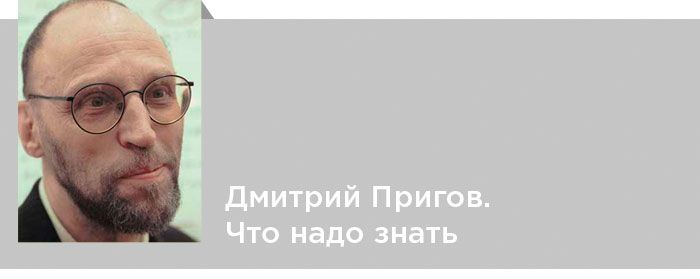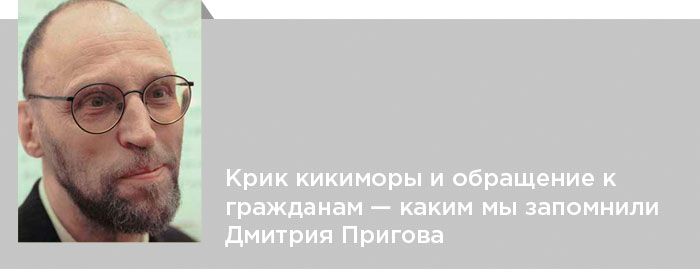«Ускользающее» повествование в романе Дмитрия А. Пригова «Ренат и Дракон»

О.Е. Романовская
Астраханский государственный университет
ул. Татищева, 20а, Астрахань, Россия, 410056
В статье рассматривается своеобразие романа Дмитрия А. Пригова «Ренат и Дракон», исследуется повествовательная форма, отличительными особенностями которой являются фрагментарность, незаконченность, мерцающая неопределенность. Автор статьи выделяет основные приемы «ускользающего» повествования: смену авторских масок, введение ненадежного рассказчика, вариативность, подключение к оптике героя. Делается вывод о том, что основными принципами романа являются металитературность как отличительная черта концептуалистской поэтики и активизация читательского сотворчества.
Ключевые слова: Дмитрий А. Пригов, концептуализм, повествование, фрагментарная проза, ненадежный рассказчик.
O.E. Romanovskaya. “ELUSIVE” NARRATION IN THE NOVEL OF DMITRY A. PIROGOV “RENAT AND THE DRAGON”
The article dwells on originality of Dmitry A. Pirogov’s novel “Renat and the Dragon” with a special attention paid to the research of narrate characterized by fragmentariness, incompleteness and flickering ambiguity. The author singles out main devices of elusive narration: change of author’s identities, introduction of unreliable narrator, variability and switching to hero’s viewpoint. The author comes to the conclusion that the main principles of the novel are metaliterary character as a distinctive feature of conceptual poetics and activation of reader’s co-creation.
Key words: Dmitry A. Pirogov, conceptualism, narrate, fragmentary prose, unreliable narrator.
Художественная проза Дмитрия А. Пригова — отдельная и пока еще недостаточно глубоко изученная часть его творчества. Со стороны любителей и ценителей приговской поэзии интерес к четырем романам писателя («Живите в Москве» (2000), «Только моя Япония» (2001), «Ренат и Дракон» (2005), «Катя Китайская» (2007)) очень незначителен, между тем И. В. Кукулин находит, что «именно романы обнажают скрытые прежде уровни многолетней художественной работы Пригова... не противоречат остальным произведениям Пригова, но придают им новое измерение» [1. C. 567—568].
В основе романов «Живите в Москве», «Только моя Япония» и «Катя Китайская» факты биографии писателя и его жены. По признанию Д. Пригова, эти произведения являются «испытанием трех типов европейского искреннего письма» [1. C. 585]. Даже за условно-фантастическим и гротескно-аллегорическим планами изображения в них различаются жанровые элементы литературы non-fiction.
В отличие от них роман «Ренат и Дракон» беллетризован, фикциональность фабулы подчеркнута созданием характерного для постмодернизма «сюжета об авторе».
Повествовательная техника Д. Пригова в его третьем романе приобретает оформленные и зрелые черты. Ведущими нарративными принципами становятся фрагментарность и незавершенность, нечеткость и недоговоренность, разветвленность и вариативность, пародийность и условность. Их комбинация способствует возникновению особой повествовательной формы, которую с некоторой степенью условности можно назвать «ускользающей».
Пригов-прозаик продолжает традиции фрагментарного повествования, широко распространенного в модернистской и постмодернистской литературе. Монтажный принцип сцепления разрозненных отрывков характерен для прозы орнаменталистов — Е. Замятина, Вс. Иванова, Б. Пильняка, отечественных и зарубежных постмодернистских писателей — А. Битова, Ю. Буйды, Саши Соколова, М. Павича, Х. Кортасара.
И.В. Кукулин считает фрагментарность доминантой прозаического стиля Пригова [1. C. 605]. Не согласиться с этим невозможно. Действительно, эта черта максимально эксплицирована: связь между отдельными отрывками ослаблена или отсутствует вовсе, временная и причинная последовательность нарушена настолько серьезно, что попытки читателя реконструировать ее и выстроить сколько-нибудь внятную с точки зрения логики картину происходящего будут безуспешны.
«Нарочитая фрагментарность была свойственна и прозе Андрея Белого и Бориса Пильняка, однако для них эта черта поэтики была необходима, чтобы заново сконструировать субъекта повествования и саму реальность — по аналогии с тем, как заново конструировалась реальность в искусстве кубизма. Пригов, полемизируя с модернистской эстетикой, поставил под вопрос саму идею утопически прозреваемой целостности...» [1. C. 607].
Роман «Ренат и Дракон», объем которого приближается к шестистам страницам, напоминает конгломерат незавершенных фрагментов, заимствованных из разных по жанру произведений. Отсутствие события как «перехода персонажем значимой внутренней (существующей внутри изображенного мира) границы — либо пространственно-временной, либо психологической» [2] создает эффект «обманутого ожидания»: разрешения сюжетной коллизии в романе так и не происходит.
Отчасти к роману «Ренат и Дракон» можно применить слова, сказанные Ж.-Ф. Жаккаром по поводу хармсовской прозы: «...незаконченность как прием имеет тенденцию распространяться на всю композицию и возводится в ранг принципа построения в том смысле, что затронуто не только произведение в целом, но каждая из частей, которые его составляют» [3. C. 242].
И все же в творчестве Д. Пригова фрагментарность скорее отражает общую тенденцию неклассического нарратива, чем говорит об уникальности выбранной писателем стратегии. Ее своеобразие заключается в создании эффекта смысловой нечеткости в повествовании, которое интригует читателя атмосферой недоговоренности, таинственности, противоречивости, создает условия для фантастических допущений.
Приемами создания «ускользающего» повествования становятся смена авторских масок, введение ненадежного рассказчика, сюжетная неопределенность, подключение к оптике героя.
Характер «ускользающего» повествования определяет меняющаяся позиция основного субъекта речи. Он воплощен на разных уровнях повествовательных инстанций: как один из персонажей, как свидетель некоторых событий, ввиду ограниченной перспективы строящий свой рассказ на слухах и домыслах окружающих, как мемуарист, обратившийся к фактам собственной биографии, как создатель текста, а также как гомодиегетический (т.е. находящихся за пределами мира персонажей) повествователь, способный излагать события с внешней, даже несколько отстраненной точки зрения.
Изменение субъектом речи своего статуса и позиции по отношению к миру персонажей — прием создания меняющейся повествовательной перспективы.
Главная интрига романа Д. Пригова «Ренат и Дракон» заключается в постоянной смене модальностей: от недостоверности к правдоподобию, затем вновь к условности, неопределенности.
Роман «Ренат и Дракон» начинается в форме «Я-повествования», основной субъект речи — личный неперсонифицированный рассказчик, занимающий позицию собеседника по отношению к читателю. Я рассказчика приближено к фигуре биографического автора, об этом свидетельствует апелляция к опыту его личной жизни — упоминание родного Д. Пригову Беляева, описание травматического опыта детской болезни (переболевший в детские годы полиомиелитом Д. Пригов и первый свой роман «Живите в Москве» завершает описанием парализации), введение в романный мир персонажей, имеющих прототипов в реальном мире.
Ограниченность повествовательной перспективы рассказчика уменьшает степень достоверности происходящего, тогда как появление классического всезнающего автора сообщает тексту правдоподобие, даже при описании наиболее загадочных и непонятных происшествий.
Голос имплицитного автора, усиливающий эффект мерцающей неопределенности, звучит в заголовках глав и финальных комментариях. В заголовках оговаривается степень значимости глав (некий отрывок, серьезная часть, почти главная часть и т.д.), их объем (маленькое добавление, маленькая вставочка, небольшая вставка, немалый отрывок), содержательность (невзрачная середина, необходимое предуведомление, малопонятный отрывок).
Лаконичные комментарии в конце каждой главы («Что-то затянулась глава», «И конец главе», «Посмотрим, что будет», «И мы поразимся вслед пораженному», «Этого достаточно», «Да, не очень-то и нужная глава», «Дальше продолжать и невозможно») отсылают к фрагментам Д. Хармса, в которых резкий обрыв повествования, как правило, сопровождается коротким авторским замечанием: «Вот, собственно, и все», «Вот и все тут...», «Все», формально означающим завершенность произведения. Короткие заключительные реплики автора в романе Д. Пригова подчеркивают дробность текста. Кроме того, здесь мы имеем дело, по терминологии Ж. Женетта, с «нарративным металепсисом», с «переходом от одного нарративного уровня к другому» [4. C. 245], что акцентирует процессуальную сторону повествования.
Особую роль в создании «ускользающего» повествования играет ненадежный рассказчик, который, несмотря на свою принадлежность миру персонажей, не может передать информацию с точностью и достоверностью. Его рассказ о событиях построен на оговорках, неточностях, варьировании разных версий.
Для акцентирования приблизительности передаваемой информации используются особые лексико-синтаксические средства: неопределенные местоимения и наречия (что-то, чьих-то, чем-то, нечто, некое, где-то, откуда-то); сравнительные союзы (как будто, словно, как); другие части речи с семантикой неопределенности (покажется, неведомые, смутно, недостоверный); отрицательная частица не с глаголами восприятия (не разобрать); вводные слова (говорят, по рассказам, трудно поверить, рассказывали); конструкции с разделительными союзами, затрудняющие выбор правильной версии (то ли ... то ли; либо ... либо);риторические вопросы рассказчика, ставящие под сомнение правильность предшествующего предложения («А спортсмены-бегуны... Да какие тут спортсмены?» [5. C. 11]; «Правда, иногда над монастырем вспыхивало что-то, на мгновение неярко озаряя всю окрестность. А чему там было вспыхивать?» [5. C. 12]).
Недостоверность информации, сообщаемой читателю, придают ссылки рассказчика на слухи: «Раньше тут неподалеку в полуразрушенном монастыре дом инвалидов располагался... говорили, особый. Уж и вовсе глупости всякие поведывали. Рассказывали, будто из людей электричество пытались получить» [5. C. 12] или признания в ограниченности кругозора, непонимании: «Честно признаться, мне самому не очень-то все это внятно» [5. C. 36].
Четкость повествовательного контура размывается варьированием фабульных событий. Принцип сюжетной неопределенности представлен в романе эксплицитно: вслед за одной версией рассказывается другая, не менее достоверная. К примеру, о семье Рената говорится следующее: «Ренат не работает. Я давно его не видел. Равнодушный он какой-то стал. Жена его занимается недвижимостью. Неплохо зарабатывает. Решительная и жестковатая, она, собственно, и содержит семью. Рассчитывает бюджет. Сама все покупает и устраивает» [5. C. 49]. Буквально в этой же главе рассказчик создает новую версию семейной жизни героя: «Ренат легко перемещается по свету, проводя отпуск с семьей то в Ницце, то на Сейшелах. Жена его не то фотомодель, не то сама фотограф. Держит себя в строгой форме и на жесточайшей диете» [5. C. 54]. Каждая из версий правдоподобна, каждая в рамках художественной действительности может соответствовать реальности, однако ключей, которые бы позволили выявить приоритетность одной или достоверность обеих версий (при условии, что герой был женат дважды), в тексте не содержится.
До конца не ясны причины гибели Александра Константиновича, Марии, Христиана, обстоятельства рождения Рената (предполагается, что у него два отца), пропажи коровы и т.д. Преобладающим в повествовании является вероятностноприблизительный модус.
Интрига создается вокруг истории с рукописью романа: есть несколько противоречивых вариантов ее появления. Но в любом из них она связана с фигурой бухгалтера и любовным треугольником внутри его семьи. Читатель должен распутать сложные хитросплетения сюжета: бухгалтер-романист оказывается сотрудником органов, участником эксперимента в монастыре, бежавшим в Швейцарию.
Возможно, что упоминание о Швейцарии содержит аллюзию на творчество В. Набокова, поздние романы которого «Истинная жизнь Себастьяна Найта», «Бледное пламя», «Прозрачные вещи» воплощают идею множественности реальностей и истин. С именем В. Набокова также связан один из важных для понимания повествовательной техники романа эпизодов: переход Рената через рамку японской миниатюры. После долгого вглядывания в картину происходит следующее: «И тут Ренат чувствует, что, отвлекшись, обернувшись на внешнего, сидящего в некой дальней чистой светлой чужой кухне наблюдателя, в невероятных усилиях догнать сестер делает неверное движение и попадает в прозрачный поток» [5. C. 85]. Рассказчик фиксирует мгновенную смену точки зрения наблюдателя на точку зрения наблюдаемого, означающую перевоплощение Рената в одного из персонажей картины. Похожая ситуация встречается в рассказе В. Набокова «Венецианка», где преодоление рамки текста (картины) акцентирует границу между сном и реальностью.
Воображаемое путешествие Рената в японскую миниатюру — часть онейросферы романа, которая самым непосредственным образом участвует в создании «ускользающего» повествования, основанного на предположениях, тайнах и фантастических допущениях.
Своеобразие нарративной техники романа обусловлено и особой оптикой героя и рассказчика, способных различать фантомные тела.
«Это трудно объяснить. Они суть фантомные или фантазмические тела. Абсолютная прозрачность. То есть многомерно и иерархично выстроенная картапрограмма, снятая с телесности, явленной как сложно строенная система фантомных ощущений», — так объясняет феномен фантомных видений Ренат [5. C. 458]. Подчас они кажутся необычными, даже шокирующими, но всякий раз отражают больше, чем представлено в физическом мире, — метафизическое пространство психосоматических реалий.
Включение в повествовательную структуру романа эпизодов, ориентированных на особую оптику героя и рассказчика, приводит к тому, что неправдоподобные, подчас гротескные события составляют значительную его часть. Это позволяет удерживать повествование на грани реального и невозможного, создавать колебания в зоне модальности. Поскольку, с одной стороны, рассказчик выступает верификатором подобных явлений «Я знаю. Я сам жил в Беляеве» [5. C. 447], а с другой — изображаются явления фантастические, невозможные.
Отличительной чертой концептуалистской поэтики является высокая степень рефлексии автора. В интервью М. Эпштейну Д. Пригов признается: «То искусство, которым я занимаюсь, ставит вполне определенные задачи. Оно не производит ни красоту, ни великое, ни возвышенное. Оно проясняет, оно испытывает все дискурсы в их амбициях, в их истинности, в их взаимоотношениях... В свое время был основной дискурс, на котором я выработал собственную свою основную грамматику, — советский дискурс-миф. Сейчас много дискурсов: масс-медиа, потом зона производства продуктов потребления, молодежные культуры, гомосексуальные культуры, национально-патриотические, феминизма. Я работаю с ними всеми» [1. C. 68].
В романе «Ренат и Дракон», который автор назвал «энциклопедией непонятной жизни», основным объектом концептуалистской рефлексии становится, прежде всего, научная фантастика и фэнтези, которые занимают достаточно широкую нишу в современном искусстве, словесном и кинематографическом. Текст содержит намеки на существование каких-то особенных фантастических существ, дополнительных измерений, параллельных реальному миру, научных открытий, позволяющих перенестись в эти измерения, допускает возможность трансформации героев.
«Испытание» любого дискурса в творчестве Д. Пригова, как правило, обнаруживает присутствие в нем тоталитарных амбиций, агрессию, которые автор подвергает пародийному снижению и деконструкции. Незаконченность отдельных фрагментов и романа в целом, а также недосказанность и неразрешенность коллизий, смысловая затемненность опровергают мифотворческие претензии научно-фантастической литературы.
Представляется, что семантика «ускользающего» нарратива может быть рассмотрена и в свете идей новой антропологии, с которой писатель связывал возможность создания новой эстетики. В разговоре с М. Эпштейном он говорил: «...проблема новой антропологии... полностью меняет ориентацию человека в мире... Оказывается, что все произведения, выстроенные по законам старой антропологии, для человека с новой антропологией могут оказаться совершенно неактуальными и невыстроенными. А то, что для нас может быть не актуально и не осознанно вообще как некое серьезное действие, для людей с новой перцепцией может оказаться весьма значимо. То есть новая антропология, конечно же, перечитает и перекроит ретроспективно всю культуру» [6. C. 60].
Действительно, в рамках традиционной культуры последний роман Д. Пригова представляется невыстроенным и хаотичным. Незавершенность «ускользающего повествования», для которого характерны редукция, усечения, вариативность, придает ему сходство с черновиком. Создается впечатление, что перед нами текст еще не завершенный автором, сохраняющий потенциальную возможность изменений.
Важный аспект существования такого текста — активизация читательского сотворчества: «черновик — это текст, который включает читателя в процесс создания целостности... поэтика черновика закладывает основу и для поведения читателя, ведь работа с черновиком вовлекает в доработку данного произведения и самого реципиента» [7. C. 173].
В постмодернистской литературе текст, смоделированный с учетом сотворческой позиции читателя, не редкость. Особенно, если речь идет о нелинейном повествовании, романах-гипертекстах («Пейзаж, нарисованный чаем», «Последняя любовь в Константинополе», «Хазарский словарь» М. Павича, «Игра в классики» Х. Кортасара, «Незримые города», «Замок скрещенных судеб» И. Кальвино, «Бесконченый тупик» Д. Галковского и «Подлинная история “Зеленых музыкантов”» Е. Попова). Отличительная особенность романа «Ренат и Дракон» в повышении степени произвольности читательского сотворчества. Читатель уже не просто самостоятельно определяет последовательность фрагментов и восстанавливает связи между ними, но и заполняет содержательные лакуны.
«Ускользающее» повествование конструирует нового читателя, который функционально почти равноправен субъекту повествования. В данном случае «новая перцепция», о которой говорил Д. Пригов, заключается в способности распутать лабиринт фрагментарного повествования, досоздать собственную версию происходящего, что, возможно, становится одним из признаков новой эстетики.
Литература
[1] Кукулин И.В. Явление русского модерна современному литератору: четыре романа Д.А. Пригова // Неканонический классик: Дмитрий Александрович Пригов (1940— 2007): Сб. статей и материалов / Под ред. Е. Добренко, М. Липовецкого, И. Кукулина, М. Майофис. — М.: НЛО, 2010. — С. 566— 611.
[2] Тамарченко Н.Д. Проблема события в литературном произведении (сюжетологические и нарратологические аспекты) // Narratorium. — 2011. — № 1—2 // [Электронный ресурс]. URL: http://narratorium.rggu.ru/article.html?id=2027585 Режим доступа: свободный. — Заглавие с экрана. — Яз. Рус.
[3] Жаккар Ж.-Ф. Даниил Хармс и конец русского авангарда. — СПб.: Академический проект, 1996.
[4] Женетт Ж. Фигуры. В 2-х томах. Т. 1—2. — М.: Изд-во им. Сабашниковых, 1998.
[5] Пригов Д.А. Ренат и Дракон (романтическое собрание отдельных прозаических отрывков). — М.: НЛО, 2011.
[6] Дмитрий Александрович Пригов — Михаил Эпштейн. Попытка не быть идентифици-рованным // Неканонический классик: Дмитрий Александрович Пригов (1940—2007): Сб. статей и материалов / Под ред. Е. Добренко, М. Липовецкого, И. Кукулина, М. Майофис. — М.: НЛО, 2010. . — С. 52—71.
[7] Леухина А.В. Заглавие-текст: поэтика черновика в примитивистских текстах // Филологические науки. Вопросы теории и практики. — 2009. — № 2. — С. 172—174.