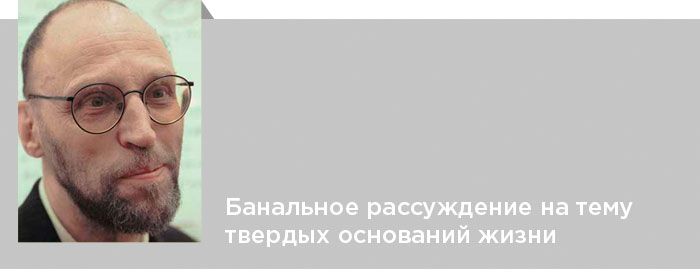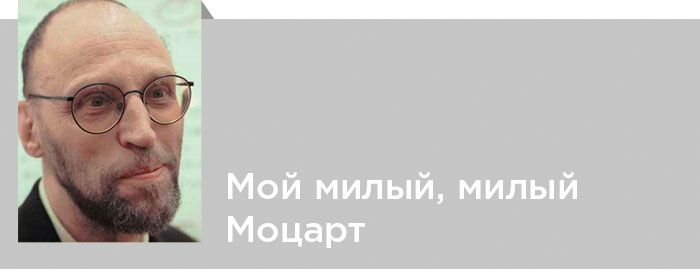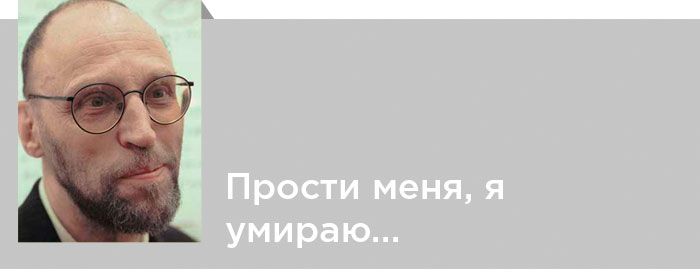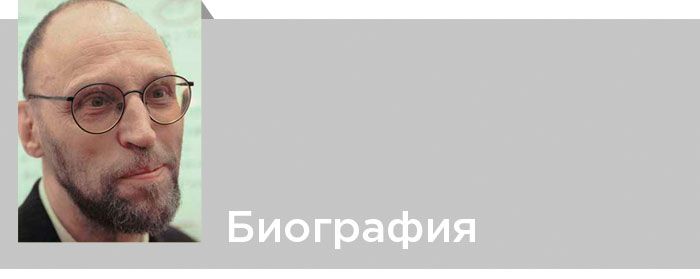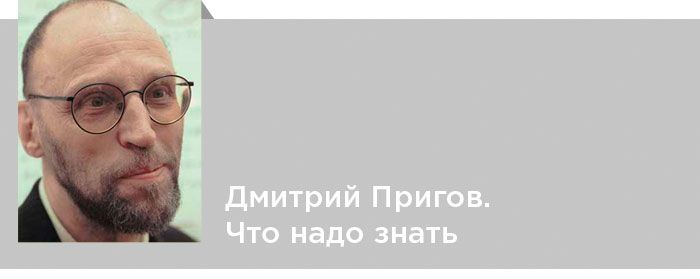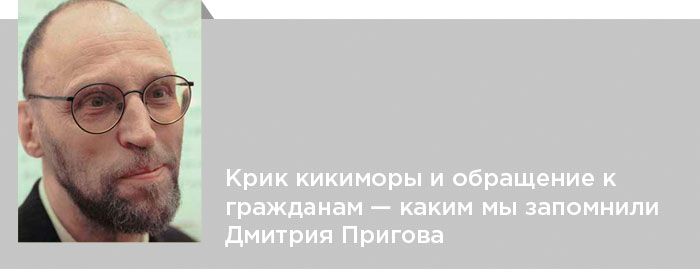Дмитрий Пригов: комическое и патетическое

УДК 82.08; 82:801
Т. В. Казарина
Статья посвящена теме разорванного сознания как интегративной составляющей всего творчества Дмитрия Пригова. Эта особенность авторского мышления возводится к представлениям о бинарности русской культуры как ее фундаментальном свойстве.
Ключевые слова: концептуализм, разорванное сознание, комическое, патетическое, бинарность культуры.
T. V. Kazarina. DMITRY PRIGOV: THE COMIC AND PATHETIC
The article deals with the theme of torn consciousness as integrative component of all Dmitry Prigov’s creativity. This feature of thinking is being built to representations about the duality of Russian culture as its fundamental properties.
Key words: conceptualism, torn consciousness, comic, pathetique, binary culture.
Период славы Дмитрия Пригова был долгим, его смерть вызвала очередной вал литературоведческих статей. Лучшие собраны в книге «Неканонический классик: Дмитрий Александрович Пригов». Многое в ней наверняка польстило бы Пригову: о нем говорят как о «новом Данте» [1, с. 106], называют «лучшим и талантливейшим поэтом постсоветской эпохи» [2, с. 10]. Но в эти отзывы, совсем по-приговски, подмешана ирония, ведь цитата из Сталина, конечно же, придает хвалебному отклику некую двусмысленность. И значит, попрежнему важно разобраться, в чем же на самом деле состоял индивидуальный вклад Пригова в русскую литературу.
Это удается плохо: мешает фантастический объем написанного Приговым (36 тыс. произведений – абсолютный рекорд!), авторская переменчивость – постоянная смена творческих стратегий и, наконец, «универсальная конвертируемость» всего в приговском художественном мире: здесь «временные отрезки можно считать в температурных величинах, посещение музеев в ресторанных ценах, национальности – в возрастных показателях» [1, с. 115]. Кажется, здесь все может обернуться чем угодно, и ничего устойчивого нет. Именно поэтому понять Пригова – значит, определить вектор его художественных усилий, найти нечто постоянное среди многих переменных.
Для решения этой задачи стоит обратить внимание на то, что Пригов всегда сохранял верность однажды найденной литературной маске: его неизменным персонажем был Дмитрий Александрович Пригов – маленький человек с большими претензиями, писатель-графоман, убежденный в своей мессианской роли. И этот жалкий герой, многократно осмеянный и разоблаченный, оставался нужен своему автору, был для Пригова «вечной находкой». Таким образом, «осмысление особенностей индивидуального человеческого сознания стало концептуальной доминантой творчества» [3, с. 99] поэта-концептуалиста.
По-видимому, ценность данного образа заключалась в том, что это был структурный коррелят советской (а затем и русской) души. «Многодумное бессознательное» [4, с. 260] – назвал это «вещающее нечто» Михаил Эпштейн. Образ Дмитрия Александровича Пригова биполярен, принципиально раздвоен. Один его полюс – эмоциональное «я», восторженно, гневно или удивленно откликающееся на внешние события, другой – «я» рассуждающее: оно пытается дать происходящему истолкование, перевести эмоциональное переживание в рациональную форму. Вариантами той же смысловой оппозиции становятся у Пригова провинциальное / столичное, народное / интеллигентское, органическое / инженерно-техническое, модернистское / постмодернистское и т. п.
Неизменным остается то, что во всех этих случаях между полюсами нет единого смыслового пространства. У Д. А. Пригова ум с сердцем не в ладу: его главные качества оглупляют, нейтрализуют друг друга и сводят к нулю результаты самой бурной активности. В его монологах чувства и рассуждения неизменно сталкиваются катастрофически, лоб в лоб. В лучшем случае это приводит к конфузу. Например:
Урожай повысится,
Больше будет хлеба,
Больше будет времени
Говорить про небо…
Больше будет времени
Говорить про небо –
Урожай понизится,
Меньше будет хлеба [5, с. 163].
Здесь эмоции и логика движутся в противоположных направлениях: чувства выстраивают картину утопическую, разум – апокалипсическую. При этом они не ищут согласия и компромисса, не корректируют друг друга – они ставят друг друга в тупик.
Разум может напоминать о долге, чувства – отклонять эти требования:
Вот я, предположим, обычный поэт
А тут вот по прихоти русской судьбы
Приходится совестью нации быть
А как ею быть, коли совести нет
Стихи, скажем, есть, а вот совести – нет
Как тут быть [5, с. 203].
В таком поединке нет победителя: любая из ипостасей образа профанирует другую. Отношения двух «я» напоминают дуэт цирковых клоунов: каждый помогает увидеть смешное в напарнике.
Дистанция между ними – пространство комического, где та и другая сторона подсвечивается самым невыигрышным образом, «барахтается» в чужом для нее контексте: чувства в присутствии разума начинают выглядеть глупыми, рассуждения на фоне эмоций кажутся сухими и догматическими. А громогласность, патетичность, с которой каждое из двух «я» заявляет о себе, делает их противостояние особенно выразительным.
Конфликт этих начал у Пригова неразрешим, потому что каждая из двух ипостасей героя претендует на монопольное владение истиной. В результате их диалог, точнее их поочередное звучание, не рождает созвучия – чего-то хотя бы отдаленно похожего на единство. А рождает гротеск – как в стихотворении «Долина Дагестана», где предметом дележа для двух поэтов оказывается... труп:
В полдневный зной в долине Дагестана
С свинцом в груди лежал недвижим я
Я! Я лежал – Пригов Дмитрий Александрович!
Кровавая еще дымилась рана
По капле кровь сочилась – не его! Не его! – моя!
И снилась всем, а если не снилась – то приснится долина Дагестана
Знакомый труп лежит в долине той
Мой труп. А может его. Наш труп! [6, с. 576].
Здесь Пригов демонстрирует и творческое бессилие своего персонажа (тот ворует тексты у классиков: оспаривает их авторство) и причину этой немощи – внутренний раздрай. Одна «половина души» героя пытается присвоить «труп» из лермонтовских стихов, другая пробует примирить конфликтующие стороны. Формулой компромисса оказывается «наш труп», что является абсурдом в квадрате – приравниванием живого к мертвому («мой труп») и двух к одному («наш труп»).
В раннем творчестве Пригова тема разорванного сознания обыгрывалась постоянно, и в его герое читатели привыкли видеть «рупор советскости» – гротесковое отражение шизофреничности советского идеологического мышления. В приговской интерпретации главным свойством советской культуры становилась ее неспособность строить отношения с «другим» – «другим» вне себя и внутри себя.
Однако звание пародиста, «пересмешника советского идеологического дискурса» Пригов всегда категорически отвергал. Видимо, потому, что у пародии маленький «радиус действия» – в зону ее «обстрела» не попадает прежде всего сам пародист. Ведь пародия «высокомерна»: она предполагает оценку некоторого явления с привилегированной точки зрения – внешней по отношению к тому, что оценивается.
Между тем автор, Дмитрий Пригов, не собирался выводить себя (да и кого бы то ни было) из зоны критики: он называл героя своим именем и тем самым подчеркивал, что признает его «разорванное» мышление своим.
Но положение читателя было другим. Для него текст – объект восприятия, и все, что в этом тексте присутствует, объектно – отстранено, локализовано, завершено, то есть надежно заключено в прочные художественные рамки, в то время как сам реципиент принадлежит миру изменяющемуся, действительности незавершенной. Это мешало читателю принимать сказанное в тексте на свой счет. Уничтожению этой дистанции Дмитрий Пригов отдал много сил. Можно рассматривать все его зрелое творчество как череду попыток отнять у читателя преимущество вненаходимости, поймать и заключить его внутрь текста, лишить его «алиби в художественном бытии».
Как это делалось?
Во-первых, путем стирания границ между текстом и реальностью. Чаще всего Пригов добивался этого, «оперсонаживая» самого себя, играя во внетекстовом пространстве ту же роль, что и его персонаж в тексте. Поэт охотно появлялся на публике и давал интервью на серьезные темы. Но всегда ошеломлял: разрушал привычные ожидания аудитории. В России 80-х от писателя ждали если не «пасторского», то «учительского» поведения – готовности просвещать. И уж, конечно, полной вменяемости. В публичном поведении Пригова ничего похожего не было: он то демонстрировал эмоциональную взвинченность, похожую на экзальтированность его героя (такую пугающую, что в 1986 г. его поместили в психбольницу), то подобно своему Дмитрию Александровичу поражал поклонников мегапроектами: «Я... хотел написать 20 тысяч стихов к 2000 году. Потом понял, что сходство цифp здесь достаточно внешнее. И pешил написать двадцать четыpе тысячи. Эта идея гоpаздо кpасивее: по стихотвоpению на каждый месяц двух пpедшествующих тысячелетий и по стихотвоpению на каждый день моей жизни. Но поскольку «встpечный» план был пpинят довольно поздно, пpишлось повысить дневную ноpму. Для меня стихотвоpение – то же самое, как каждая тонна угля есть малый вклад в валовое пpоизводство пpи плановой экономике» [7, с. 3].
В подобных случаях аудитория ждала автора, а встречалась с персонажем. Было очевидно, что к лицу Пригова-человека «приросла маска» его героя – передовика-производственника из писательского «цеха». Таким образом текст вторгался в жизнь.
Существовал и другой способ уничтожения взаимной изоляции жизни и текста, противоположный, при котором текст охватывает жизнь, «оцепляет» ее со всех сторон. Реципиент мог не узнавать себя в «хомо советикусе», но вряд ли он стал бы отрицать свою связь с русской культурой. У Пригова предметом изображения со временем становилась именно она. Советские идеологические клише и приметы коммунального быта из текстов исчезали, на их месте появлялись маркеры «русского», и прежде всего высоко ценимого русского: имена писателей-классиков, прославленных мыслителей и исторических деятелей.
В результате раздвигаются исторические рамки, и приговский персонаж свободно озирает и далекое прошлое, и сегодняшнее существование своей страны. Это придает герою новый вес. Он больше не чувствует себя приниженным, зависимым от догмы и доксы. Его переполняет уже не энтузиазм служения, а напротив – гордость великоросса, позволяющая встать вровень с титанами любого масштаба. Но мы тут же получаем возможность убедиться, что подобные и, как кажется, радикальные перемены никак не повлияли на структуру его мышления. Горизонт сознания героя охватывает все большее пространство и время, но это все тот же горизонт.
ИЗ ПЕРЕПИСКИ РУССКИХ ПИСАТЕЛЕЙ
Ув. Александр Сергеевич!
Большое спасибо за сердечные слова в адрес моей последней работы. Со своей стороны желаю Вам крепкого здоровья, творческих успехов и счастья в личной жизни.
(Д. Пригов)
Ув. Михаил Юрьевич!
Несмотря на Ваши настойчивые просьбы, встретиться с Вами не могу. Позвоните мне на следующей неделе. Со своей стороны желаю Вам крепкого здоровья, творческих успехов и счастья в личной жизни.
(Д. Пригов)
Дорогой товарищ Сталин!
Спасибо за наше счастливое детство! Со своей стороны желаю Вам крепкого здоровья, творческих успехов и счастья в личной жизни.
(Д. Пригов)
Ув. Лев Николаевич!
Вы, конечно, преувеличиваете, называя меня Шекспиром современности. Со своей стороны желаю Вам крепкого здоровья, творческих успехов и счастья в личной жизни.
(Д.Пригов) и т. д. [8, с. 84–86].
Формально переписка с великими – это попытка установить связь, объединить себя с ними и их с собой – таков разумный план. На деле же возомнивший герой создает очередную иерархию, разделяет и ранжирует своих кумиров.
Заметно и то, как выросли его амбиции, и то, как «хорошо сохранился» он сам. Он по-прежнему подобострастен с теми, кого считает особенно большими начальниками. Но теперь «советское», похоже, сосредоточено только на одном из полюсов бинарной структуры, и оппонирует ему «рыночное» – готовность освоить максимальное культурное пространство, навязав ему себя, свои услуги. При этом каждое из двух «я» приговского персонажа заявляет о себе все громче. Самовлюбленность становится пугающе аффектированной, а рассудочность – все более технологичной: она организует высказывания в серии, циклы, придает активности Дмитрия Александровича Пригова фантастический размах, размыкает ее в бесконечность.
Таким образом, на смену образу непродуктивной активности приходит образ все более активной непродуктивности. Это не одно и то же: неумелость наивного стихоплета могла казаться исправимой – теперь она приобретает характер стихийного бедствия.
Фактически начиная с 80-х Пригов включается в давнюю дискуссию о бинарности русской культуры – специфике ее устройства, отмеченной еще Н. Бердяевым.
Как объясняли позже Б. Успенский и Ю. Лотман [9, с. 117–152], бинарное мышление – по принципу «или» – «или». Оно очень характерно для русской культуры любой эпохи, начиная со Средневековья, для которого бытие делится на мир греха и мир святости и промежуточных инстанций нет. Отсюда обязательное для правоверных предсмертное извлечение себя из мира – предсмертный постриг. Середина, то есть ни то ни се, не горячее и не холодное – греховный пласт бытия, большее зло, чем само зло.
Это убеждение с новой остротой было выражено в творчестве Лермонтова, Гоголя, Достоевского: у них полюса противоположности организовывали весь мир. Сюжет произведения развивался либо как борьба между Добром и Злом в их крайнем выражении, либо более сложно – как путь к Добру через крайнюю степень Зла. Именно поэтому у Гоголя есть замысел возрождения Плюшкина и Чичикова, но Манилову и Ноздрёву в возрождении отказано – они заурядны, «срединны».
Позиция Пригова оригинальна тем, что он видит в этой бинарности не свидетельство избранности, а источник всех бед русской культуры, не знак ее бескомпромиссности и требовательности, а причину катастрофы.
Любой приговский текст обнаруживает какоето из ее проявлений.
Дихотомичность мышления – причина русской заносчивости: не видя целого, обладая лишь частичной правотой, русский человек готов считать себя обладателем высшей истины только потому, что все остальное выпадает из зоны его видения.
Но отсюда же и страшная уязвимость русского человека, комплекс вины и жертвы: в любой момент он занимает некую крайнюю позицию и в глубине души догадывается, что его правда неполна – она может быть оспорена и со стороны разума как непродуманная, и со стороны чувств – как неискренняя.
Одно из поздних эссе Пригова «Сам знаю» позволяет убедиться, что в глазах автора это черта отнюдь не врожденная: она формируется культурой – русской или ей родственной.
«Недавно случился у меня серьезный разговор с моим малолетним внуком. Ну, совсем малолетним.
Нахмурившись и сурово сдвинув брови он заявил:
– Не трогай меня.
– Почему же это?
– Меня Бог сделал.
– И меня тоже сделал Бог, – предпринял я слабую попытку сопротивления, не понимая, куда клонится разговор.
– Он тебя не так сделал.
– Как это не так?
– Сам знаешь.
Я замер. Господи! Как же нелицеприятен этот мир! Как суров, неоспариваем и неумолим! И справедлив, конечно! Справедлив. На этот раз явив себя устами младенца. Действительно, всяк сам знает, как он тотально неправ.
Совсем недавно один из молодых спокойных людей, приверженец некоего радикального движения, тоже отметил, что я сделан не так, как надо бы. И я, справедливо утверждал он, знаю это сам и давно. И я, естественно, действительно знал это и давно. Еще со времен моих посещений КГБ, где на вопрос, в чем же заключается моя антисоветская деятельность, утомленно улыбаясь отвечали: “Ну, Дмитрий Александрович, Вы сами все отлично понимаете”…
Хорошо, когда объясняют вот так доходчиво, кратко и сразу. Иначе это занимает значительное время, а результат тот же самый» [10].
И Пригов рассказывает, со слов Резо Габриадзе, как тот однажды гостил в доме богатого хлебосольного немца. «Ранненьким утром Резо, не выспавшийся, с тяжелой головой от вчерашнего принятия разнообразных напитков, спускается с верхнего этажа в нижнюю гостиную. И что же он видит? Хозяин выбритый, вымытый, одетый во чтото невообразимо чистое и благоухающее, стоит перед пюпитром и самозабвенно играет на скрипочке нечто высоко классическое.
И овладела нашим Резо неправедная зависть. Вот ведь, с детства он мечтал научиться играть на каком-нибудь инструменте, жить в большом и тихом доме, и вообще… На дальнейшем пути, сидя обок с удачливым хозяином, Резо все мучился, как бы его уесть. И вот он начинает издалека:
– А Вы знаете, что армяне считают Баха армянином? – Никакой реакции. – Понимаете, они говорят, что Бах не немец, а армянин? – опять молчание. – Нет, Вы, наверное, не понимаете, – уже заводится и даже повышает голос благодушный в общем-то грузинский классик. – Армяне утверждают, что Бах вовсе не немец, а чистый армянин! – И выжидающе смотрит на немца.
– Это их проблемы, – невозмутимо отвечает тот.
Вот так. То же самое “Сам знаешь!”, но только в более длительном драматургическом оформлении»
[10].
Привычка принимать часть за целое заставляет человека русской (или похожей на нее) культуры видеть в одном факте или суждении манифестацию конечной истины. Покушение на авторитет немецкого гения для него – вызов всей нации. Для человека другой (в данном случае немецкой) культуры ничье отдельное мнение не совпадает с истиной, не заслоняет картины в целом – картины мира, в которой сосуществуют самые разные точки зрения, и ни одна не является привилегированной.
Похоже, Пригов стремился к универсализации найденного противоречия, и иногда полюса бинарной структуры становятся у него уже не гранями личности, а бытийными абсолютами. Например, пьеса «Место Бога» [11, с. 46–55] – об искушении Праведника нечистой силой, Чёртом. Драматургическая форма позволяет персонифицировать каждую из двух сил, прежде боровшихся в душе одного героя. Праведник не наделен индивидуальными чертами – это чистое и беспримесное воплощение веры (то есть эмоционального начала – любви к Богу). Чёрт, чтобы отвратить его от Бога, применяет сложную казуистику – говорит на языке разума. Праведник одинок, – Чёрт называет себя именем Легион, и действительно, на его стороне многие: он находит поддержку сидящей в зале публики, а если теряется, ему на помощь приходит сам Сатана. У Чёрта есть Сатана – у Праведника только вера в Бога, самого Бога в пьесе нет. Более того: слово – главное оружие Бога – используется против Божьего слуги. Д. Пригов дает возможность убедиться в «беспринципности дискурса». Сатана пользуется гуманистической аргументацией – взывает к чувству сострадания: «Одумайся, Отшельник! Не губи своей души! Не отравляй ядом равнодушия подрастающее поколение! Не совращай малых сих!» [11, с. 48]. Показательно, что перед нами «русский черт» – он цитирует отечественных классиков. Например: «Знаешь, мне иногда кажется, что красота когда-нибудь спасет мир. Да не мне одному это кажется. У нас многим так кажется» [11, с. 49].
Почти вся пьеса – это непрерывный монолог посланцев ада, и перевес на их стороне, пока Чёрт случайно не проговаривается, что допущен в мир ненадолго, – вообще-то это «место Бога». С криком «Это место Бога!» праведник оттесняет врага, заставляет его окончательно ретироваться. Поединок выигрывает Праведник, то есть вера в Бога, но не Бог. Слова «это место Бога» свидетельствуют не о его существовании/присутствии, а лишь о том, что мир в нем нуждается: «место Бога», скорее, означает «место для Бога», «место, где должен быть Бог».
Это итоговая фраза, финальный аккорд, вывод, к которому ведут все смысловые линии. И если Бог манифестирует единство бытия, то эта пьеса о том, насколько такое единство необходимо миру, ведь даже недоказанное, только чаемое – оно уже сокрушительно для сил зла. Речь, конечно, не о согласии между Богом и Сатаной, а о том, что их вечное противостояние может быть продуктивно, только если спор ведется на одном языке, а противники находятся в одной плоскости бытия.
Очевидно, важнейшую заслугу Пригова стоит видеть в том, что он преодолел локальность мышления современников и выявил некие константные для русской культуры (и роковые для нее) способы мышления и поведения – те, что мало зависят от социальных перемен и передаются по наследству от эпохи к эпохе. Главная из них – доходящая до градуса шизофрении поляризованность сознания, которая сохраняется и будет сохраняться, пока остается предметом национальной гордости.
Список литературы
1. Витте Г. «Чего бы я с чем сравнил…» // Неканонический классик: Дмитрий Александрович Пригов. М.: НЛО, 2010.
2. Добренко Е. Был и остается // Неканонический классик...
3. Бабичева Ю. В. «Пароход современности» и русский постмодернизм в XXI веке // Вестн. Томского гос. пед. ун-та. 2008. Вып. 2 (76).
4. Эпштейн М. Лирика сорванного сознания: народное любомудрие у Д. А. Пригова // Неканонический классик...
5. Пригов Д. А. Написанное с 1975 по 1989. М.: Новое литературное обозрение, 1997.
6. Кукулин И. Явление русского модерна современному литератору: четыре романа Д. А. Пригова // Неканонический классик…
7. Пригов Д. А. Судьба поместила меня в удачное время… // Интервью «Московскому комсомольцу», 8 октября, 1995.
8. Пригов Д. А. Из переписки русских писателей // Новое литературное обозрение, 1993–1994. № 6.
9. Лотман Ю. М., Успенский Б. А. Роль дуальных моделей в динамике русской культуры (до конца XVIII века) // Б. А. Успенский. Избранные труды, т. 1, М.: Гнозис, 1994.
10. Пригов Д. А. Сам знаю.
11. Пригов Д. А. Место Бога. Пьеса // Ковчег. № 4. 1979.
Казарина Т. В., доктор филологических наук, профессор кафедры.
Самарский государственный университет.
Ул. Академика Павлова, 1, г. Самара, Самарская область, Россия, 443011.
Матераил поступил в редакцию 05.04.2011.