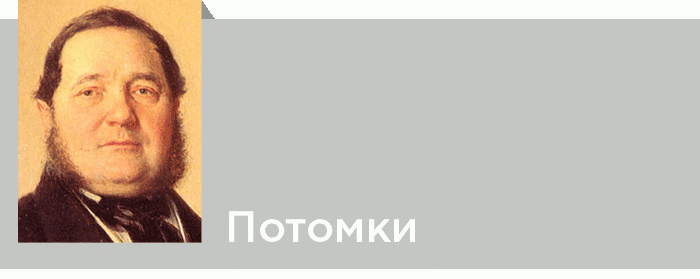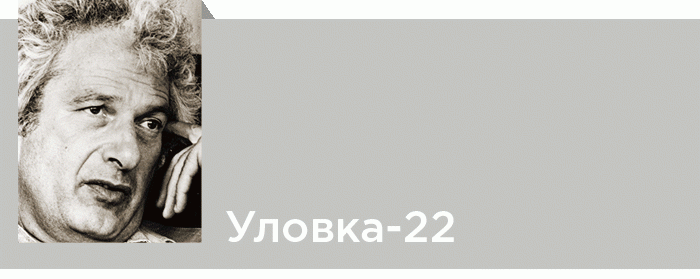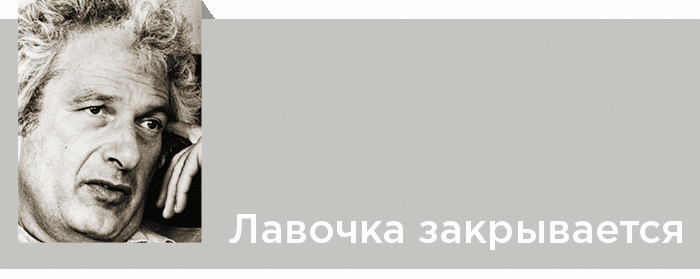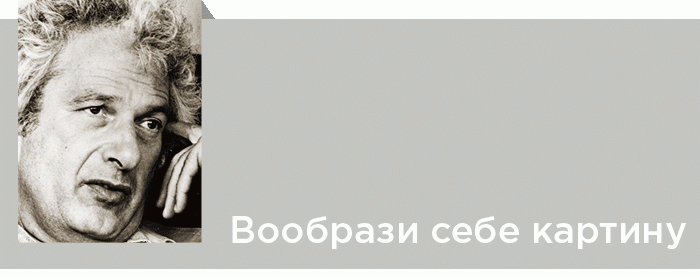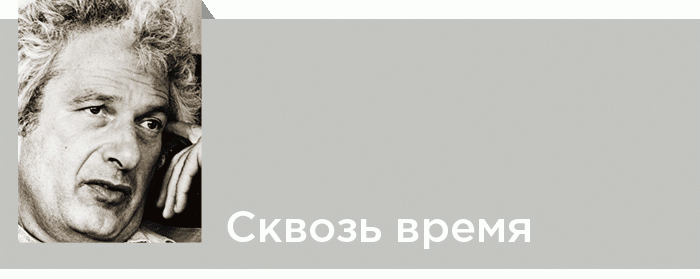Роман А. Штифтера «Бабье лето» (К проблеме соотношения индивидуального стиля и стиля эпохи)

Л. Н. Полубояринова
Роман классика австрийской литературы Адальберта Штифтера «Бабье лето» (1857) не был переведен на русский язык, хотя он и известен нашему читателю через неизменно почтительные, подчас восторженные отзывы о нем представителей немецкой культуры: Т. Шторма, Г. фон Гофмансталя, Ф. Ницше, Г. Гессе, Т. Манна; наиболее близкая нам по времени писательская реакция на «Бабье лето» - пародийное продолжение его, написанное Г. Беллем. Все перечисленные имена поклонников романа принадлежат более поздним культурным эпохам. У современников произведение Штифтера нашло столь же решительное неприятие, сколь безоговорочным был успех первого литературного выступления писателя: сборника новелл «Этюды» (1844-1848).
Роман создавался в сложный период немецкой и австрийской культурной истории, после революционного окончания эпохи Реставрации (1815-1848), которой в искусстве и литературе соответствует «слой» или «пласт», называемый бидермайером. Следуя за блестящей «эпохой Гете», эта «эпоха бидермайера» была обречена в своих художественных творениях пользоваться «обломками» идей и поэтических форм сентиментализма, романтизма, веймарской классики (а в Австрии - и барокко), что приводило к измельчанию этих идей и форм, а подчас и к их опошлению. В литературной ситуации бидермайера сошлись самые разнообразные художественные установки; в ней сосуществовали жан-полевская «чувствительность» (именно таков был стиль «Этюдов»), позднеромнтическая поэтика Й. Эйхендорфа, вполне бидермайеровский «салонный» стиль позднего Л. Тика, оригинальная манера Гете периода «Западно-восточного дивана» (1819) и «Годов странствования Вильгельма Мейстера» (1821), прогегельянские опыты в драме Ф. Геббеля, «либеральная» публицистическая прозе младогерманцев (1830-1835) Л. Берне и Г. Гейне.
В предреволюционные годы и после революции 1848 г. огромную популярность в Германии и Австрии приобретает романная проза Ч. Диккенса. Влияние английского романиста сказывается в первых немецкоязычных реалистических романах Г. Келлера, В. Раабе, Г. Фрейтага. Последний совместно с Ю. Шмидтом издает с 1848 года в Лейпциге журнал «Grenzboten», печатный орган приверженцев развивающегося реализма.
Созданный за временными границами эпохи бидермайера, но тесно с нею связанный, роман Штифтера явился во многом отражением того сложного качества литературной ситуации, когда оригинальный художественный стиль рождался как прорыв бидермайеровской «усредненности» и поверхностности и одновременно - как самоопределение автора по отношению к романтизму и веймарской классике, с одной стороны, и по отношению к нарождающемуся реализму - с другой. Из особого места в литературном процессе «Бабьего лета», этого «уникума между эпохами», вытекает и цель настоящей статьи: определив специфику стиля романа, понять индивидуальный стиль автора «Бабьего лета» как отражение главных стилевых тенденций эпохи. Диалог Штифтера с основными художественными установками времени проявился и в том, что писатель принимал как имманентное собственной авторской позиции, и в том, от чего он отказывался. Осмысление особенностей стилевой организации романа помогает разобраться в причинах неприятия его современниками и объяснить, почему «Бабье лето» столь высоко было оценено в последующие периоды литературного развития.
Сюжет истории воспитания сына венского купца Генриха, рассказанной им самим, незамысловат и малозначителен, полностью отодвинут на смысловую периферию романа. Он определяется, главным образом, многократными посещениями героем Асперхофа, имения старшего друга Генриха, барона фон Ризаха, который направляет воспитание молодого человека, и заканчивается браком Генриха с Натальей, приемной дочерью Ризаха. Редукция авторского интереса к сюжету связана с выдвижением в центр читательского вниманий в «Бабьем лете» других - в первую очередь стилистических - особенностей художественного целого; эти особенности связаны не с тем, что рассказывается (не с сюжетом), с тем, как это делается.
В частности, даже при поверхностном чтении романа в глаза бросается поразительная привязанность Штифтера к описанию однородных, сплошных, непроницаемых поверхностей. Возьмем для примера момент, почти безразличный для развития сюжета: поиски героем входа во двор Асперхофа. «Вся довольно длинная стена... не имела двери или ворот». И тропинки, ведущей к искомому входу, тоже нет: перец стеной дома лишь площадка, сплошь засыпанная песком, она отделяется газоном и изгородью от сплошных же полей. Наконец, герой находит в этой непроницаемой «сплошности» две створки двери, «которые так были встроены в решетку, что их невозможно было отличить от нее на первый взгляд». Стена дома на уровне первого этажа сплошь покрыта розами. «Растения были распределены и выращены так, что нигде не возникало пропуска, и что стена дома была покрыта ими полностью». Герой замечает, что намерением посадившего розы было распределить растения по поверхности стены так, чтобы не было «перерывов». И этот «удивительный покров дома», действительно, обладает свойством непрерывности в высшей» степени: особая чистота и яркость листьев, среди которых нет сухих или изъеденных гусеницами, отсутствие больных растений, великолепное совершенство представленных экземпляров цветов, разнообразие переходящих друг в друга оттенков роз. И в саду Асперхофа - то же недопущение пробелов, перерывов: пространство между фруктовыми деревьями, которые и сами-то по себе очень ухожены, со здоровой, свежей и яркой листвой, со стволами, вымытыми специальной щеткой, по мере возможности заполняют гряды с овощами, между грядами - насаждения земляники.
Подобным образом и в доме у барона фон Ризаха удивительно плотно прилегают друг к другу мраморные пластинки пола, так, что не видно линий соединения, занавеси окружают кровать «плотно и непроницаемо», сплошь и без пропусков уставлены книжные полки, картины висят доступно для рассмотрения, но все же заполняют стены «настолько часто, что между ними невозможно увидеть кусочек стены». Как будто по аналогии с окружающим их густо заполненным пространством обитатели дома нацелены густыми волосами и плотными, безупречными зубами. На костюмах рабочих в столярной мастерской «редко заметишь грязное пятно», одежда садовника тоже «без единого пятнышка».
В романе много упоминаний о «чистой поверхности» мрамора - или о «неомраченности» только что покрывшего землю снега - или «веселости» безоблачного неба - или неба, сплошь усеянного звездами, которые соприкасаются лучами - так что перерывов, лакун на небе все же нет.
Столь откровенная привязанность автора к чистым, сплошным поверхностям и непрерывным пространствам (на эту особенность поэтики произведения не обращали еще внимания исследователи творчества Штифтера) представляется нам очень важной закономерностью, связанной с основами единства художественного целого. Автору претит «перерыв постепенности» в любом своем обличье. Даже если речь идет о явлениях «идеальных», в словесном оформлении их, тем не менее, совершенно отчетливо реализуется все та же (в основе своей - пространственная) главная дихотомия сплошного/дискретного. Причем Штифтер не метафорически переносит пространственную проблематику «заполнения пустот», «усплошнения» на явления из сферы духа, но вполне всерьез мыслит эти явления пространственно организованными. «Наполнение» души и разума произведением искусства, или понимание деятельности художника как «наполнения души» определенным духом и «творчеством в этой наполненности», любви как совершенной заполненности другим человеком («...ничто не является для мен и столь насущным и не заполняет все мое существо, как вы», - говорит Наталии Генрих.) - все эти явления столь же предметно-существенны для автора, как и «заполнение» розами стены дома или наполнение комнаты чистым воздухом.
Специфическая для романа «фигура усплошнения» (если позволено будет так обозначить характер стилевого мышления автора) самым прямым, не метафорическим способом связывается и с жизненным путем героя. Воспоминание Генриха изображается по общему для всего романа принципу заполнения лакун. Вначале обозначается круг знаний, которые он должен себе усвоить, а потом - постепенно, шаг за шагом - этот круг заполняется конкретным материалом человеческих познаний в этой области: биологии, математике, архитектуре. В большинстве случаев это вся мыслимая совокупность знаний. Когда у героя проснулся интерес к живописи, он изучает картины из коллекции отца «до мельчайших черточек» и посещает «все крупные доступные собрания». Усваивая сельскохозяйственные знания и умения, Генрих «познакомился постепенно со всеми предметами и их предназначением». Невообразимость, почти чудовищность (именно «чудовищным» («ungeheuer») называет герой план отца сделать его «ученым вообще») такой тотальности (все!) снимается вполне бидермайеровским «постепенно» (nach und nach»).
Недаром в начале романа будущий путь воспитания представляется герою как «нечто внутренне ценное и важное», но покуда достаточно неопределенное, так что ему совершенно не ясно пока, «с какого конца приниматься за дело». Так намечается контур, который к концу романа предстает равномерно заполненным, «сплошным». От пространственной «закрепленности» воспитания - и большая «обеспеченность» и «ограниченность» его в «Бабьем лете»«, в отличие, скажем, от случайности, непредсказуемости воспитательных моментов в «Годах учения Вильгельма Мейстера» Гете (1796).
Предметно-пространственное воспитание характеризуется не только в смысле «заполнения» наличного пространства духа/характера/души необходимыми познаниями, но и в ином, гораздо менее метафорическом смысле. Для героя, отмечающего после путешествия свою «большую зрелость», особенно важным оказывается упоминание о распаковке привезенных вещей, как материальных, пространственно-существенных свидетельств его зрелости. Совершенствуясь в познаниях, герой стремится любое, даже самое незначительное интеллектуальное приобретение, с необходимостью «опредметить» в виде образцов, описаний, рисунков, чертежей. Войти во владение новым знанием в романе Генрих и другие герои могут лишь через материальное им обладание: гербарий или рисунки растений в ботанике, коллекции минералов, собрание гравюр. Важно понять эту материальную подоснову воспитания не как нечто, вторично закрепляющее его идеальную сущность, но — как единственную и единую по сути субстанцию: воспитание и есть материальное приращение, «превращение в свою собственность», завладение вещами некоего личностного континуума, и одновременно становление духа, не в связи, не по поводу, а - в них, в этих вещах..
Особая имманентная святость, которой нацелено в романе все сплошное и непрерывное, определяет и сознательно культивируемую автором концепцию человеческого поведения как «сохранения и сбережения» обладающих неущербностью своего пространственного контура вещей. Ризах всегда ставит книгу на отведенное ей место (так же поступает и отец Генриха), выдает гравюры не по отдельности, но - целой папкой, застилает изысканный мраморный пол ковром или надевает войлочные туфли, чтобы мрамор не испытал повреждений».
Постоянное, глубокое и сосредоточенное внутреннее напряжение, сказывающееся хотя бы в тотальной «прошитости» стиля «фигурой усплошнения», снимает однолинейную заданность происходящего в «Бабьем лете», каким бы безбедно-счастливым и обеспеченным оно не представлялось на первый взгляд. Знаменательно такое замечание героя: «Хотя я и думал, что мой отец не будет препятствовать заключенному союзу, я все же был при этой беседе смущен и серьезен, так же как и в поведении отца нельзя было не заметить глубокого волнения». Серьезная торжественность и возвышенная строгость, с которой принимается героя и, казалось бы, вполне запрограммированный счастливый конец, еще одно проявление глубокой стилевой закрепленности, какой обладает любая «неиссякаемость» и «непрерывность» в этом романе; декларируемые в нем «идеальности» нацелены всей полнотой авторской ответственности. Идеологическая позиция автора в «Бабьем лете» вполне аналогична поведению героя, когда он контролирует сохранность составных частей мраморного бассейна: «Я не покидал их ни на мгновение, чтобы по возможности предотвратить любой несчастный случай». Автор тоже «не покидает ни на мгновение» ни героя романа (благодаря почти протокольной фиксации всех действий главного героя мы в любой момент удостоверены в том, чем он занят), ни столь дорогого писателю образа неоскудевающей полноты, запечатленного в произведении.
Так из онтологии Штифтера («сплошность» бытия) вырастает его этика как «сплошность» деяния, как нерасслабленность воли, как непрерывная бдительность, как пожизненное интенсивное напряжение душевных сил, поддерживаемое стойкой уверенностью в том, что цельность, полноту и непрерывность бытия возможно спасти бескомпромиссным личным самоотвержением, и только им. Недаром в начале романа говорится о «грехе удовольствования успехом», или «небрежности», которая постоянно говорит: «Сойдет и так - и считает дальнейшую предусмотрительность излишней. Этот грех встречается и в самых незначительных, и в самых важных вещах жизни...» И в самом большом, и в самом малом Штифтер бежит от этого греха, он с готовностью берет на себя ответственность за все «лакуны», «перерывы» и «пустоты», какими обернулась для него середина XIX в., и со стоической последовательностью, до безоглядности смело и решительно утверждает истину единственно верного, как ему представляется, и единственно нравственного в условиях релятивизации основных ценностей поведения. Нешуточность такой этической установки обеспечена готовностью автора заплатить «кровью» за возможность ее реализации».
Стилевая доминанта «Бабьего лета», как нацеленность на пространственную «сплошность» всех вещей и явлений, своеобразно отражает бидермайеровский культ «непрерывности». В «эру Меттерниха», как называют еще эпоху Реставрации, главным модусом государственно легитимированных действий было «замазывание» всех зияний и противоречий в истории, в политике, в социальной структуре общества. Подновление старых политических и культурных традиций и поддержание их силами общественного равновесия, введение «непрерывности» во все области жизни - эти постулаты бидермайер выдвинул в противовес «прерывистому» романтизму.
Ведь романтическое чувство жизни зарождалось как апология динамики бытия, как необыкновенно интенсивное переживание жизнетворящей процессуальности, отсюда чувствительность романтиков в живописи к незаконченному жесту, к уходящей вдаль дороге, к нагромождениям развалин (картины К. Д. Фридриха), а в литературном произведении - к фрагментарности построения (теория фрагмента Ф. Шлегеля). Своеобразная форма хронологического отчета, в которой осуществляется повествование в «Бабьем лете», порождена боязнью пробела, пропуска и являет собой как бы конкретное художественное отрицание романтической эстетики «фрагмента», романтического принципа «вершинности композиции».
Отрицание прерывистости в любом ее качестве доведено у Штифтера до предела и по-своему ограниченно. Именно от слепоты к неизбежным и необходимым последствиям любого естественного процесса - и непременное устранение всякого «увядшего и сморщенного цветка» в саду Асперхофа: нет и речи о возможном эстетическом эффекте от сочетания отцветшего и цветущего как двух стадий одного и того же (может быть лишь большее или меньшее приближение к полноте, к «сплошности» - а это уже нечто совсем другое). Проявление той же «закрытости» автора к возможной красоте и разумности дискретного (т.е. к тому., что многообразно осмыслялось в эстетике романтизма и предромантизма) - очищение ветвей деревьев от инея или, что не менее показательно, чисто бидермайеровское «замазывание» «неуклюжих», «уродливых» частей национальной одежды служанок: «смягчение» ее и «снабжение маленькими дополнениями».
Однако едва ли верно считать стиль «Бабьего лета» вполне «бидермайеровским». Само сочетание «бидермайеровский стиль» достаточно сомнительно, ибо главным признаком этого периода в литературе было именно отсутствие единого стиля, «полистилистика», использование обломков от прошлых стилевых единств. В той же мере несправедливо считать роман Штифтера и просто идеологическим сколком этой известной своим агрессивным консерватизмом эпохи немецко-австрийской истории. Но несомненным является следующее. Преодолевая необыкновенно мощным художественным усилием бидермайеровскую поверхностность и «усредненность», Штифтер сумел выкристаллизовать индивидуальную стилевую установку, не равную бидермайеру, но глубоко и полно отражающую суть этой эпохи, полемически противопоставив культ «сплошной» вещественности - «прерывистости» романтического субъективизма.
Стиль «Бабьего лета» - это не только полемика с романтизмом, но и определенный ответ на те эстетические принципы, которые проявились в романах современных Штифтеру писателей-реалистов. Особенно отчетливо это сказалось в штифтеровской трактовке идеи воспитания. У Штифтера этапы воспитательного пути героя вполне откровенно маркируются передачей ему сначала части его собственности, а затем и всей ее целиком (эти моменты называются «расширением круга» героя). В конце романа в результате женитьбы герой вводится во владение обширным состоянием.
Как несходно это целиком вещественное представление о созревании героя с таким эпизодом из реалистического «Зеленого Генриха» Г. Келлера (воспитательного романа, написанного в первой своей редакции в одно время с «Бабьим летом» и часто с ним сопоставляемого), как вручение герою матерью шкатулки с коллекцией монет. Генрих Келлера легкомысленно растрачивает это «имущество», но, тем не менее, раскаявшись, он возвышается в нравственном отношении, духовно «прирастает» в своем переживании чувства стыда перец матерью. Ничего подобного не может случиться с героем (тоже Генрихом) у Штифтера, понимающего воспитание как степень причастности к высокоорганизованному предметному миру и глубины проникновения в него, а не в духе реалистического психологизма, как у Келлера.
Полемичность стилевой позиции автора «Бабьего лета» по отношению к реалистическим установкам творчества тонко сумел почувствовать упомянутый уже Ю. Шмидт. Рецензия его на штифтеровский роман, напечатанная в 1858 г. в «Grenzboten» объясняет во многом причины непонимания «Бабьего пета» широкой публикой. Идеалом Шмидта как апологета реализма были, по его собственному выражению, «социальные романы нашего по преимуществу критического времени». В «Бабьем лете» Шмидт нашел сознательное игнорирование всего того, что определяло для него современный роман. У Штифтера не было ни сюжетного напряжения, ни конфликта, ни отчетливо выраженной социальной проблематики, ни реалистической трактовки детали, ни психологизма в разработке характеров.
В статье Ю. Шмидта как нельзя более ясно обозначилась четкая смена климата и поколений в литературе немецко-австрийского региона. Насущное требование историзма, психологизма романной прозы, настоятельная потребность более «фамильярного» (М. М. Бахтин) читательского контакта с художественным миром романа совершенно не соотносились со стилевыми принципами, которые настолько дороги были Штифтеру, что стали его жизненной установкой, единственным путем этического самоосуществления.
Позже, в пору создания эпоса в прозе «Витико» (1867), читательский интерес эпохи и стилевые установки Штифтера развиваются, как кажется, в противоположных направлениях. Но классик австрийской прозы продолжал создавать свои творения с упорством и непоколебимостью человека, однажды и навсегда выбравшего себя, свою этику, свой стиль, передоверяя таким образом свои произведения более объективному и справедливому суду потомков.
Л-ра: Литература в контексте художественной культуры. – Новосибирск, 1991. – Вып. 1. – С. 99-108.
Произведения
Критика