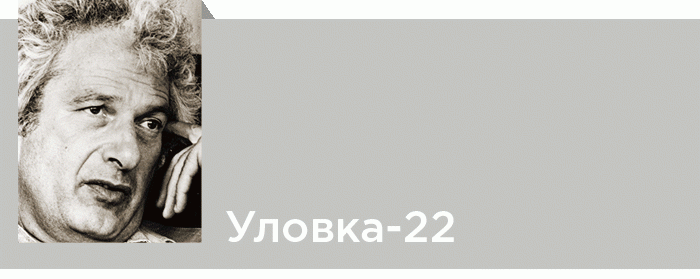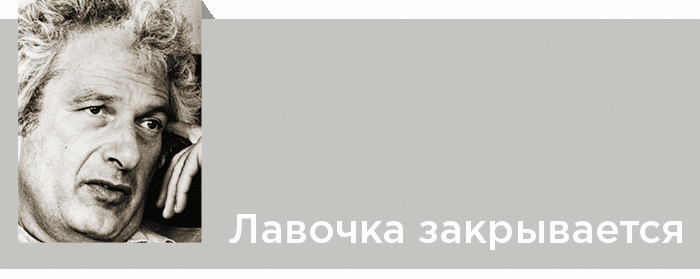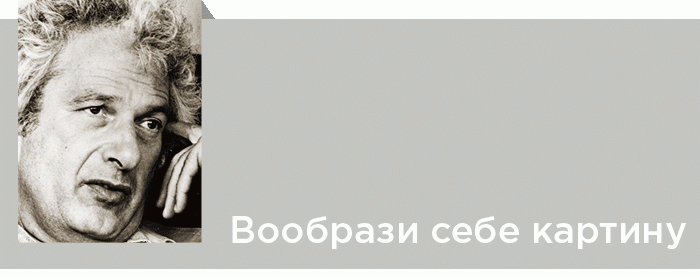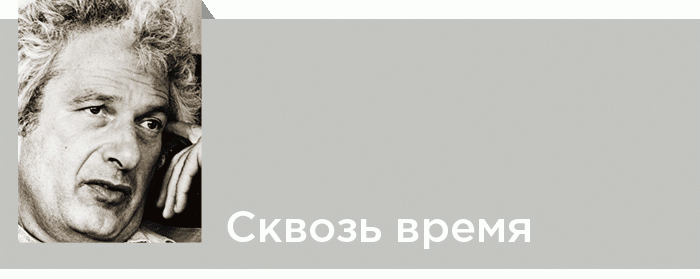Адальберт Штифтер. Потомки
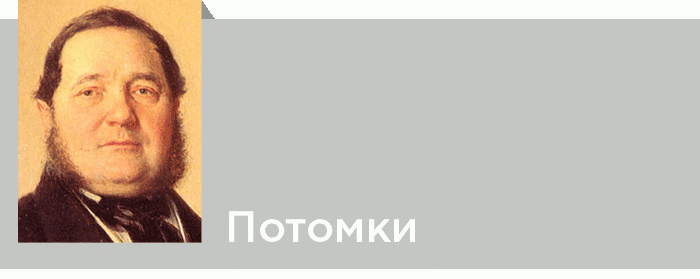
(Отрывок)
Итак, я вдруг стал пейзажистом. Это ужасно. Попадете ли вы на выставку новых картин — там вы увидите великое множество пейзажей; придете ли вы в картинную галерею — там число пейзажей будет еще больше; если же собрать и выставить на всеобщее обозрение все пейзажи, написанные современными пейзажистами — теми, кто хочет продать свои картины, и теми, кто не помышляет их продавать, — какое несметное множество пейзажей предстало бы нашим взорам! Я уж не говорю о скромных барышнях, тайком пишущих акварелью плакучую иву, а под ней какую-нибудь увенчанную зеленью урну среди цветущих незабудок, — творение это предназначается в подарок маменьке к дню рождения; я не говорю также о набросках на листке альбома, которые путешествующие дамы или девицы делают на память, стоя у борта парохода или у окна гостиницы; я не говорю ни о тех пейзажах, которыми виртуозы каллиграфии украшают свои виньетки, ни о кипах рисунков, ежегодно изготовляемых в женских пансионах, — среди них тоже на каждом шагу попадаются пейзажи с деревьями, на которых растут перчатки, — если прибавить все это, лавина пейзажей погребет под собою отчаявшееся человечество. Значит, создано уже предостаточно писанных маслом и вставленных в позолоченные рамы пейзажей. И все же я хочу писать пейзажи маслом — столько, сколько успею за время, отмеренное мне судьбой. Мне теперь двадцать шесть лет, моему отцу пятьдесят шесть, деду восемьдесят восемь, и оба они такие крепкие и здоровые, что могут прожить и до ста лет; мои прадед и прапрадед, а также их деды и прадеды, по словам моей бабки, все умерли за девяносто; если и я проживу так долго, причем все время буду писать пейзажи и все сохраню, то, вздумай я перевезти их в ящиках вместе с рамами, потребовалось бы не меньше пятнадцати пароконных повозок с лучшими тяжеловозами в упряжке, и это при условии, что иногда я все же позволю себе провести денек-другой в праздности и довольстве.
Тут есть над чем подумать.
Далее. Когда попадаешь на одно из альпийских озер и останавливаешься на ночлег в какой-нибудь уединенной гостинице, то вечером в общем зале непременно увидишь трех или четырех пейзажистов, весь день просидевших за работой где-нибудь на лугу. Те же, которые пишут у кромки ледников, ночуют в пастушьей хижине на горном пастбище или еще где-нибудь. У водопада несколько больших белых зонтов составляют как бы римскую «черепаху», применявшуюся при штурме осажденных городов; под зонтами сидят люди, пытающиеся перенести на холст низвергающийся в дымке брызг поток.
На опушке леса, перед руинами древнего рыцарского замка, у нагромождения скал, над ширью равнин, па берегу моря, в гротах и зеленовато-голубых ледяных пещерах глетчеров, чуть ли не перед каждым деревом, прудом, полуразвалившимся строением или лесным растеньицем — всюду сидят те, которые стремятся запечатлеть красками на холсте все, что предстает их взору. А учителя пейзажных классов государственной художественной школы — те и вовсе выезжают за город со всеми своими подопечными, и они пишут с натуры так же, как в классе писали с моделей. И вот теперь я тоже обзавелся трехногим складным стулом и большим зонтом из грубого полотна в зеленую полоску, который я могу воткнуть в землю и укрепить, так что он возвышается надо мной, словно сторожевая башня; кроме того, есть у меня и ящик с красками, служащий мне мольбертом, холст, бумага, кисти и все прочее; я уже не говорю о болотных сапогах, дождевике и прочем, что требуется для защиты от непогоды.
Все это весьма примечательно.
Часто, разглядывая бесчисленные корешки книг, собранных в публичных библиотеках, или просматривая каталоги новых изданий, я задавался вопросом, как это могут люди писать еще одну книгу, когда уже столько их написано; в самом деле, если сделано новое, удивительное открытие, его стоит описать и объяснить в книге, но если хотят просто о чем-либо рассказать, когда уже столько всего рассказано, то это представляется мне явно излишним. И все же с книгой дело обстоит куда лучше, чем с пейзажем, написанным маслом и вставленным в позолоченную раму. Книгу можно засунуть куда-нибудь в дальний угол, можно вырвать из нее страницы, а переплетом закрывать кринки с молоком; что же до картины, то людям жалко позолоченной рамы, и потому сменится несколько поколений, прежде чем она перекочует в какой-нибудь из переходов замка, в сени трактира или лавку старьевщика, чтобы потом, когда багет потеряет позолоту, а на полотне оставят след все перипетии ее судьбы, попасть, наконец, в чулан, где ее что ни год будут переставлять из угла в угол и где она все еще будет блуждать как призрак самой себя, в то время как от книги давно уже не останется пи единой страницы, а переплет успеет покрыться плесенью и сгнить на свалке.
Но я не чувствую за собой вины.
Я и в мыслях не держал стать пейзажистом. Разве не получил я первую премию в латинской школе бенедиктинского аббатства? Разве это не означает, что я усердно изучал латынь? А также и греческий? И разве не зубрил я как проклятый географию и историю? Но был в школе и класс рисования. Я запрыгал от восторга, увидев однажды сделанный учеником старшего класса рисунок тушью: бледно-розовую колонну на бледно-зеленом, оттенка бронзовой патины, фоне.
Я написал отцу, прося разрешения посещать рисовальный класс, и получил его. Теперь и я рисовал такие бледно-розовые колонны на бледно-зеленом фоне. А потом стал рисовать деревья, и учитель заставлял меня рисовать их во множестве, говоря, что у меня есть задатки. К югу от аббатства тянулись красивые голубые горы, зеленые холмы, золотые нивы, там и сям попадались бурные горные речки и деревья с пышной листвой. Я любовался ими и рисовал то углем, то акварелью на белой или голубой бумаге.
А потом, давно уже покинув степы аббатства, повидав и людей, и города, и картинные галереи, и выставки, исходив Альпы вдоль и поперек, я сказал себе: «Неужели и впрямь нельзя изобразить Дахштейн таким, каким я его столько раз видел со стороны озера Гозау? Почему рее пишут его иначе? В чем тут причина? Я хочу до этого докопаться». И я сделал более десятка этюдов. Все они были неудачны. Тогда мной овладело столь сильное желание написать красавец Дахштейн в точности таким, каким он был на самом деле, что однажды я сказал:
— Хочу построить домик на берегу озера Гозау с видом на Дахштейн и окном во всю стену и жить в нем до тех пор, пока не удастся написать Дахштейн так, что невозможно будет отличить изображение от натуры.
Но один из моих друзей, изрядный острослов, сказал мне:
— В этом домике ты просидишь за мольбертом пятьдесят семь лет. Это обстоятельство станет известно, как только о нем напишут в газетах, нахлынут любопытные англичане, усеют окрестные холмы и станут рассматривать твой домик в подзорные трубы, друзья будут доставлять тебе все необходимое, и по истечении пятидесяти семи лет ты умрешь, мы тебя похороним, а домик будет битком набит неудавшимися Дахштейнами.
Относительно моих неудач он был, вероятно, прав; но я так и не построил домика и больше не писал Дахштейн; только вот ящик с красками я уже успел купить, были у меня и зонтик, и складной стул, и я продолжал писать. Живопись мне дорогие всего на свете, нет в этом мире занятия, способного захватить меня сильнее, чем живопись. Рассвет только брезжит, а я уже на ногах и жду не дождусь, когда смогу вновь взяться за милые моей душе краски, а спустится вечер, и я мысленно подвожу итог прожитому дню — в чем его успехи и неудачи — и в воображении вновь берусь за кисть.
Но я во многом отличаюсь от других художников. Тому острослову не довелось бы увидеть домик на озере Гозау битком набитым неудавшимися Дахштейнами. Все мои работы, что не нравятся мне самому, я сжигаю. Те этюды Дахштейна и впрямь не получились, и я сжег их все до единого, я не выносил их вида и не мог найти покоя, пока не уничтожил последнего. Так что и в том домике, если бы мне не удалось добиться своей цели, осталась бы только куча золы. Правда, некоторые из друзей говаривали мне:
— Хотя тебе самому и не нравится какая-нибудь из твоих работ, другому она может очень понравиться. Прошу тебя, лучше подари ее мне, вместо того чтобы сжигать; ведь это же глупо, сгоревшая картина уже никому не принесет радости.
— Наоборот, глупо то, что ты предлагаешь, — отвечал я, — пока я знаю, что эта пачкотня пребывает в целости и сохранности, меня денно и нощно мучает досада, а о сожженной я тут же забываю и надеюсь в следующий раз создать нечто действительно прекрасное.
Так уже много моих вещей было предано огню.
Это может привести к самым неожиданным последствиям.
Либо я буду совершенствоваться от картины к картине, и тогда меня переживет только одна картина, — та, над которой я буду работать перед самой смертью, ибо все остальные я сожгу; либо же я быстро достигну вершин мастерства, после чего из-под моей кисти будут выходить сплошь одни шедевры; тогда после моей смерти останутся те самые пятнадцать, а может быть, и двадцать повозок, доверху набитых картинами, ибо, воодушевившись непрерывными удачами, я стану писать всё с большим рвением, а благодаря навыку, создаваемому постоянным упражнением, кисть моя станет проворнее. Но какая судьба постигнет все эти полотна? Придется ли мне и впрямь нанимать целый обоз, если я на склоне дней, на девяносто седьмом или девяносто восьмом году жизни, решу перебраться в другой город или в другой дом? Или они окажутся рассеянными по белу свету?
Тут уместно упомянуть еще об одном обстоятельстве, связанном с моими занятиями живописью. Дело в том, что, на мое счастье, мне нет нужды продавать свои картины. Я и не стану их продавать. Состояния, которым я владею, хватило бы с избытком до конца моих дней, даже если бы у меня была жена и семеро детей. Но у меня никогда не будет жены, потому что я не испытываю ни малейшего желания обзаводиться семьей.
Дядюшка мой сказал однажды отцу, когда тот выразил тревогу по поводу моего увлечения живописью: «Чем бы дитя пи тешилось! У теленочка просто рога чешутся, а отбери у него эту забаву, он еще начнет попусту сорить деньгами». Ну, сорить деньгами я пока не собираюсь. Краски, холст, кисти, карандаши стоят недорого, кроме этого мне почти ничего не нужно, так что состояние мое все растет. Но куда я дену свои картины, если они останутся в целости и сохранности? Этого я пока не знаю. Теперь, если я пишу картину и мазок за мазком ложится удачно, я испытываю такую радость, что не отдал бы этой вещи ни за какую цену, — будь то деньги, похвалы или любовь родных, — пока понемногу сам не испорчу ее и но брошу в огонь.
Если все же какие-либо полотна избегнут этой участи, а я по-прежнему не захочу расстаться с ними, то в конце концов все мои картины и на самом деле скопятся в моей квартире или в помещении, которое я сниму для этой цели. Пожелай я расстаться с ними, что было бы прискорбно, то на этот случай у меня есть сестра, а у сестры — дети; у двух моих дядюшек — тоже, у этих детей когда-нибудь появятся свои дети, те тоже народят детей, так что, достигнув глубокой старости, которая мне на роду написана, я буду окружен толпой племянниц, племянников, кузин, кузенов, внучатых племянников и племянниц, троюродных братьев и сестер, двоюродных правнуков и правнучек, которым и смогу раздарить свои картины.
Бабка моя говорит, что у наших предков всегда бывало большое потомство и что род наш никогда прежде не был столь малочислен, как ныне, но теперь как будто вновь начинает множиться, поскольку ее младшие сыновья имеют уже помногу детей и, видимо, не теряют надежды иметь их еще больше, — надежды, которую пока еще может питать и мой отец. А если бы не умерли те дядюшки, тетушки и двоюродные дедушки, от которых я унаследовал свое состояние, то род наш был бы еще многочисленнее; художнику, который взялся бы оделить их всех пейзажами, пришлось бы работать не покладая рук. Пусть себе множатся, а я плодиться не собираюсь, — по примеру своего двоюродного дедушки, который настрелял за свою жизнь такое множество зайцев, что так и умер один как перст.
И вот нелегкая занесла меня в Люпфингскую долину. Долина эта примечательна отнюдь не красотой, а скорее бесконечным болотом, в котором гнездится лихорадка. Но я не заболею, потому что уже бывал здесь и не заболел, хотя подолгу работал, пытаясь запечатлеть на полотне болото и бор, подступающий к нему стеной, а за болотом — гряду зеленых холмов и такой же бор, из — за которого вздымаются горные вершины, сверкающие голубым и зеленым. В нынешний мой приезд я опять пишу все это, ибо прежние работы сжег. Но писать теперь почти нечего, потому что какой-то новоявленный богач купил замок Фирнберг, и по его приказу на болото свезли столько камней и земли и отвели от него такое множество канав, что болото почти исчезло, а заодно с ним и лихорадка. Уродился же там только чахлый овес, да накосили немного травы. По словам хозяйки трактира «У Люпфа», где я остановился, нынче лихорадка так сдала, что о ней и говорить не стоит, а я на это отвечал, что говорить не стоит о болоте — настолько его теперь неинтересно писать. Но писать его все же нужно, потому что тот богач в конце концов начисто изведет болото, а тогда художнику здесь просто нечего будет делать.
Были тут раньше и лечебные грязи, а при них домик; все это относилось к имению Фирнберг, а новый владелец замка совсем забросил и домик и грязи, так что, но слухам, последним пациентом, принимавшим там ванны, была свинья дорожного мастера. Так все меняется. Если бы дом моей хозяйки не стоял на холме, с которого открывается вид на оставшуюся часть болота, па однообразные боры по обе его стороны, на серые холмы за ним и голубые горы вдали, и если бы холм и дом не принадлежали хозяевам трактира с незапамятных времен, а теперешний хозяин не был бы готов на все, чтобы только не лишать себя и своих потомков фамильного достояния, если бы не все это, богач сосед уже давно купил бы его дом и скорее всего свалил бы в болото вместо с холмом.
Если сын и внук хозяина трактира «У Люпфа» пойдут в своего отца и деда, они так же будут пахать свои клочки земли на буграх за холмом, подавать вино путникам, довольно часто заглядывающим в этот трактир на перекрестке проселочных дорог из четырех долин, и сдавать каморку под крышей художнику, который станет писать раскинувшиеся внизу поля, — ведь у потомков богача на месте болота только и останется, что луг, поросший жухлой травой, да поле низкорослого овса.
Вчера, впервые за те три дня, что я живу на Люпфе, немного потеплело, и, когда начало вечереть, я, почистив и приведя в порядок послужившие мне за день кисти, сел на скамью за один из столиков под яблоней, растущей перед домом на вершине холма, предвкушая ужин на вольном воздухе. Хозяйка подала на стол жареную рыбу, яйцо, ломоть белого хлеба и стакан хорошего вина, которое она ради меня держала в погребе. Провизия па Люпфе всегда самая свежая, так как куры тут несутся, в реке водится рыба, а хозяйка всякий раз, кроме ржаных хлебов, печет одну буханку пшеничного.
Когда я утолил голод и с наслаждением погрузился в созерцание своего болота — не изображенного, а настоящего, — к яблоне подошел какой-то человек. Он был среднего роста, в сером платье и сером картузе. Коротко подстриженные волосы серебрились сединой, седой была и короткая, густая борода, обрамлявшая румяные щеки, а глаза были карие и блестящие. Он сел за один из столиков, приподнял серый картузик и вытер белым платком слегка вспотевший лоб. Потом вновь приподнял картуз и поздоровался со мной. Я вздрогнул, вскочил со своего места и учтиво поклонился, потому что мне, как младшему, полагалось бы поздороваться первым.
Хозяйка принесла пиво в граненой кружке с крышечкой и поставила на его столик. Посидев немного, он открыл крышечку, сдул в сторонку пену и пригубил. Я говорю «пригубил», потому что он не отпил и трех глотков. Прошло довольно много времени, прежде чем старик опять взялся за кружку, но теперь он выпил уже побольше. Передо мной на столе ничего не было; потому что, кроме стакана вина, я больше ничего не пью после ужина. Прошло опять сколько-то времени, на этот раз немного, и вдруг он заговорил со мной, похвалив погоду. Ведь мы сидели, хоть и за разными столиками, однако все же достаточно близко друг к другу, чтобы беседовать. Я тоже похвалил вечер; ибо и впрямь делалось не прохладнее, а даже, пожалуй, теплее; зеленая топь становилась все красивей, запах трав все сильнее, а воздух чище. Он заметил, что теперь весна начнет быстро набирать силу и что уже вряд ли следует опасаться серьезных заморозков, потом рассказал мне о строительстве дороги в Киринге и сообщил, что в горах пришлось взорвать немало скал; но дело это неотложное, потому что Кирингская дорога раньше переваливала через гору и на ней выбивались из сил и люди и животные. Затем он заговорил о залежах угля в Фуксберге; от них нынче мало толку здешним местам, поскольку тут пока еще в изобилии растет пихта, однако в отдаленном будущем значение Фуксберга должно необыкновенно возрасти. Упомянул также и о том, что долину в нижнем течении Люпфа необходимо защитить от ежегодных наводнений.
Я отвечал односложно, поскольку мало что знал и понимал в тех вещах, о которых он говорил, и большей частью лишь внимательно слушал. За беседой он мало — помалу выпил кружку до дна, а заметив это, положил на столик несколько крейцеров в уплату за пиво. Вскоре он встал, вновь приподнял серый картуз, пожелал мне спокойной ночи и удалился. В свою очередь поднявшись со скамьи, я поклонился и долго смотрел ему вслед. Когда он встал, из дому вышла хозяйка, сделала книксен и пошла его проводить. Я же вновь уселся за свой пустой столик. Вероятно, хозяйка проводила его до можжевеловой изгороди за домом, где дорога начинает спускаться с холма; потом она поспешно вернулась и, убирая со столиков стакан и кружку, сказала:
— Это он и был.
— Кто? — спросил я.
— Да господин Родерер, — ответила она.
— Господин Родерер? — переспросил я. — Но ведь и меня зовут Родерер!
— Ваше имя Родерер, сударь? — удивилась хозяйка. — Ну, значит, еще один Родерер, их, наверно, много есть на свете. У нас тут полным-полно людей по фамилии Майер, Бауэр или Шмид.
— При чем тут Майер, Бауэр и Шмид! — воскликнул я. — Эти имена встречаешь на каждом шагу; другое дело Родерер! Да кто он такой, этот ваш господин Родерер?
— Тот богач, — ответила она.
— Тот самый, — подхватил я, — который собирается осушить болото на свои неправедные деньги?
— Да, который валит камни в болото, — подтвердила она. — Позапрошлой осенью, когда у нас весь урожай градом побило, он подарил нам семена озимой ржи; с тех пор стал он частенько заходить сюда. В благодарность за семена мы берем пиво в той пивоварне, что он построил выше по реке, и сдается мне, заходит он к нам неспроста — хочет проверить, не разбавляем ли мы его пиво. Но, слава тебе господи, нам это без надобности! Выпьет одну-единственную кружку, не больше и не меньше, заплатит и идет себе. Бывает, заходит сюда что ни день, даже завел для себя особую граненую кружку с крышечкой. Потом садится в коляску — она ждет неподалеку — и едет через Люпфииг в свой замок Фирнберг. Когда тепло, он всегда сидит под яблоней, а когда холодно, вообще не приходит. Небось он и с вами заговорил, он со всеми заговаривает.
— Да, он заговорил со мной. А, собственно, откуда взялся этот господин Родерер? — спросил я.
— Приехал издалека, — отвечала хозяйка. — Не то из Голландии, не то из Испании. Привез с собой жену, сына и дочь и купил замок, и нанял лесника, и управляющего нанял, и пивовара, и садовника. Тут у нас сосед один погорел, так он ему ни гроша не дал, а когда тот строиться начал, так живо подоспел — продал ему стропила под кровлю, чтобы сбыть бревна, что давно лежали на заднем дворе замка. Часть их еще и по сей день там; да только в последнее время что-то давно пожаров нету. Хотели мы было величать его «господин барон», — так уж у нас заведено, — да он не велел. На горе сводит сосновый лес на доски, а внизу, где одна глина, копает канавы и сажает деревья, когда там разве что кувшинки да еще мать-и-мачеха расти могут. Одевается он не так, как знатные господа, ходит всегда в простом платье. Предлагает, чтобы в Люпфинге поместили всех больных и убогих в один дом, и обещает давать им похлебку и лекарства. В Киринге у него мельница ветряная есть — чуть не с церковь вышиной. Сына его здесь нету, поехал к англичанам машинному делу обучаться. Завтра будет еще теплее, чем нынче, так он наверняка заявится, вот вы и поговорите с ним, может, он купит у вас все эти картинки, на которых болото нарисовано, может, они ему на что и сгодятся.
— Ладно, ладно, хозяюшка, — ответил я, — завтра утром, как рассветет, принесите мне наверх теплого молока и ломоть белого хлеба, а еще кусок я возьму с собой, потому что уйду на целый день. К вечеру поджарьте мне на обед курицу или утку.
— Курицу нельзя, — возразила хозяйка, — они у нас все несутся. А уж уточку я вам выберу из нового выводка, и раз яблоки долежали до весны, то и яблочко в нее запеку.
— Вот и хорошо, — сказал я, — а теперь я пойду спать.
— Приятного сна, — ответила хозяйка и сделала книксен.
Я поднялся по лестнице в свою каморку под крышей. А наверху подумал: «Не дай бог, чтобы этот богач Родерер — ну, насколько он богат, еще неизвестно — оказался вдруг еще одним Родерером из нашей родни, его любезный сынок моим кузеном, а его любезная дочка — моей кузиной! Тогда наше семейство разрослось бы так, что дальше некуда. Надо сказать об этом бабушке, она любит копаться в родословных».
Наутро заря занялась па ясном безоблачном небе. Едва звезды успели поблекнуть, появилась моя заботливая хозяйка с теплым молоком я хлебом. Я был уже одет и быстро проглотил все, что предназначалось мне на завтрак. Ломоть хлеба, взятый про запас, я сунул в карман, еще раз взглянул на два наброска с натуры, сделанные мной накануне и висевшие пока на стене моей комнаты, повесил на плечо ящик с красками, взял большой зонт, длинную палку и двинулся в путь.
Все необходимое я приготовил еще с вечера: краски, кисти и побольше чистой бумаги, ибо собирался писать болото на рассвете, болото при утреннем, дневном и вечернем освещении, и каждый день в одни и те же часы работать над каждым из этюдов столько, сколько позволит погода. Болото под дождем я решил писать из своего окна. О болоте в тумане я еще не думал. Как все-таки удачно, что мне пришло в голову сделать такое приспособление, благодаря которому я могу класть в мой ящик несколько непросохших набросков, не опасаясь смазать краски.
День выдался такой жаркий, какие редко бывают весной. Работать пришлось очень быстро; часы летели как минуты, освещение то и дело менялось, вынуждая меня переходить с места на место в поисках наиболее удачного. Я бы умер от жажды, если бы люди, проезжавшие в телегах по насыпи, проложенной через болото, чтобы сваливать в нее камни, не дали мне напиться холодной родниковой воды из зеленого пузатого кувшина. Вода показалась мне необыкновенно вкусной.
Когда день сменился вечером и я чистил и приводил в порядок свои принадлежности, готовя ящик на завтра, хозяйка принесла утку, а когда я уже сидел под яблоней, наслаждаясь теплым вечером и видом хорошо зажаренной утки, начиненной яблоками, появился господин Родерер в своем сером костюме и сером картузе, из-под которого выглядывали коротко подстриженные седые волосы. Я тотчас вскочил, чтобы поклониться первым и не попасть вновь в неловкое положение; поспешно сняв шляпу, я выжидающе смотрел па него. Он же, как и вчера, приподнял картуз в знак приветствия и направился ко мне. Я пригласил его за свой столик, и он сел на скамью напротив меня. Потом хозяйка принесла его кружку пива.
Я принялся за утку, а он точно так же, как вчера, откинул крышечку, сдул в сторонку пену и только пригубил. Лишь спустя довольно много времени он отхлебнул несколько глотков. Разговор на этот раз завязался с большей легкостью. Он сообщил, что сегодня потрудился на славу, потому что в такой погожий весенний денек нужно всюду поспеть. В саду, на полях и лугах, в лесу и на пастбище, — везде найдется дело. Он сам весь день был на ногах, так что вечерний отдых ему вдвойне приятен.
— У меня есть пивоварня, — продолжал он. — Пиво лучшей варки привозят оттуда мне на дом, где оно хранится в хороших погребах, по всем правилам; и все же пиво, которое здешние хозяева берут на моем же заводе, под этой яблоней кажется мне куда вкуснее, чем дома. Вечером, посмотрев, как идут дела на болоте, я люблю зайти сюда и выпить глоток-другой. Холм этот весь из песчаника, а потому погреб здесь великолепный и пиво сохраняет аромат. Кроме того, поднимаясь сюда, уже предвкушаешь удовольствие, да и обратный путь потом как-то намного приятнее. Я уж не говорю о том, что этот уединенный холм на краю болота со старой яблоней на вершине сам по себе чем-то очень привлекателен; ну да это не столь важно.
— А для меня очень даже важно, — сказал я, — и поэтому я провожу все вечера тут, если только не холодно и дождь не льет.
— Ну, это все еще переменится. Нам часто приходится отказываться от того, что казалось всего важнее. Вы сегодня трудились, не покладая рук; мои люди, видевшие вас нынче на болоте, рассказывали, что вы работали целый день и даже не обедали.
— Вот мой обед, — показал я на утку.
— Так я и думал, — ответил он. — Я позаботился о том, чтобы людей, работающих на болоте, почаще сменяли — во избежание лихорадки. Вы же проводите на болоте все время, а ведь тамошний воздух может вам повредить.
— Ради цели, которую я себе поставил, приходится идти на риск, — ответил я.
— Ну что ж, желаю вам наилучшим образом ее достигнуть, — ответил он. — Настойчивость обычно приводит к цели; только вот цели-то часто меняются.
Так мы беседовали о том о сем, пока он не допил пиво и не встал, приподняв картуз и пожелав мне спокойной ночи. Потом снизу донесся стук колес отъезжающей коляски.
Следующий день был таким же ясным. С рассветом я ушел на болото и весь день провел там. Но теперь я уже захватил с собой большую оплетенную флягу с водой, чтобы было чем утолить жажду. Правда, вода стала теплой, но это не беда. Я продолжал работать над этюдами в тех местах, где они были начаты, пока день не стал клониться к вечеру. И до самого вечера люди, занимавшиеся осушением болота, привозили камни и воз за возом сбрасывали их в вязкую топь, бесследно их поглощавшую. День был еще более жаркий, чем предыдущий. А вечером под яблоней вновь появился пожилой господин, и мы с ним вновь беседовали.
Я собирался сделать множество эскизов, чтобы затем с их помощью приступить к большому полотну. Однажды, когда я сидел в одном из облюбованных мной уголков, — на лугу с твердой дерниной по краю болота, неподалеку от проселочной дороги, ведущей в Фирнберг, — и, укрывшись от солнца под зонтом, увлеченно работал, ко мне подошла целая компания. Я только тогда заметил, что кто-то стоит за моей сонной, когда случайно взглянул в сторону и увидел тени, отбрасываемые явно не мною и не моим зонтом. Я захлопнул крышку ящика, не желая, чтобы на мою работу смотрели, и, не вставая со складного стула, обернулся. За мной стояли четверо. Две барышни и два кавалера. Одна из барышень стояла как раз за моей спиной. У нее были темные волосы, прикрытые желтой соломенной шляпкой, карие глаза и свежий цвет лица. Молодой человек, стоявший рядом с ней, цветущий блондин, был весь в желтом: желтые нанковые панталоны, желтый нанковый жилет, желтый нанковый сюртук и желтая соломенная шляпа. Вторая пара стояла чуть поодаль — оба черноволосые, черноглазые и очень похожие друг на друга. Увидев этих четверых, я поднялся и повернулся спиной к мольберту, лицом к пришельцам.
— Не слишком любезно с вашей стороны лишать нас возможности насладиться вашей прекрасной картиной, — сказала кареглазая барышня.
— Эту картину, о которой еще нельзя сказать, прекрасна она или нет, вы уже успели увидеть без моего ведома, — ответил я.
— Вы нас не заметили, — сказала она, — потому что были увлечены своим делом, и мы действительно немного понаблюдали за вашей работой. Вы на нас в обиде за это?
— Да, — ответил я, — ибо вы не могли знать, согласен ли художник, чтобы за его работой наблюдали.
Тут в разговор вмешался светловолосый молодой человек.
— Эта дорога ведет из Киринга в Фирнберг, — сказал он, — и каждый, не имеющий причин опасаться преследования властей, может спокойно воспользоваться ею; поскольку мы относимся именно к этому разряду людей, то нам и не возбраняется ходить по этой дороге. А поскольку у нас есть глаза, нам не возбраняется и смотреть на дорогу, а также на все, что находится слева и справа от нее.
— На то, что слева и справа находится, — конечно, — ответил я, — но не на того, кто неподалеку от дороги занимается делом: для этого нужно его согласие.
— Но ведь вы могли закрыть свой ящик, заслышав наши шаги, — возразил молодой человек.
— Я не слышал ваших шагов, и вы это прекрасно знаете, — ответил я.
— Не надо ссориться, граф, — сказала кареглазая барышня, — мы, пожалуй, и впрямь поступили неучтиво, когда, очарованные волшебной игрой красок в тени зонта, остановились и немного понаблюдали за тем, как создается это волшебство. Нам нужно было бы сперва испросить разрешение у господина художника.
— Вы правы, как всегда, прекрасная Сусанна, — ответил тот, кого она назвала графом, — я и надеюсь, что господин живописец не откажется приподнять крышку и открыть перед нами волшебство своих красок, если я учтиво попрошу его ради вас.
— Под этой крышкой, — возразил я, — можно увидеть лишь хаос линий и пятен, имеющих смысл лишь для того, кто собирается работать над ними дальше и делать явным этот скрытый в них смысл. Потому-то я избегаю показывать их другим людям.
— Все это правильно и справедливо, милостивый государь, — ответила кареглазая девица, — но я знаю, что в трактире «У Люпфа» есть у вас и готовые эскизы этих мест; будет ли нескромно с моей стороны, если я, любя здешнюю природу и живопись, не откажусь от надежды взглянуть на некоторые из них?
— Нескромностью это назвать нельзя, — сказал я, — но только мои картины написаны не для показа. Быть может, я и покажу их кому-нибудь или даже подарю, быть может, навсегда оставлю их у себя, а может быть, и уничтожу. К тому же вещи, находящиеся в трактире «У Люпфа», всего лишь эскизы, а не картины. Поэтому я не могу вам их показать.
— Теперь вы сами видите, высокочтимая Сусанна, что с этим господином не договоришься, — сказал тот, кого назвали графом, — и нам придется, видимо, отказаться от мысли увидеть больше того, что мы уже видели.
— Да, придется отказаться, — был ответ.
Сказав это, Сусанна кивнула, я поклонился, остальные тоже откланялись, и обе пары пошли своей дорогой. Вскоре мимо меня проехала коляска в том же направлении, куда удалилась вся компания. В коляске, — очень красивой и запряженной парой великолепных гнедых, — никого не было. Когда она догнала их, все уселись в нее и поехали в сторону замка Фирнберг. Я же открыл крышку ящика, сел и работал до тех пор, пока не подошло время переходить на другое место.
Потом я еще раз видел этих людей. Теперь, работая близ места нашей встречи, я, наученный опытом, соблюдал осторожность и время от времени поглядывал на дорогу. И однажды я увидел их. Прежде чем они приблизились, я закрыл крышку, поднялся и стал лицом к ним. Но они прошли мимо, и мы лишь обменялись поклонами. Сусанна пристально взглянула па меня своими огромными, полными огня глазами. Лишь когда они удалились, я мог спокойно продолжать работу.
Спустя немного времени погода резко переменилась к худшему. Над болотом пронеслась гроза, за пей последовала череда холодных и дождливых дней. Дождь над болотом я писал из окна своей комнаты. Но потом потянулись пасмурные дни без дождя, и я решил приступить к той большой картине, которую собирался написать с уже накопившихся эскизов. Для этой цели я собрал и поставил мольберт, натянул на привезенный с собой подрамник большой холст, поставил все это на мольберт, а рядом пристроил ящик с красками. Чтобы я мог время от времени отходить от картины на нужное расстояние, хозяйка отперла дверь, ведущую из моей комнаты в соседнюю, и часто во время работы я входил в эту комнату и смотрел оттуда на свою картину.
Не теряя времени, я заказал по почте позолоченную раму и ящик, чтобы не иметь никаких задержек в работе над картиной, ибо я убежден, что последние мазки надо класть, когда полотно уже вставлено в раму: ящик же мог мне понадобиться, если бы вдруг пришлось по какой-либо причине перевезти картину в другое место. Чтобы не отвлекаться, я и теперь не обедал в течение дня, а имел под рукой ломоть хлеба, от которого время от времени отламывал кусочек. Только к вечеру, закончив работу, приведя в порядок свои принадлежности и приготовив все к завтрашнему дню, я обсуждал с хозяйкой трапезу, которая была и обедом моим, и ужином.
За пять пасмурных дней, под шум хлеставшего порою ливня, я успел покрыть все полотно красками, закончить подмалевок будущей картины. Хозяйка постепенно убрала из соседней комнатушки весь скарб, который там хранился, и предоставила ее в полное мое распоряжение, так как увидела, что в моей комнате стало негде повернуться. За эти пять дней я ни разу не выходил на прогулку в поля, разве что иногда по вечерам позволял себе немного постоять под яблоней и поглядеть на раскинувшееся внизу болото.
За эти пять дней я отметил одно странное обстоятельство, которого не мог понять. Господин Родерер, богатый старик с короткими седыми волосами, которому дождь и ненастье не только не помешали продолжать работы на болоте, но даже помогли намного обогнать меня, потому что в холодные дни он мог добиться от людей и лошадей большего, чем в зной, — господин Родерер и в дождливую погоду, и хмурыми холодными вечерами нередко поднимался на наш холм. Он сидел со мной в общем зале, где вечером почти всегда было пусто, так как пешие путники — наиболее частые гости здесь — вечером обходили болото стороной, опасаясь то ли вредных испарений, то ли призраков. Хозяйка сообщила мне, что благородный господин Родерер прежде в такие дни никогда не приходил, что я ему, видимо, пришелся по душе, и что он теперь дольше засиживается за пивом, хотя почему-то выпивает по-прежнему лишь одну кружку.
Произведения
Критика