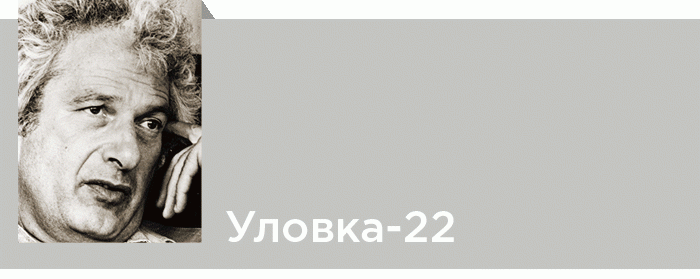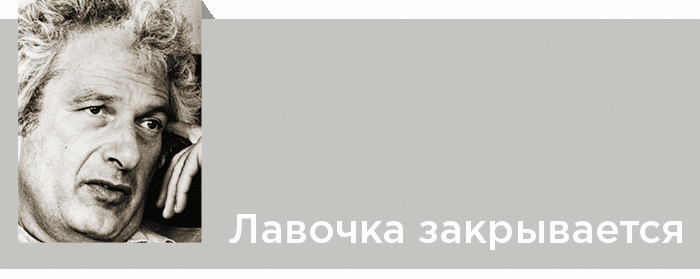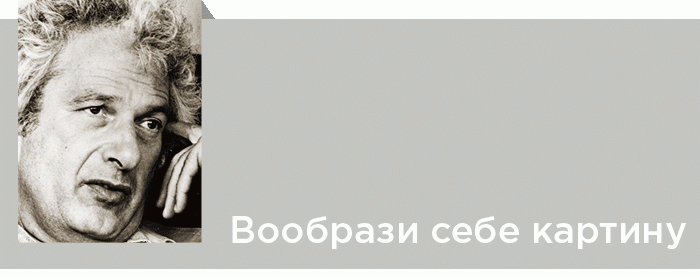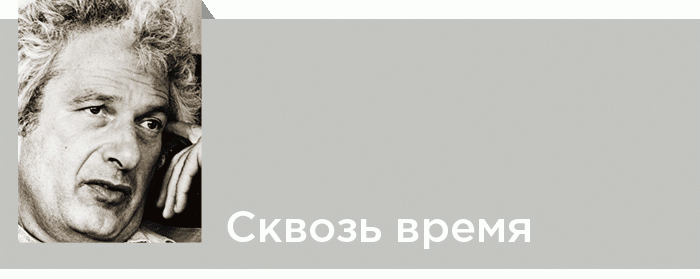Адальберт Штифтер. Записки моего прадеда

(Отрывок)
Dulce est, inter majorum versari habitacula et veterum dicta factaque recensere memoria.
Egeslppus
Отрадно бродить по обители предков и вспоминать речения и дела живших в старину.
Гегезипп
1
Обломки старины
Этой строкою блаженного Гегезиппа, ныне давно забытого латинского автора, хочу я ввести читателей в свою книгу, а самой книгою ввести их в мой старый, далекий родительский дом. Гегезиппово изречение когда-то помогло мне отличиться в школе и навсегда запало в память; но я и впоследствии не раз мысленно к нему обращался, бродя по старым покоям родительского дома, ибо дом этот изобиловал фамильными вещами, достоянием предков, и, бродя среди этих остатков прошлого, я и в самом деле испытывал ту неизъяснимую радость, то наслаждение, о каком говорит Гегезипп. Это наслаждение присуще не только отроку, я и посейчас окружаю себя всяческой стариною и питаю к ней слабость. Мало того, на пороге старости я с неким радостным чувством предвижу, как мой внук или правнук будет бродить по моим следам, которые я прокладываю с такой любовью, словно им век существовать, между тем как на самом деле, едва дойдя до внуков, они угаснут, отживут свой срок. Торопливое созидание старика, его упорная приверженность задуманному, жажда посмертной хвалы — все это не что иное, как смутные и бессильные порывания старого сердца продлить радость жизни еще и за гробом. Напрасные мечты, ибо как сам он в свое время посмеивался над безвкусным поблекшим наследием предков и менял все по своему усмотрению, так сделает и внук; он разве лишь помедлит на пороге и еще раз оглянется на эти памятки с тем сладостно-щемящим чувством, с каким мы провожаем каждый уходящий отрезок времени.
Эти-то чувства и навеяли мне мысль взять Гегезипповы слова эпиграфом к книге, посвященной памяти моего прадеда и его запискам.
О нем-то я и поведу свой рассказ.
Мой прадед был широко известен как знающий лекарь, искусный врачеватель, считали его также за чудака, а кое в чем чуть ли не за еретика. Всего этого он набрался в высшей школе в Праге, откуда, едва лишь обзаведясь докторской шляпой, вынужден был бежать стремглав, дабы поискать счастья в широком мире. О причине, вызвавшей столь скоропалительное бегство, он, по словам деда, предпочитал молчать. Но какова бы ни была эта причина, она привела его в родную глушь, в наш чудесный лесной край, где он вскорости стал пользовать всех больных на много миль окрест. Всего лишь несколько лет назад в нашей долине еще носились заглухающие толки о докторе, да я и сам мальчишкой встречал запозднившихся стариков, которые знавали моего прадеда и видели, как он разъезжает по округе на своих рослых вороных.
К глубокой старости он кое-что прикопил и, когда пришел его час последовать за иными своими пациентами, завещал эти сбережения вместе с домом и утварью единственному сыну. Деньги в прусскую войну пошли прахом, дом, однако, уцелел; о странностях и чудачествах доктора, который не укладывался в общий ранжир, много ходило толков еще и после смерти. Но, подобно глыбам льда, уносимым весенним паводком, чтобы превратиться в ледяную кашу и окончательно раствориться в воде, эти слухи таяли, пока наконец имя моего прадеда не затерялось в потоке преданий. Его домашняя утварь и памятные вещи тоже износились и поблекли. Об этих обломках старины мне и хочется рассказать, ибо в свое время они доставили немало радостных волнений.
Как ни странно, особенно мила мне в ту пору была всякая отслужившая ветошь, а не те вещи, которые привлекли бы мое внимание сейчас. В туманных далях младенчества видится мне черный камзол мудреного покроя, в ушах моих еще звучат восхищенные возгласы зрителей — такому-де левантипу износу нет, не чета нынешним шелкам, — а также их советы и наставления насчет того, как беречь и чтить старину; завалялось среди детских игрушек обшмыганное темное перо с надломленным черешком, когда-то украшавшее чью-то шляпу; запомнилось мне облезлое дышло среди щепок, обломков и прочего мусора в дровянике.
В нашем саду по-прежнему неистребимо разрастался Дягилев корень; рядом высилась дряхлая черешня, две ее единственно уцелевшие ветви еще приносили летом черные кислые плоды, а осенью осыпались багряно-красными листьями; запомнились также два колеса цвета небесной лазури, от беспорядочно набросанных сверху плугов и борон они обросли вековой грязью, и я, мальчишкой, напрасно старался дочиста их отмыть. В сенях и в конюшне валялось много предметов неизвестного назначения — говорили, что доктор женился на благородной, возможно, эти вещи не имели к нему прямого отношения, но когда среди привычной домашней утвари попадалось что-нибудь чудное, что ставило в тупик нынешних обитателей дома, то всегда говорили: «Должно быть, это еще докторовы вещи», потому что хоть мы и высоко ставили нашего богатого предка, однако почитали его в душе за чудака.
В нашем доме в ту пору, должно быть, водилось еще много старины, но страх удерживал нас, детей, заглянуть в иной заповедный угол, где веками спасался всякий хлам. Так, в темную галерею между насыпным амбаром и крышей были составлены самые старые вещи, но уже с первых шагов ход туда преграждала позолоченная статуэтка святой Маргариты па массивном цоколе, и нас, детей, стоило нам туда заглянуть, отпугивало ее мерцание. Неисследованные области имелись и в недрах каретника, где стоймя торчали какие-то жерди, лохматились вязанки иссохшего сена, топорщились кучки знакомых перьев давно зарезанных кур; где колесные ступицы таращились черными, с блюдце, глазами, а рядом, в соломе, зияли провалы, черные, как докторская шляпа. Конюх как-то поведал нам, что, став на четвереньки, можно сквозь эту свалку пробраться в конюшню, к ларю с овсом, и этим нагнал ста нас еще большего страха; мы восхищались такими подвигами, но сами не отваживались на них.
У милой матушки в темных недрах сундука хранилось немало заветных вещиц, единственное назначение которых заключалось в том, чтобы там храниться; в тех редких случаях, когда ей надо было что-то достать из сундука, мы пользовались этим, чтобы тоже сунуть туда головенки. Там лежало ожерелье из бряцающих серебряных пуговиц, связка пряжек, ложечки с длинными черенками, большая серебряная чаша, которой доктор, по преданию, пользовался, когда ему доводилось пускать кровь знатному пациенту; там же хранились два орлиных клюва, несколько мотков золотого галуна и многие другие предметы, таинственно отсвечивающие в темноте. Нам не разрешалось рыться в этих сокровищах, матушка торопилась запереть сундук и уйти. Но порой, когда в верхней спальне, где стояли кровати для гостей и висело праздничное платье, затевалась большая уборка, все проветривалось и чистилось, — матушка, когда бывала в добром расположении духа, охотно показывала какой-нибудь соседке, а также и нам, детям, которые в этих случаях не отходили ни на шаг, укладку с подвенечными платьями, эту своеобразную галерею предков почтенного бюргерского семейства, гордого своей родословной. Платья эти хранились как святыня и при случае показывались гостям. Однако с годами и этот культ отходил в прошлое. Да и в самом деле, что особенного заключалось в каком-то черном фраке, в котором вы венчались, посещали соседей или отправлялись на прогулку, — стоило ли воздавать ему такие почести? Когда матушка извлекала на свет эти негнущиеся, неуклюжие одеяния и заставляла их играть на солнце, мы, дети, упивались их поблекшим великолепием. Бархатные, шелковые, расшитые золотом наряды заманчиво шелестели и потрескивали, точно маня в неведомое. От доктора оставалась его парадная фиолетового бархата пара, отделанная петлицами и золотым шитьем, и к ней черные туфли с бантами и черный берет. Пепельно-серое шелковое платье его нареченной заканчивалось коротким шлейфом, украшенным золотистой каймой и приоткрывавшим лимонно-желтую шелковую подкладку. Не менее примечательна была бабушкина парчовая юбка — она сама по себе стояла стоймя со всеми своими многочисленными складками и большими шелковыми цветами апплике. Что же до батюшкина рыжеватого жениховского сюртука, в котором он — уже на моей памяти — о пасхе и троице хаживал в церковь, то его постигла другая участь: после батюшкиной кончины, когда меня снаряжали в аббатство учиться, сюртук распороли и сшили мне из него новенький кафтанчик. Я надевал его по воскресеньям и удостаивался в этом наряде таких насмешек и помыкательств от моих однокашников, что всем своим робким сердчишком тосковал по умершему отцу и воспринимал это поношение досточтимого сукна, которое видел на своих руках, как некое святотатство.
Немало, должно быть, памятных вещей было так уничтожено и предано забвению в нашем доме. Мне живо помнится зимнее утро, когда решено было пустить на растопку огромный изъеденный червоточиной гардероб с инкрустацией; он высился рядом с кухней, подобно замку. Помню, точно это было вчера, горе, охватившее меня, совсем еще ребенка, когда на величественную махину кофейного цвета обрушился топор и она разлетелась в мелкие щепки, которые, к великому моему разочарованию, оказались с исподу белыми, как сосновые поленья в нашем дворе. Долго потом светлое пятно на стене, у которой стоял гардероб, вызывало у меня чувство поруганной святыни.
А ведь, пожалуй, и не сосчитать, какое множество всякой старины погибло и в вовсе незапамятные времена. Сколько раз, подобрав в мусоре пестрый лоскут, мы, бывало, сооружаем из него флажок на длинной палке и с увлечением играем в паломников, — быть может, некогда этот лоскут был частью кокетливого наряда очаровательной женщины; или же, присев в траву, распеваем: «Маргарита, Маргарита!» Матушка не однажды рассказывала нам о прелестной кроткой супруге нашего предка. Мы распевали «Маргарита, Маргарита!», и лоскут рождал в наших сердчишках благоговейный страх.
С каким усердием человек спроваживает прошлое с глаз долой, и с какой между тем неизъяснимой любовью тянется он к уходящему в вечность, хоть это не что иное, как мякина, отсевки минувших лет. Ибо это — поэзия отжившего хлама, та печально-нежная поэзия, что воспевает следы обыденного, привычного и этим особенно трогает сердце, ибо в них с наибольшей ясностью запечатлены тени усопших — вместе с нашей тенью, что влечется за ними. Потому-то у городских жителей, которые постоянно все обновляют, нет отчизны сердца, тогда как крестьянский сын — пусть он даже переехал в большой город — втайне лелеет томительное чувство любви к покинутому старенькому домишку, где стены и утварь праотцев как стояли, так и стоят. Когда самые кости ушедшего превратились в прах или же рассеяны по траве где-нибудь в углу погоста, в старом жилище все еще стоят облезлые сундуки предков; их задвигают подальше, как ненужную рухлядь, и тут они сводят дружбу с младшей порослью, с детьми.
Есть что-то трогательное в этих немых, косноязычных повествователях незнаемой истории старого дома. Сколько горя и радости сокрыто в нечитаных страницах такой истории, да, в сущности, так и остается сокрытым. Златокудрое дитя и новорожденная муха, играющая рядом в золотых лучах солнца, — вот последние звенья этой длинной безвестной цепи, но они же — и первые звенья другой цепи, быть может, еще более длинной, еще более незнаемой; и все же это — цепь родства и близости, а ведь как одиноко стоит в таком ряду отдельно взятый его представитель! И если картина — пусть и бледная, выцветшая, обломок, пылинка расскажут ему о тех, что были до него, он сразу почувствует себя не столь одиноким. А ведь как незначительна подобная история; она восходит лишь к деду или прадеду, повествует лишь о крестинах, свадьбах, погребениях, о родительской заботе — и все же как много любви и страданья в ее малой значимости! В той — большой — истории заключено не больше, она, в сущности, лишь обесцвеченное обобщение этих малых картин — обобщение, в котором опущена любовь и все внимание отдано кровопролитию. Но только тот, великий, златой поток любви, докатившийся до нас спустя тысячелетия — через неисчислимые материнские сердца, через отцов, невест, братьев и сестер, — только он являет собой правило, а о нем-то и забывают писать; тогда как ненависть — исключение, а о ней рассказывают тысячи книг.
Покуда был жив батюшка, ничто из докторского достояния не задвигалось в дальний угол; батюшка высоко чтил память доктора и постоянно читал его рукописную книгу в кожаной папке; потом она куда-то затерялась. При жизни батюшки старинная утварь окружала нас несмываемой летописью, и мы, дети, вживались в нее, словно в старую книжку с картинками, ключом к которой обладал только дедушка, он, единственно живой жизнеописатель доктора, своего отца.
Когда порой, вечерами, он сидел среди этих реликвий и мысленно углублялся в книгу своей юности, единственными письменами которой были глубокие морщины и седые волосы, и рассказывал о делах и приключениях доктора, о бесстрашии, позволявшем ему ночью и днем скакать по лесу и степи, торопясь к своим пациентам; вспоминал его шутки и прибаутки, его пузырьки и склянки, отсвечивающие красным и синим, словно карбункул или другой драгоценный камень, и как он правил всем на земле и в воздухе, — тогда не раз случалось, что тот или другой из окружающих памятных предметов вдруг оживал в его рассказе: то ли бутыль в знаменательную минуту давала трещину, то ли склянки не оказывалось на месте, — она упала и разбилась, задетая рукой крестьянина, изувеченного рухнувшим деревом, когда доктор выправлял ему переломанные кости, а в ней-то и было заключено чудотворное зелье, — тогда эти пережившие себя тени обретали для нас несказанное значение и очарование. Мы не решались оглянуться на эти предметы, стоящие в ярком свете свечей и отбрасывающие густые четкие тени: в глубине комнаты притаился высокий узкий шкафик, словно стройная дева рыцарских времен, затянутая в темный корсаж; вечером, казалось, на нем стояли предметы, которых днем здесь и в помине не было; таинственно сверкала аптечка начищенными стеклами, становившимися день ото дня все ярче и краше; рядом стоял кленовый стол с изображением пасхального агнца и часы с башенкой; длинный кожаный тюфяк лежал поверх деревянной скамьи на точеных, крепко вцепившихся в пол медвежьих лапах, а позади виднелось окно с бледными отсветами луны и под ним — фигурное письменное бюро с бронзой, с многочисленными ящичками и резными перильцами, на которых резвились коричневые лягушки, с драгоценной столешницей под выпуклой крышкой, со свисающим сверху чучелом рыси, — вечерами мы не узнавали и боялись его. И когда единственный наш оплот — батюшка, — не придававший этим россказням никакого значения, засыпал в своем углу за печкой, между тем как лунное сияние морозной светлой ночи неотступно глядело в оледенелые окна, в комнате веяло такой призрачной жутью, что она охватывала даже матушку, не говоря уже о служанках, которые сидели вечерами в смежном чуланчике и пряли: случись кому в такое время постучать в ворота, никто и за полцарства не отважился бы выйти посмотреть, кого это принесло в неурочный час.
Я часто задумывался над тем, как это возможно, что столько сверхъестественных явлений и небывалых событий сплелось в диковинный узел в жизни одного человека, моего прадеда, и почему все нынче стало таким обычным и скучным — ведь сейчас совсем не слышно о лихой нечисти и нежити, — и если батюшке случается вечером запоздниться, то либо его задержало лесное бездорожье, либо некстати прошедший дождь.
— То-то и оно, — говаривала бабушка, когда об этом заходила речь, — ныне все измельчало — что птица в небе, что рыба в реке. Если раньше, бывало, в ночь под воскресенье вы ясно слышали плач и стоны из Черного лога или с дальней Гаммеровой пустоши, то нынче окрест такая тишина, словно все вымерло, и только редко кому попадется блуждающий огонек или прикорнувший на берегу водяной. Да и вера у людей повывелась, а ведь старики, от кого мы это слышали, тоже не дураки были, а богобоязненные люди со светлой головой. Молодые хотят быть умней стариков, а, смотришь, с годами и они все больше соглашаются с теми, кто много повидал на своем веку и умудрен жизнью.
Так говаривала бабушка, и я жадно внимал ей, устремив глаза вдаль и заранее с ней соглашаясь, ибо я и без того всему верил свято и нерушимо.
Так было у меня в детстве, и так утекали годы.
В ту пору годы тянулись бесконечно, проходило бог весть сколько времени, пока хоть чуть подрастешь.
Когда я, самый старший, вышел наконец из пеленок, скончался батюшка, и мне вскоре пришлось ехать в аббатство — учиться. Потом в семью вошел отчим и завел новые порядки. В доме появилась красивая мебель и утварь, старье снесли в заднюю нежилую светелку, с до коричневости протравленными стенами. В эту комнатку, выходившую в сад, наспех снесли отставную утварь, и там она в беспорядке и доживала свой век. Да и у меня появились новые мысли и устремления. Но однажды, в большие осенние каникулы, я зашел проведать старину, и мне захотелось навести в комнате порядок. Так я и сделал — тщательно обставил ее этими вещами и долго любовался тем, как меланхоличные лучи неяркого осеннего солнышка освещают и согревают их. Но мне надо было возвращаться к себе в аббатство, а когда срок учения кончился, меня занесло в отдаленный большой город.
Тут наступила трудная пора, во мне заговорили устремления мужчины, и словно туманом заволокло далекую страну детства. Я кое-чего достиг, немало и претерпел, а там пришло время, когда у человека возникает желание увидеть понемногу убывающий поток своей жизни обновленным в малых детках, — я встретил славную девушку, завоевавшую мое сердце, и повел ее к алтарю. Это событие вновь вернуло меня в страну детства. Матушка так огорчалась, что слабое здоровье помешало ей помочь невесте сплести свадебный венок и присутствовать на венчальном обряде, что мы решили возместить ей эту потерю, проведя первые дни нашей совместной жизни в родном краю. Итак, мы отправились в путь, перед нами замелькали леса и горы, и в один прекрасный день вернулись мы на родное пепелище.
Матушка состарилась, новое щегольское убранство, которое я видел здесь в мои школьные годы, тоже постарело и поблекло; дедушки и бабушки с нами уже не было; зато в старой детской играли дети сестры, которую, уезжая, оставил я крошкой, — не постарели только любовь и добросердечие. С неизменной приветливостью на увядшем лице, неизменно ласковым взором встретила матушка свою юную цветущую дочь и одарила ее всеми знаками любви и уважения. Для нас, людей единого сердца, единой незамутненной любви, наступили поистине незабываемые дни. Я водил молодую супругу по лесам моего детства, на берега говорливых ручьев и скалистые вершины, водил по роскошным лугам и волнующимся нивам. Матушка провожала нас, она показывала новой дочери, какие поля принадлежат нам и что на них растет.
Все это было так же дивно, так же прекрасно, как встарь — нет, много лучше, много душевнее, — в те (времена я еще не созрел для подобных чувств, И только дом стал приземистей, окна меньше, комнаты теснее. Все, что казалось тогда сумрачно-таинственным: темные переходы, зияющие чернотой углы — открылось моему взору; здесь скопилась одна лишь негодная заваль. В охряной светелке старые вещи стояли на том же месте, где я их оставил, но все здесь дышало на ладан. И только письменное бюро с бронзой уцелело со всеми своими завитушками и украшениями — чудесный образец старинной резьбы по дубу, настоящее произведение искусства. Матушка по моей просьбе охотно отдала его мне как свадебный подарок. Остальное обратилось в прах и тлен; пазы разошлись и пропускали свет, червячок сверлил дерево, и в источенные ходы незримо сеялась пыль. Бродя по дому, я замечал, что здесь убрали деревянную лестницу, там поставили новую; резные перильца исчезли в одном месте и появились в другом; ключевая вода изливалась в новый водоем; огородные грядки были расположены по-другому; здесь стояли хозяйственные орудия; в саду исчезла дряхлая черешня; многое переменилось и в дровяном сарае, в глубине его, правда, еще торчали жерди и лохматились вязанки иссохшего сена, но на всем лежал прозаически ясный отсвет настоящего, и старые знакомцы смотрели на меня так, словно начисто забыли мои детские годы. Так дни слагались в недели, а я вновь знакомился с новыми для меня покоями. Но как-то в ненастный день, когда мелкий серенький дождик занавесил горы и леса, этот дом подарил мне то, чего я уже не искал в нем, порадовал канувшей, казалось, в вечность, но бережно сохраненной стариной.
Во дворе ж в саду все плавало в воде; матушка, жена и сестрица, сидя в надворном флигельке, коротали время за беззаботной болтовней. С удовольствием, как в детстве, прислушиваясь к дробному перестуку дождя о гонтовые крыши, я поднялся на верхний чердак и очутился в галерее между насыпным амбаром и крышею. Там по-прежнему, поблескивая золотом, стояла святая Маргарита, как стояла уже долгие годы. Вокруг нее, как и встарь, был раскидан всякий хлам. Сумрачное мерцание золота больше не смущало меня, я вытащил статуэтку наружу, чтобы получше ее разглядеть. Это была старинная, с добротной позолотой, деревянная женская фигура в половину человеческого роста, сильно потертая И разбитая. Когда-то она, должно быть, стояла в наших владениях, в давно снесенной полевой часовне, случайно попала на чердак, и все о ней забыли. Впрочем, мне уже не верилось, что это простой случай. То, что статуэтка попала сюда, что с утра зарядил дождь и я поднялся на чердак и сдвинул ее с места, — все это были звенья единой цепи, которая и привела к тому, что должно было случиться. Когда я хотел вернуть статуэтку на место, то по звуку понял, что подставка не из цельного дерева, а полая внутри. Приглядевшись, я увидел, что это и в самом деле полый ящик, запертый на замок. Тут во мне пробудилось любопытство. Я спустился вниз за клещами и стамеской, а по возвращении сперва очистил ящик от скопившегося на нем слоя пыли в палец толщиной и сорвал деревянную крышку. Передо мной открылось хаотическое нагромождение бумаги в виде исписанных листков, пачек и рулонов; здесь же лежал ручной инструмент, а также веревки и шпагат всевозможных сортов и размеров и другая мелочь. Преобладала, однако, бумага. В каждом доме есть вещи, которые не выбрасывают, потому что в них заключена частица нашего сердца; обычно их убирают в какой-нибудь дальний ящик, который потом уже не попадается на глаза. Я понял, что предо мной именно такой случай, и, засев в полутемном проходе, под слабое мерцание статуи и тихий шелест дождя приступил к исследованию своей находки и уже через час с головой погрузился в бумажную труху.
Что за чудеса! Были тут и вконец испорченные листки, и такие, на которых было написано всего два слова, либо изречение; на других были наколоты сердца и нарисованы фламбуаяны; были и собственные мои тетради для чистописания, и картонное ручное зеркальце без стекла, и счета, и рецепты, и пожелтевшее от времени судебное дело — тяжба из-за какого-то выгона, — и бесчисленные листки с текстами давно забытых песен; были письма — свидетельства давно отгоревшей любви, но с сохранившимися виньетками в пасторальном вкусе, выкройки платьев, каких давно не носят, рулоны упаковочной бумаги, давно вышедшей из употребления; здесь же хранились детские учебники со всеми нашими именами на внутренней стороне переплетов; учебники переходили от одного к другому, и каждый, словно чувствуя себя последним бессменным владельцем, зачеркивал жирной чертой имя предшественника и крупным детским почерком увековечивал свое имя. Рядом стояли даты, выведенные порыжелыми, а также черными и снова порыжелыми чернилами.
Когда я бережно вынимал растрепанные книги, следя за тем, чтобы страницы, на которых сотни раз покоились детские ручонки, не разлетелись в беспорядке, наткнулся я на другую книгу, непохожую на эти и, по — видимому, другого происхождения. Эта лишь случайно затесалась в стопку детских учебников и принадлежала старику, давно отошедшему в вечность. Составленная из листов пергамента, она равнялась по объему четырем наложенным друг на друга школьным учебникам и состояла из отдельных тетрадей. Я поспешил открыть ее, но увидел только чистые перенумерованные листы с цифирью крупным шрифтом, выведенной красными чернилами. В остальном это был нетронутый пергамент с желтой каемкой старости по краям. И только верхние листки в первой тетради — в своей совокупности с большой палец толщиной — были исписаны старинным, размашистым, неразборчивым почерком. Чтение этих страниц затруднялось еще и тем, что края пергамента были проткнуты ножом сверху и снизу и в образовавшиеся отверстия продета шелковая ленточка, а концы ее скреплены сургучом. Начало книги составляло примерно пятнадцать таких подшивок. Последняя, неисписанная, страница значилась восемьсот пятидесятой по счету, на первой же стояло заглавие: «Calcaria doctoris Augustini, torn II».
Все это было так неожиданно и загадочно, что я тут же решил не только отнести книгу вниз, чтобы при случае разрезать сшитые страницы и ознакомиться с их содержанием, но и прихватить кое-что из лежавших здесь вещей, представляющих какой-то интерес. Когда мне попалась книга из пергамента, я вспомнил старую книгу в кожаном переплете, которую в течение многих лет читывал батюшка. По-видимому, то был первый том найденных мной «Calacaria», авось и он окажется в сундучке. Я хорошо его помнил: переплетенный в пурпурную кожу с медными застежками, он когда-то восхищал нас, детей. Я принялся «аккуратно вынимать из сундучка лист за листом, пачку за пачкой, тщательно все пересмотрел и добрался до самого дна, но так и не нашел пропажу. Когда же я опять все сложил на место и хотел приказать слуге снести сундучок в мою комнату, для чего подвинул его ближе к свету, то услышал шум падения. И представьте, то была как раз утерянная книга: кто-то прислонил ее к задней стенке сундучка, и она ускользнула от моего внимания. Наросший на ней густой слой пыли и паутины делал ее незаметной. Батюшка, которого я вижу перед собой, словно мы только вчера с ним расстались, уже четверть века гниет в сырой земле. Я тысячу раз спрашивал матушку о книге в кожаном переплете — она ничего не знала и все перерыла в поисках ее. Кто же прислонил книгу к сундучку, а потом начисто забыл о ней?
Пользуясь тем, что женщины, увлеченные беседой, не замечают моего отсутствия, я решил помедлить в своем уединении. Очистив книгу от мерзости запустения, я обнаружил знакомый пурпурный переплет. Я нажал на пружинки, застежки отскочили с глухим звоном, папка раскрылась, и я заглянул внутрь. Весь пергамент был исписан, страницы тщательно перемечены красными цифрами, кончая последней, пятьсот двадцатой по счету. Это был все тот же старинный размашистый неразборчивый почерк, латинский шрифт вперемежку с готическим; страницы были попервоначалу скреплены таким же причудливым образом, ибо каждая хранила с краев следы ножа, а перевернув первую, я увидел то же заглавие: «Calcaria doctoris Augustini, torn I».
Я полистал книгу с начала, полистал с конца, раскрывал ее наудачу здесь и там и повсюду видел все тот же почерк с твердыми волосными штрихами и неразборчивыми буквами. Большие пергаментные листы были исписаны сверху донизу. Однако здесь ждало меня и нечто новое: в книгу были местами заложены многочисленные разрозненные страницы и тетради, и я узнал руку покойного батюшки. Тут меня осенило: так вот почему в сундучке не оказалось его бумаг! Он вложил их сюда, в заветную книгу, и они затерялись вместе с ней.
До того как заняться книгой, я решил ознакомиться с наследием батюшки. Я перебрал листок за листком; здесь были записи песен, отдельные заметки и размышления, слова, обращенные к нам, детям, а также ветхий календарный листок с надписью размытыми, выцветшими чернилами: «Сегодня господь благословил меня первым возлюбленным сыном». Кое-что я прочитал на ходу, у меня было чувство, точно я нашел сердце, которое искал двадцать лет кряду, — сердце давно скончавшегося батюшки. Я дал себе слово ничего не говорить матушке об этих записях, а вложить их в памятную книжку и сохранить навсегда.
Я так и не раскрыл тетради со стихами, в ушах моих звенели давно забытые слова, которые в свое время передала мне матушка: «Негоже показывать мальчику, как я его люблю». Несмотря на дождь, ливший как из ведра, я вышел во двор поглядеть на каждую прибитую им доску, каждый вбитый колышек, каждое посаженное им в саду дерево и на те деревья, что пользовались особенной его любовью. Сундучок с книгами доктора и с прочим содержимым я приказал снести к себе в комнату.
Когда я снова спустился вниз, матушка с моей женой все еще сидели в надворном флигельке, увлеченные беседой. Матушка нахвалиться не могла своей невесткой; они сидят здесь уже не один час и о чем только не переговорили; матушка и не представляла себе, что можно так просто и задушевно беседовать с горожанкой, как если бы та родилась и выросла здесь.
К вечеру, когда разорвалась густая наволочь и тучи, как обычно в наших краях, плотными белыми кипами поплыли над лесом, а на западе тут и там засияли бледно-золотистые островки ясного неба и кое-где на них выглянуло по одной звездочке, мы всей семьей, вместе с отчимом и зятем, уезжавшими с утра и только сейчас воротившимися, собрались в столовой за большим столом, освещенным лампою, и я рассказал о своей находке. Никто в доме понятия не имел о сундучке, и только матушка хватилась, что нечто в этом роде, какой-то ящик с рухлядью стоял в сенях, но это было давным-давно, — пожалуй, еще до нашего рождения; куда он потом делся и что с ним стало, ей невдомек, ящик с его содержимым навсегда вылетел у нее из головы. Кому вздумалось прислонить к нему книгу в кожаном переплете, было и для нее загадкой, разве только дедушка в первом смятении после батюшкиной кончины решил укрыть книгу от глаз вдовы, а потом, должно, и позабыл о ней. Зашла у нас речь и о статуэтке, я спросил, откуда она, но и этого никто не знал: статуэтка всегда стояла в темном проходе на чердаке, и никто не задумывался над тем, почему она здесь и что это за подставка. В наших полях никакой часовни матушка сроду не видывала.
Пока мы толковали, малютки сестры столпились вокруг нас и прислушивались, уставив на нас свои задорные ангельские личики. Кое-кто уже держал в руках старые листки из сундучка с изображением цветов или алтарей — когда-то их прапрабабушка с тайным восторгом прижимала эти листки к груди, — а на некоторых были начертаны стишки, рассказывающие о страданиях и злодействах вековой давности.
Заветная книга лежала раскрытая на столе, и то один, то другой с любопытством листал ее, но никому не удавалось разобрать неудобочитаемый почерк или связать воедино случайно выхваченные из текста мысли. Должно быть, это жизнеописание доктора, решила матушка. Бывало, вечерами, когда батюшка читал заветную книгу, а она, как всегда, возилась с детьми или хлопотала по хозяйству, он не раз восклицал: «Что за человек!» Сама она ни разу не держала ее в руках: дети задавали ей такую гонку, только бы управиться! Я же думал про себя: если это и впрямь жизнеописание доктора, следственно, удастся узнать, ведался ли он в самом деле с неземными силами, как повествует легенда, или же его жизнь — обычный венок из цветов и терний, что зовутся у нас радостями и горестями. Жена восхищалась искусно нарисованными кистью буквицами и огненно-красными заголовками, за которыми следовал все тот же невразумительный почерк. Меня просили почитать немного вслух, но мне это было так же непосильно, как и всякому другому. И так как матушка позволила мне забрать к себе докторовы книги, то я и обещал, покамест мы здесь, ежедневно их штудировать, а потом вечерами докладывать им то, что удалось разобрать. На этом мы и порешили, а поскольку речь у нас шла о прошлом, то беседа и дальше потекла по этому руслу: особенно на матушку нахлынули воспоминания о разных эпизодах нашего детства и юности — кто что сделал и что сказал в том или другом случае, и что примечательного произошло в те годы, когда она была в тягостях тем или другим из нас.
В ту ночь мы поздно разошлись по своим спальням. Я направился к себе, унося под мышкой тяжелую пергаментную рукопись давно почившего доктора.
Теперь я подолгу засиживался по утрам в охряной светелке, читая заветную книгу и размышляя над ней, как некогда батюшка. О том, что я успел разобрать и продумать, я охотно вечерами делился со своими семейными, и они дивились тому, что речь покамест идет о самой обычной жизни, похожей на жизнь других людей. Мы рассуждали о прочитанном, все больше в него углубляясь, и мои слушатели с нетерпением ждали следующего вечера, чтобы узнать, что дальше.
Но подобно тому, как все преходяще в жизни человеческой и как сама она проходит незаметно для глаза, так утекли и бесценные дни на моей родине, подаренные нам судьбой, и по мере того, как приближался последний, мы становились все печальнее и молчаливее. Уже за несколько дней до отъезда было упаковано и отправлено вперед письменное бюро; за ним последовали чемоданы и сундуки с материнскими подарками и нашим приданым — все это требовало заботливого присмотра. Наконец пробил час расставания. Мы должны были выехать на заре, так как до первого ночлега предстоял долгий путь. Я посадил в карету мою рыдающую супругу и последовал за ней, внешне спокойный, но так же горько плача в душе, как в тот день, когда впервые уезжал от матушки на чужбину. Она же, как и тогда, стояла, сломившись от горя, но теперь ее и без того согнули ушедшие годы. Матушка старалась держаться с подобающим христианке спокойствием и, благословляя, осеняла нас крестным знамением. Еще минута, лошади тронули, и дорогое лицо, которое я все эти недели видел перед собой, поплыло вдоль окошка кареты и исчезло; только что мы видели его, а теперь увидим только в вечности.
Мы сидели в карете, храня молчание, меж тем как колеса — пядь за пядью — катили по дорожной пыли, прибитой утренней росой. Горы и холмы за нашей спиною ложились друг на друга, и, оглядываясь, мы не видели ничего, кроме брезжущего в синей дымке отступающего леса, который все эти дни в своем праздничном убранстве глядел сверху вниз на наши окна и на нас самих.
Произведения
Критика