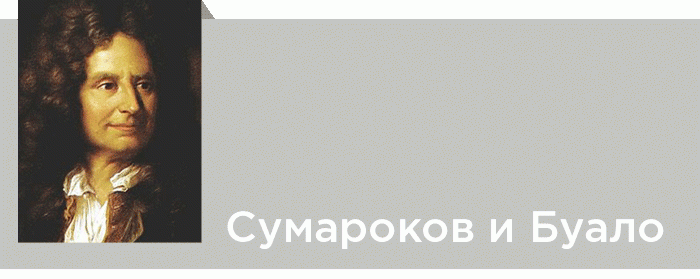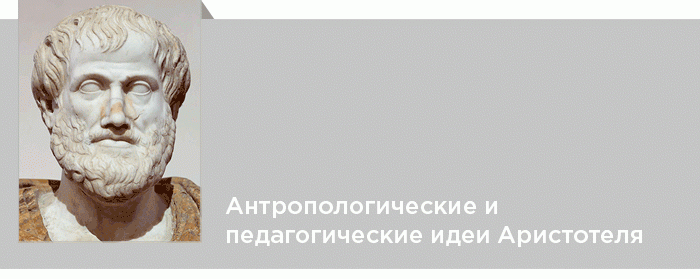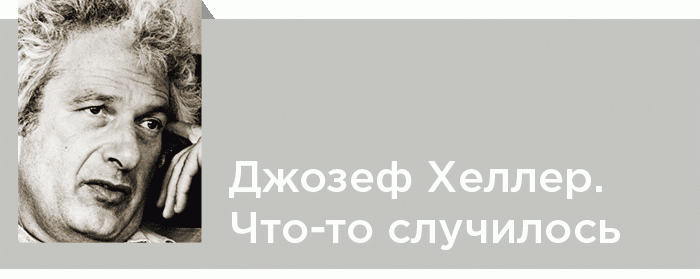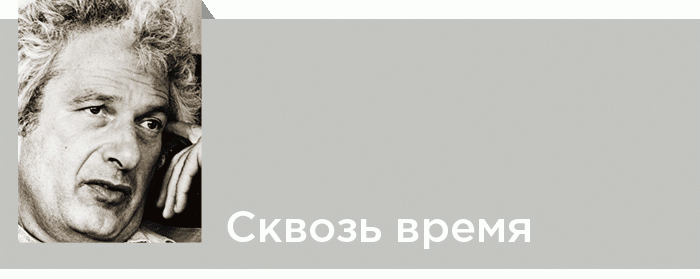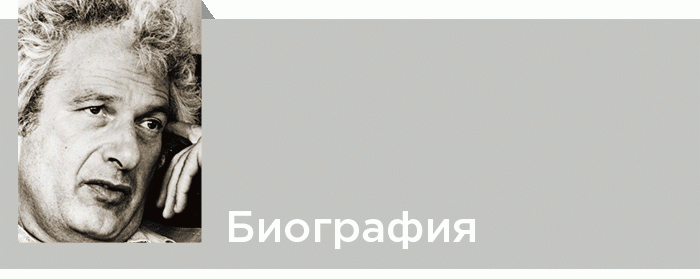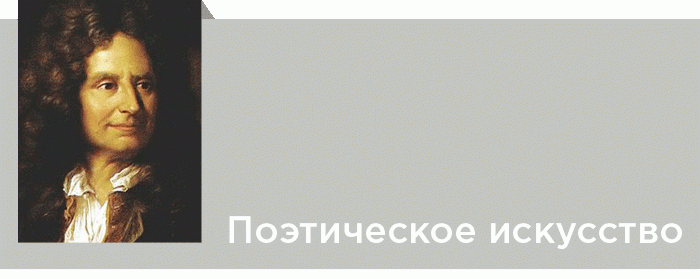Джозеф Хеллер. Лавочка закрывается
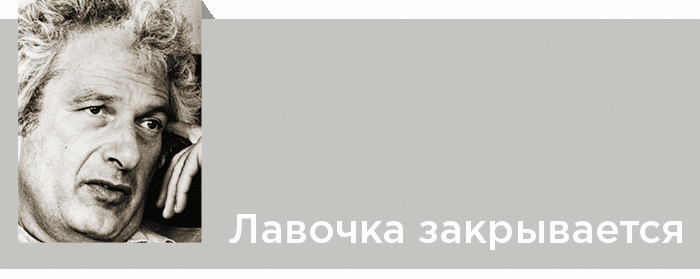
(Отрывок)
КНИГА ПЕРВАЯ
1
СЭММИ
Когда люди нашего возраста говорят о войне, они говорят не о Вьетнамской, а о той, что разразилась более полувека назад и охватила почти весь мир. Она бушевала более двух лет, прежде чем мы вступили в нее. Говорят, что к тому времени, когда мы высадились в Нормандии, погибло более двадцати миллионов русских. Волна уже покатилась назад от Сталинграда и битва за Британию была выиграна, когда мы вступили в Европу. Но до того, как все было кончено, из строя выбыло около одного миллиона, а триста тысяч американцев было убито. Только в Перл-Харборе в тот позорный для нас день полстолетия назад погибло две тысячи триста человек, а ранено было больше двух тысяч пятисот; за тот единственный день наши военные потери превысили все остальные, понесенные нами в тяжелейшей и затянувшейся войне на Тихом океане, превысили наши потери в день высадки во Франции.
Не удивительно, что в конце концов мы все же вступили в войну.
Слава Богу, что у нас есть атомная бомба, радовался я вместе со всем остальным цивилизованным западным миром почти полвека назад, читая возвещавшие о ее взрыве газетные заголовки во всю страницу. К тому времени я уже успел вернуться целым и невредимым и демобилизоваться, а как ветеран войны я был гораздо обеспеченнее, чем раньше. Я мог поступить в колледж. И поступил, и даже два года преподавал в Пенсильвании, а потом вернулся в Нью-Йорк и спустя какое-то время устроился в рекламный отдел журнала «Тайм» составителем рекламных текстов.
Пройдет еще всего лет двадцать, уж никак не больше, и газеты по всей стране будут печатать фотографии старейших местных ветеранов той войны, принимающих участие в немноголюдных парадах на праздник победы. Эти парады уже стали редкостью. Я в них никогда не участвовал. Думаю, мой отец тоже. Давным-давно, когда я был еще мальчишкой, сумасшедший Генри Марковиц, принадлежавший к поколению моего отца и работавший привратником в доме на другой стороне улицы, в День перемирия и День поминовения извлекал свою военную форму времен предыдущей великой мировой, облачался в нее вплоть до драных обмоток и целый день гордо расхаживал по тротуару туда и обратно от троллейбусной линии к Нортонс-Пойнт на Рейлроуд-авеню до кондитерского магазина и киоска с газированной водой на углу Серф-авеню, что ближе к океану. Красуясь, старик Марковиц — как и моему отцу в те годы, старику Генри Марковицу было чуть больше сорока — до хрипоты выкрикивал команды усталым женщинам, тащившим на распухших ногах в свои маленькие квартирки пакеты с продуктами от мясника или бакалейщика; они не обращали на Марковица ни малейшего внимания. Две его маленькие дочери — младшая моего возраста, а другая на год-полтора старше — смущались и тоже не замечали его. Говорили, что он был контужен при разрыве снаряда, но я не думаю, что это было правдой. Я думаю, мы даже не понимали, что такое «контужен».
В те времена в наших трех-четырехэтажных кирпичных домах не было лифтов, и для пожилых и стариков карабкаться по ступеням, возвращаясь домой, вероятно, было пыткой. В подвалах хранился уголь; его привозили на грузовиках и сгружали на металлические желоба, по которым он под воздействием силы тяжести с грохотом падал вниз; в домах были котельные и бойлеры, а еще — привратники, жившие либо здесь же, либо в другом месте; мы больше из страха, чем из почтения, всегда уважительно называли их по фамилии, добавляя к ней слово «мистер», потому что они представляли интересы домовладельца, которого все мы в те времена — а некоторые из нас и сейчас — всегда побаивались. Всего лишь в миле от нас располагался легендарный кони-айлендский район отдыха с его сотнями тысяч цветных лампочек и играми, скачками и ларьками со всякой снедью. Большим и знаменитым местом развлечений был в те времена Луна-парк, а заодно с ним и Стиплчез-парк («„Стиплчез“ — лучшее из мест»), принадлежавший некоему мистеру Джорджу К. Тилью, человеку давно умершему, о котором все мы мало что знали. На всех заборах «Стиплчеза» красовалась незабываемая торговая марка — броская, безвкусная картинка и стиле комикса, на которой была изображена карикатурная, розовая, плоская, ухмыляющаяся и немного ненормальная физиономия какого-то типа; сатанинский смех душил его, а его невероятных — подчас чуть ли не с городской квартал — размеров рот, неумело изображенный без какой-либо перспективы, сверкал частоколом огромных зубов. Служители были одеты в красные пиджаки и зеленые жокейские шапочки, а от многих из них пахло виски. Тилью жил когда-то на Серф-авеню в собственном доме; к крыльцу этого основательного деревянного сооружения вела дорожка, начинающаяся у самой кромки тротуара несколькими каменными ступеньками, которые, казалось, понемногу уходили под землю. К тому времени, когда я подрос и самостоятельно ходил в библиотеку, на станцию метро или на дневной субботний киносеанс, буквы его фамилии, выбитые в цементе нижней ступеньки, покосились и больше чем наполовину ушли в землю. В нашем квартале монтаж мазутных котельных с прокладкой труб в отрытые траншеи и установкой емкостей для топлива неизменно считался большим событием, символом прогресса.
Пройдет еще двадцать лет, и на газетных фотографиях и в телевизионных клипах все мы станем выглядеть хуже некуда, странный будет у нас вид, словно у пришельцев каких-то — дряхлые старики, трясущиеся, облысевшие, вероятно, кажущиеся немного ненормальными, усохшие, с беззубыми улыбками в провалившихся, сморщенных ртах. Некоторые из тех, кого я знаю, уже при смерти, а другие, которых я знал, уже мертвы. Теперь мы уже не так красивы. Мы носим очки, у нас начинаются трудности со слухом, иногда мы слишком многословны, повторяемся, у нас появляются всевозможные наросты, даже самые слабые царапинки долго не заживают и оставляют после себя неизгладимые следы.
А вскоре после этого никого из нас вообще не останется.
Только записки и сувениры для других и образы, которые время от времени будут возникать перед ними. В один прекрасный день кто-нибудь из моих детей (я законным образом усыновил их, конечно, с их согласия) или подросших внуков найдет нагрудные крылышки стрелка-пулеметчика или медаль ВВС, мои сержантские погоны или этот мой снимок в юности — малютка Сэмми Зингер, первый грамотей Кони-Айленда в своей возрастной группе и всегда среди лучших по арифметике, алгебре и геометрии, в меховом зимнем летном костюме с парашютными лямками, заброшенный почти пятьдесят лет назад за океан на остров Пьяноса к западу от итальянского побережья. Мы сидим рядом с самолетом и улыбаемся в камеру, занимается утро, а сидим мы на низеньком штабеле тысячефунтовых бомб без взрывателей и ждем сигнала к вылету на очередное задание, с нами наш тогдашний бомбардир, помню его — капитан, смотрит на нас с заднего плана. Это был раздражительный, вспыльчивый армянин, нередко нагонявший на нас страху; он не смог освоить штурманское дело на ускоренных курсах, куда попал неожиданно для себя во время оперативной подготовки на базе ВВС в Колумбии, штат Южная Каролина, где нас соединили в группу как временный экипаж для подготовки к воздушным боям и перелету через океан на театр военных действий. Пилотом был рассудительный техасец по фамилии Эпплби, человек очень методичный и добрый, благослови его Господь, и эти двое сразу же не сошлись. Я сочувствовал Йоссаряну, который отличался чувством юмора и находчивостью; он был немного бешеный, но, как и я, вырос в большом городе и скорее умер бы, чем дал себя убить, так он полушутя сказал однажды уже ближе к концу и решил для себя, что будет жить вечно или по крайней мере будет бороться за жизнь до последнего издыхания. Под этим и я мог бы подписаться. От него я научился говорить «нет». Когда мне предложили еще одну нашивку и еще одну пряжку к моей медали ВВС, если я соглашусь еще на десять заданий, я отказался, и меня отправили домой. Я не совался в его разногласия с Эпплби, потому что был робок, мал ростом, к тому же я был рядовым и евреем. Я тогда взял себе за правило — прежде как-то утвердиться и освоиться с новыми людьми, а потом уже откровенничать с ними, хотя, по крайней мере в принципе, пусть и не всегда с желаемой уверенностью, я считал себя равным всем другим, и офицерам тоже, даже этому здоровенному прямодушному армянину, который не уставал повторять свою странную шутку, говоря, что на самом деле он — ассириец и уже практически вымер. Я видел, что среди них я самый начитанный и грамотный и, конечно, достаточно сообразительный, чтобы не заострять внимания на этих вещах.
Йоссарян неизбежно терялся на каждом из ночных заданий, на которые мы летали во время оперативных учебных полетов над Южной Каролиной и Джорджией. Это стало анекдотом. В казармах и столовой от солдат из других экипажей я узнал, что и их бомбардиры, которых перевели в штурманы, тоже все как один терялись во время своих ночных учебных полетов, и это тоже стало анекдотом. Третьим офицером в нашем экипаже тогда был застенчивый второй пилот по фамилии Крафт, которого уже за океаном произвели в первые пилоты, а потом его сбила зенитка, когда он, выполняя задание над Феррарой в северной Италии, пошел на второй заход на мост и его убили. Йоссарян, бомбардир ведущего самолета, не сумевший отбомбиться с первого захода, получил за это медаль, потому что когда он увидел, что все другие промахнулись и мост стоит целехонек, он пошел на второй заход. Во время тех учебных полетов в Южной Каролине Эпплби благополучно находил дорогу домой по радиокомпасу. В один из полетов темной ночью мы потерялись и больше часа у нас не было радиокомпаса. В воздухе носились какие-то электрические помехи от грозы, бушевавшей поблизости, и я по сегодняшний день слышу голос Йоссаряна в наушниках: «Вижу внизу берег реки. Поверни налево и пересеки ее, я сориентируюсь по какому-нибудь объекту на той стороне».
Берегом этой реки оказалось побережье Атлантического океана, и мы направились прямо в Африку. Эпплби в который раз потерял терпение, по прошествии еще получаса взял на себя обязанности штурмана, а когда, наконец, разобрался в радиосигналах и привел самолет домой, топлива оставалось ровно на столько, чтобы мы с посадочной полосы добрались до места нашей стоянки. Двигатели заглохли, прежде чем их выключили.
Мы все чуть-чуть не отправились на тот свет.
До меня это дошло, только когда я достиг среднего возраста, и впоследствии, рассказывая этот анекдот, я совсем не смеялся.
На этой фотографии со мной и мой дружок, Билл Найт, тогдашний башенный стрелок, он был года на два старше меня и уже женат, у него был ребенок, которого он и видел-то всего неделю; а еще на фото — тощий парнишка моего возраста, Ховард Сноуден, фюзеляжный стрелок и радист, родом откуда-то из Алабамы, его убьют во время выполнения задания на пути в Авиньон примерно через месяц, и он будет медленно умирать, крича от боли и жалуясь, что ему холодно. Нам по двадцать лет, и мы выглядим как дети, которым всего по двадцать лет. Хови был первым мертвецом, которого я видел, и единственным мертвецом из всех, каких я видел с тех пор за стенами траурного зала. Моя жена умерла ночью, и ее уже увезли из палаты, когда я приехал в больницу, чтобы подписать бумаги и заняться подготовкой к похоронам. Она умерла точно так, как говорил онколог, почти день в день. Ее тошнило, но особых болей не было, и нам хочется думать, что она была избавлена от этих болей, потому что она всегда была таким хорошим человеком, по крайней мере по отношению ко мне и детям, обычно веселая и с добрым сердцем. А если и сердилась, то только на своего первого мужа, да и то лишь изредка, в особенности потому, что у него часто не хватало денег на детей, но находилось на новых подружек и нашлось еще на две женитьбы. Лю сразу же после войны сказал, что мне повезло с мертвецами; Лю был моим дружком с самого детства, он воевал в пехоте, попал в плен и, прежде чем его доставили домой, повидал сотни мертвецов в Европе, американцев и немцев, и десятки гражданских немцев в Дрездене, когда его послали разбирать завалы после британской бомбежки, о которой я впервые узнал от него, воздушного налета, от которого погибли почти все в городе, кроме этих пленных и их охранников; я тогда ничего об этом не знал и даже не сразу поверил.
— Больше ста тысяч? Лю, ты, наверно, спятил. Это больше, чем Хиросима и атомная бомба.
Я потом нашел об этом в книгах и признал, что он был прав.
Но это было почти пятьдесят лет назад. Не удивительно, что наше потомство не особо интересуется Второй мировой. Из них тогда еще почти никто и не родился. А если бы родился, то сейчас ему было бы под пятьдесят.
Но может быть, когда-нибудь в далеком будущем, в которое я и заглядывать-то боюсь, кто-нибудь из детей или внуков наткнется на эту коробочку или ящичек, в котором лежат мои крылышки, медаль ВВС, сержантские нашивки и фотография военных времен, и, возможно, что натолкнет его на мучительные раздумья о некоторых семейных недоразумениях, которые когда-то возникли между нами, или которые не возникли, но должны бы были возникнуть. Как это случилось со мной и противогазом, привезенным моим отцом с Первой мировой войны.
Интересно, что с ним стало. Когда я был маленьким, я любил играть с этим противогазом как с игрушкой, и потихоньку занимался этим, пока отец был на работе и городе, где вырезал по выкройке материал для детской одежды. У меня есть и его солдатская фотография. После того как я еще в начальной школе прочел биографию немецкого аса времен Первой мировой войны барона Манфреда фон Рихтхофена, я какое-то время хотел выучиться на военного летчика и каждый день вылетать на воздушную дуэль с ним над окопами во Франции и каждый день заново сбивать его. Он был моим героем, и я мечтал сбивать его. Вскоре после войны, моей войны, умер мой отец, врачи сказали — от рака. Он любил курить сигары. Он покупал их в маленькой лавочке по соседству, за углом на Серф-авеню, где с довольной улыбкой мистер Левинсон сидел за своим рабочим столиком с ножом и табачными листьями, которые размечал и свертывал вручную, а миссис Левинсон, невозмутимая веснушчатая карлица с темными волосами, продавала купальные шапочки, затычки для ушей, дыхательные трубки для плавания, а также ведерки, лопатки и всякие другие пустячки для игры в песок на пляже, который находился всего лишь в квартале от их лавки. Они были бездетны.
Все работали. Мальчишкой я какое-то время гонял по улицам и пляжным барам, продавая газеты. Летом наши сестры продавали с лотков на улицах замороженный крем, шипучку. Дейви Голдсмит торговал хот-догами. На берегу не имеющие лицензии мальчишки, торгующие вразнос, вели, как спартанцы, свое сражение в парах сухого льда, поднимающегося из громоздких коробок в их загорелых руках; они пытались за никель сбыть мороженое в брикетах и разовых бумажных стаканчиках, прежде чем их схватят полицейские, преследовавшие их по рыхлому песку на глазах сочувствующих в пляжных костюмах, которые всем сердцем желали беглецам удачи. Многие из этих быстроногих старших парней, занимавшихся таким опасным делом, были мне знакомы.
Из нашей квартиры мы всегда слышали шум океанского прибоя и звук колокола с буя (мы называли его «бой», и мне до сих пор кажется, что так правильнее). Если же вдруг изредка наступало полное затишье, то во второй половине дня или уже ближе к ночи мы даже могли слышать отдаленные, неясные, призрачные звуки, доносившиеся с ближайшей к нам, находящейся от нас почти в полумиле, карусели, где играла диковинная каллиопа; сама эта громадная карусель располагалась на дощатом настиле, а на поворотном круге красовались кони цвета золотых карамелек с мазками ярко-черного и броскими оттенками синего и розового, напоминавшими цвета других сладостей, как, например, мармелада, лакричных конфет и леденцов; откуда взялись эти великолепные стремительные кони? существовала ли где-то корпорация, которая изготовляла их специально для каруселей? приносил ли этот бизнес хороший доход? Никто вокруг не был богат.
2
ГАДЕНЫШ
Новый президент законным образом вступал в должность, сменяя своего предшественника и испытывая при этом раздражение, вызванное душевной усталостью, происходящей от необходимости непрерывно объяснять, почему же он в конце концов в качестве вице-президента выбрал того, кого он выбрал.
— Ну, почему ты взял его? — Ближайший друг президента, государственный секретарь, считал своим долгом повторять этот вопрос. — Ну, скажи хотя бы мне. Я сохраню это в тайне.
— Да нет тут никакой тайны, — со слезами в голосе отбивался верховный руководитель страны. — В этом не было ничего закулисного, никакого политиканства. Просто я пораскинул мозгами. Даю тебе слово, в этом не было никаких преступных намерений.
— Вот именно это и пугает больше всего.
3
МИСТЕР ЙОССАРЯН
В середине второй недели пребывания в больнице Йоссаряну приснилась мать, и он еще больше уверился, что скоро умрет. Когда он сообщил эту новость докторам, они расстроились.
— Мы не находим у вас никаких заболеваний, — сказали ему они.
— Продолжайте поиски, — проинструктировал он их.
— Вы в прекрасной форме.
— А вы подождите, — посоветовал он.
Йоссарян снова лег в больницу под врачебное наблюдение; он вернулся туда еще раз, спасаясь от невротической лавины противоречивых симптомов, которые стали особенно множиться, когда он снова, всего второй раз за всю жизнь, остался один, но которые, казалось, исчезали один за другим, как туман, когда он рассказывал о них или когда его обследовали на предмет этих самых симптомов. Всего за несколько месяцев до этого он вылечил себя от неизлечимой болезни под названием радикулит только лишь тем, что позвонил одному из своих докторов, чтобы пожаловаться на свой неизлечимый случай радикулита. Он не мог привыкнуть к жизни в одиночестве. Он не умел постелить себе постель. Он предпочел бы голодать, чем готовить себе еду.
На этот раз он стремглав бросился в больницу, испуганный кошмарным видением другого кошмарного видения, посетившего его вскоре после того, как он услышал, что президент, который ему не нравился, собирается уйти на покой и что вице-президент, который не нравился ему еще больше, непременно займет президентское кресло; и вскоре после того, как он совершенно случайно узнал, что Милоу Миндербиндер, с которым он тоже был теперь нерасторжимо и неразрывно связан, — вот уже лет двадцать пять, — расширяется и, помимо проталкивания имеющегося у него в избытке несвежего товара, вроде старого шоколада и лежалого египетского хлопка, собирается заняться военным бизнесом — наладить производство нового боевого самолета, который намеревается продавать правительству, — конечно, любому правительству, которое сможет его купить.
В Европе были страны, которые могли себе позволить такие расходы, а еще в Азии и на Ближнем Востоке.
Видение кошмарного видения, посетившего его, было видением паралича или удара, снова погрузившим его в размышления о стойком, старом Густаве Ашенбахе, пребывавшем в одиночестве на своей мифической полоске средиземноморского побережья, и об обессмертившей его смерти в Венеции, о пятидесятилетнем Густаве Ашенбахе, чья жизнь догорела в городе, пораженном чумой, о которой никто не хотел говорить. Давным-давно в Неаполе, стоя в колонне и ожидая посадки на корабль, который должен был отвезти его домой, после того как он отлетал свои семьдесят заданий и остался живым, он обнаружил перед собой пожилого солдата по имени Швейк и человека, который сменил свою семейную фамилию Краутхаймер на Джозеф Кэй, чтобы не казаться чужаком в своей культуре, но это имя, как и имя Швейка, ничего тогда не говорило Йоссаряну.
Будь у Йоссаряна выбор, он все еще предпочел бы жить. Он не ел яиц и, хотя у него и не было головных болей, через день глотал слабенькую дозу аспирина.
Он не сомневался в том, что у него есть масса поводов для беспокойства. Родители его умерли, а также все дяди и тети.
Гаденыш в Белом Доме? Это будет уже не в первый раз. Потерпел крушение еще один нефтяной танкер. Радиация пронизывала все. Мусор. Пестициды, токсичные отходы и свободное предпринимательство. Появились противники абортов, требовавшие смертной казни для всех, кто выступает против жизни. В правительстве сидели посредственности и корыстолюбцы. В Израиле было неспокойно. Все это были не просто иллюзии. Он их не сам выдумывал. Скоро начнут выращивать человеческие эмбрионы для продажи, развлечения и замены органов. Люди зарабатывали миллионы, не производя при этом ничего, кроме передачи собственности. Холодная война закончилась, но мир на земле так и не наступил. Ничто не имело смысла, и все остальное тоже было бессмысленно. Люди делали что-то, не зная зачем, а потом уже пытались выяснить.
Когда Йоссаряну становилось скучно в его больничной палате, он играл этими возвышенными мыслями, как играет своими гениталиями грезящий наяву подросток.
Не реже одного раза каждое утро они толпой собирались вокруг него — его доктор, Леон Шумахер, со своей бодрой и серьезной свитой многообещающих молодых врачей, которых сопровождала энергичная, привлекательная дежурная сестра по этажу с хорошеньким личиком и великолепной попкой; она откровенно, несмотря на его годы, тянулась к Йоссаряну, а он, несмотря на ее молодость, коварно способствовал тому, чтобы ее симпатия к нему усиливалась. Высокая, с волнующими бедрами, она помнила Перл Бейли, но не Перл-Харбор, из чего следовало, что ей где-то между тридцатью пятью и шестьюдесятью, а по мнению Йоссаряна, это был лучший период в жизни женщины, при условии, конечно, что она сохранила здоровье. У Йоссаряна было довольно туманное представление о том, что она представляет собой на самом деле, и тем не менее он беззастенчиво пользовался каждой возможностью, чтобы как можно приятнее провести с нею время в течение тех нескольких спокойных недель, которые намеревался оставаться в больнице, отдыхая и собираясь с мыслями, пока великие мировые державы не установят на земле раз и навсегда новое равновесие сил и новый порядок.
Он взял с собой в больницу радиоприемник, и в его палате почти все время звучал Бах или очень хорошая камерная, фортепьянная, а то и хоровая музыка, передаваемая той или иной станцией. Слушать оперы, в особенности Вагнера, он сейчас не мог, потому что потрясений ему и так хватало. На сей раз, с удовлетворением решил он, палата ему досталась хорошая, соседи были вполне приемлемыми, а их болезни не оскорбляли чувств; к тому же на этаже была привлекательная дежурная сестра, отвечавшая на его заигрывания скромным хихиканьем и показным высокомерием и в то же время явно гордившаяся своей великолепной попкой.
Йоссарян не видел никаких причин не соглашаться с этим.
К середине первой недели он вовсю начал флиртовать с нею. Доктор Леон Шумахер не всегда одобрял эти непристойные фривольности.
— Зря я вас сюда положил. Нам обоим должно быть стыдно: вы, совершенно здоровый человек…
— Это кто говорит, что я здоровый?
— …лежите в этой палате, а по улицам бродит столько больных.
— Вы возьмете сюда одного из них, если я уйду?
— А вы оплатите счет?
Йоссарян предпочел оставить все, как есть.
Крупный специалист по ангиографии, здоровенный, высокий мужчина, холодно сообщил Йоссаряну, что ангиографического обследования ему не требуется, невропатолог с таким же угрюмым видом проинформировал его, что с мозгами у него все в порядке. Леон Шумахер снова с гордостью предъявлял его своим ученикам как редкий образец, с какими они не часто будут встречаться в своей медицинской практике: мужчина шестидесяти восьми лет без всяких симптомов каких-либо заболеваний, даже ипохондрии.
В конце дня, а иногда в начале вечера Леон заглядывал к нему немного поболтать; монотонно жалуясь на бесконечный рабочий день, мерзкие условия и несправедливо низкие заработки, он самым бестактным и эгоистичным образом изливал свою душу человеку, который, как они оба прекрасно знали, должен был скоро умереть.
Деликатностью он не отличался.
Его медицинскую сестру звали Мелисса Макинтош; умудренному жизнью и предрасположенному к романтическому мировосприятию мужчине все хорошенькие женщины кажутся неправдоподобно прекрасными, и Мелисса в этом смысле не была исключением.
К началу второй недели она, стоя или сидя рядом с его кроватью или стулом, уже позволяла ему ласкать кончиками пальцев кружевную каемку своей комбинации, когда заглядывала поболтать с ним и ответить на его ухаживания, позволяя ему заходить в них все дальше и дальше. Раскрасневшись от неловкости и оживившись от озорства, она не поощряла и не запрещала этих игр изящной частью своего нижнего белья, но чувствовала себя не в своей тарелке. Она опасалась, что кто-нибудь застанет их в момент этой недопустимой близости. Он молился Богу о том, чтобы кто-нибудь застал их в такой момент. Он скрывал от сестры Макинтош слабые симптомы начинавшейся у него эрекции. Он не хотел, чтобы у нее возникла мысль о серьезности его намерений. Она согласилась с ним, когда он сказал, что ей повезло с таким пациентом. Он доставлял ей беспокойств меньше, чем другие пациенты в отдельных и полуотдельных палатах на этом этаже. И он видел, что был для нее большей загадкой, — а потому, сделал он вывод, до которого, вероятно, не додумалась она, и большим соблазном, — чем все те немногие мужчины, с которыми она встречалась за стенами больницы, и даже чем тот один или те двое мужчин, с которыми она встречалась особым или почти особым образом в течение ряда лет. Она никогда не была замужем, ни дважды, ни даже единожды. Йоссарян так мало отягощал ее, что совсем не был ей в тягость; ей и другим сестрам с этого этажа всего-то и нужно было раз в смену заглянуть в его палату, чтобы убедиться, что он не умер и ему не требуется никакой помощи для того, чтобы жить дальше.
— Все в порядке? — спрашивала каждая из них.
— Все, кроме здоровья, — вздыхал он в ответ.
— Здоровье у вас прекрасное.
В этом-то и было главное несчастье, и он с несчастным видом объяснял: это означало, что его здоровье неизбежно должно расстроиться.
— Это не шутка, — шутил он, когда они смеялись, услышав его объяснения.
На следующий день после того, как он, движимый эстетическими мотивами, попросил ее об этом, она сменила комбинацию на черную. Часто, желая ее появления, он обнаруживал в себе жгучую потребность в том, чтобы испытывать какую-нибудь потребность. Когда он нажимал кнопку вызова сестры, вполне могла появиться другая сестра.
— Пришлите мне мою Мелиссу, — требовал он.
Другие сестры охотно приходили к нему на помощь. Он не испытывал недостатка в сестринском уходе. Доктора не уставали ежедневно повторять, что он абсолютно здоров, и он в мрачном разочаровании, чувствуя себя обманутым, приходил к выводу, что на сей раз они, кажется, правы.
У него был хороший аппетит и нормальное пищеварение. Его слуховой нерв и спинно-мозговой аппарат были просканированы с помощью компьютера. Его носовые пазухи были чисты, а поиски каких-либо симптомов артрита, бурсита, ангины или неврита не дали результата. Даже насморка у него не было. Его кровяному давлению завидовали все обследовавшие его доктора. Он давал мочу, и они брали ее. Холестерин у него был низким, гемоглобин — высоким, его РОЭ была выше всяких похвал, а содержание азота в крови приближаюсь к идеалу. Они объявили его совершенным человеческим существом. Он подумал, что у первой его жены и его второй, с которой он расстался год назад, вероятно, нашлись бы на этот счет кой-какие возражения.
В больнице был светило-кардиолог, который не нашел у него никаких отклонений, для его патологий был патолог, который не обнаружил никаких поводов для беспокойства, был еще и предприимчивый гастроэнтеролог, который вернулся в его палату еще раз, чтобы уточнить мнение Йоссаряна о наиболее перспективной стратегии инвестирования применительно к недвижимости в Аризоне, а для его психики был психоаналитик, которого Йоссарян рассматривал как свою последнюю возможность доверительного разговора.
— А как насчет этих периодических периодов анемии, усталости, депрессии и отсутствия интереса к жизни? — торопливым, срывающимся шепотом начал Йоссарян. — Меня перестают интересовать вещи, к которым другие относятся серьезно. Я устаю от информации, которой не могу воспользоваться. Мне хочется, чтобы ежедневные газеты были поменьше и выходили раз в неделю. Меня больше не волнует все то, что происходит в мире. Комики не вызывают у меня смеха, а длинные рассказы приводят в бешенство. Дело во мне или в моем возрасте? Или может быть наша планета сходит с ума? Телевизионные новости полны идиотизма. Все и повсюду несут вздор. Мои восторги ослабли. Я и правда чувствую себя таким здоровым или мне это только представляется? У меня не выпало ни одного волоса. Док, я должен знать правду. Моя депрессия — это чисто ментальное явление?
— Это не депрессия, и вы не ослабли.
Психоаналитик должным образом посовещался с главой психиатрического отделения, а тот проконсультировался со всеми другими врачами, и они в один голос решили, что в его прекрасном физическом состоянии нет никаких психосоматических отклонений и к тому же что волосы у него на голове настоящие.
— И тем не менее, — добавил, откашлявшись, глава психиатрического отделения, — я обязан вам сообщить, что у вас все симптомы предрасположенности к старческим депрессиям.
— К старческим депрессиям? — Йоссарян с удовольствием произнес этот термин. — И когда же это приблизительно может произойти?
— Приблизительно теперь. Есть что-нибудь, что вам по-настоящему нравится делать?
— Кое-что, не очень многое, к сожалению. Я бегаю за женщинами, хотя и не очень быстро. Я зарабатываю денег больше, чем мне надо.
— Вам это нравится?
— Нет. Я лишен честолюбия, и осталось не так уж много вещей, которые мне хочется делать.
— Гольф, бридж, теннис? Коллекционирование предметов искусства или антиквариата?
— Об этом не может быть и речи.
— Мой прогноз неблагоприятен.
— Я это всегда знал.
— Как мы сейчас представляем себе ваш случай, мистер Йоссарян, — сказал главный врач, говоря от имени всего заведения; лысая на три четверти голова Леона Шумахера нависала над его плечом, — вы можете жить вечно.
Казалось, ему не о чем беспокоиться, кроме инфляции и дефляции, более высоких процентных ставок и более низких процентных ставок, дефицита бюджета, угрозы войны и опасностей мира, неблагоприятного торгового баланса, нового президента и старого капеллана, а также усиления доллара и ослабления доллара, наряду с трением, энтропией, радиацией и гравитацией.
Но он беспокоился и о своей новой подружке, медицинской сестре Мелиссе Макинтош, потому что она не сумела накопить денег. У ее родителей денег тоже не было, и если она проживет достаточно долго, то ей придется жить на социальное обеспечение и жалкую пенсию, которую ей будет выплачивать больница, при условии, что она проработает здесь следующие двадцать или триста лет, а такая жизнь представлялась невозможной, если только до этого она не выйдет замуж за какого-нибудь приятного мужчину с достатком, который будет для нее не менее привлекателен, чем теперь Йоссарян, что тоже представлялось ему абсолютно невозможным. Очень немногие могли так мило говорить ей непристойности. Не раз с болью в сердце поглядывал он на нее: она была слишком чиста для этого бездушного вихря финансовых обстоятельств, слишком невинна, нерасчетлива и бескорыстна.
— Вот что вам совершенно необходимо сделать, — сказал он ей как-то после того, как она попросила у него совета: следует ли ей и ее подружке, с которой они на пару снимали квартиру, открыть индивидуальные пенсионные счета, а Йоссарян посоветовал ответить, что в перспективе не видит ни малейшей пользы от индивидуальных пенсионных счетов ни для кого, кроме этих сраных банков, которые за них агитируют. — Вам необходимо выйти замуж за кого-нибудь, вроде меня, за мужчину, у которого есть кой-какие деньги и который разбирается в страховых полисах и наследствах и был до этого женат только один раз.
— Неужели вы были бы для меня слишком стары? — с испугом спросила она.
— Это вы были бы для меня слишком молоды. Сделайте это поскорее, сделаете это сегодня. Для этого может сгодиться даже какой-нибудь доктор. Вы и оглянуться не успеете, как станете такой же старой, как я, и у вас не будет ни гроша.
Его беспокоила и эта безрассудная сентиментальность, заставлявшая его простирать свои заботы на человека, который в них нуждался.
Это было не по-американски.
Меньше всего нужен был ему еще один иждивенец. Или два, потому что она с гордостью говорила о своей привлекательной, веселой подружке, делившей с ней крохотную квартирку; звали ее Анджела Мор, она была естественной — и более роскошной, чем Мелисса, — блондинкой из Австралии, выше ее и раскованнее и с большей грудью, она носила туфли на гвоздиках и пользовалась бледной помадой и бледными тенями, а работала торговым представителем фирмы, специализирующейся на изготовлении галантерейных новинок; новые изделия, выпуск которых она предлагала освоить, были столь непристойны, что два пожилых, семейных еврея, владевших фирмой на правах партнерства, только теряли дар речи, впадали в недоумение и краснели. Ей нравилось производить впечатление, появляясь в дорогих барах, куда она нередко захаживала после работы для встреч с бесшабашными бизнесменами, которых она после застолья и танцев безжалостно отвергала у дверей своего дома, когда ее вечер заканчивался. Ей почти не удавалось встретить кого-нибудь, кто понравился бы ей настолько, чтобы она пожелала остаться с ним подольше, потому что она почти никогда не позволяла себе напиться допьяна. Номер телефона, который она давала как свой, был номером телефона городского морга. Рассказ Мелиссы Макинтош о самонадеянных и буйных выходках ее подружки был полон такого радостного одобрения, что Йоссарян знал — он влюбится в эту женщину с первого взгляда, при условии, что она никогда не попадется ему на глаза, и будет горячо любить ее до того момента, как увидит во второй раз. Но у высокой блондинки под сорок в бледной косметике и черных чулках с рисунком в змейку тоже не было богатых родителей или отложенных денег, и Йоссарян задавал себе вопрос:
«Да что в конце концов такое с этим сраным миром?»
По его разумению, у всех, к кому он не испытывал антипатии, должно было быть достаточно денег, чтобы они могли без страха смотреть в будущее, и он вешал голову в благородных грезах сострадания и желал заключить эту необыкновенную полногрудую бродяжку в свои объятия, осушить ее слезы, унять все ее тревоги и, поглаживая ее ягодицы, расстегнуть молнию на платье.
Интересно, как понравилась бы эта картинка частным детективам, которые выслеживали его в последнее время? Первый частный сыщик выследил его до самой больницы, заявившись туда в часы для посетителей, и был немедленно поражен серьезной стафилококковой инфекцией, которая свалила его в постель в другом крыле этой же больницы вместе с тремя бывшими посетителями других пациентов, также пораженными серьезной стафилококковой инфекцией, а эти посетители, насколько о том мог догадываться Йоссарян, также вполне могли быть частными детективами. Йоссарян всем им четверым мог бы сообщить, что больница — опасное место. Люди здесь умирали. Лег сюда один бельгиец, а ему разрезали горло. Частного детектива, отправленного на замену первого, подкосила сальмонелла из сэндвича с яичным салатом, который он съел в больничном кафетерии; теперь он тоже был прикован к постели и выздоравливал медленно. Йоссарян подумывал — не послать ли им цветы. Вместо этого он написал «Альберт Т. Таппман» на открытках с пожеланиями выздоровления и послал их каждому. Так звали капеллана из их группы бомбардировочной авиации, и Йоссарян добавил и это звание и принялся размышлять о том, что будут думать получатели этих открыток; еще он думал о том, куда увезли капеллана, запугивают ли его, как с ним обращаются, не мучают ли его голодом, не пытают ли. На следующий день он послал обоим частным детективам новые открытки с пожеланиями выздоровления, подписав их именем «Вашингтон Ирвинг». А еще через день отправил еще пару открыток, подписав их «Ирвинг Вашингтон».
За вторым частным детективом прибыли еще два, которые делали вид, что не знают друг друга, а один из них, приглядывая за Йоссаряном, испытывал, казалось, необъяснимое любопытство относительно всех остальных.
Он не мог понять, что они хотят узнать о нем такого, о чем он не пожелал бы сказать им напрямую. Если им нужен был адюльтер, он был готов предоставить им адюльтер, и его начало так беспокоить доброе сердце и ненадежное финансовое будущее Мелиссы Макинтош, что он стал волноваться и о собственном будущем и решил снова потребовать к себе онколога, чтобы тот дал ему стопроцентные гарантии от этого главного убийцы и, может быть, порассуждал еще немного о ведущей роли биологии в поведении человека и тирании генов в управлении обществом и историей.
— Вы сошли с ума, — сказал Леон.
— Тогда пришлите ко мне и психиатра.
— У вас нет рака. Зачем вам нужен онколог?
— Чтобы сделать для него доброе дело, умник вы мой. Вы что, не верите в добрые дела? От этого сукина сына так и веет угрюмостью. Как вы думаете, сколько он встречает за неделю пациентов, которым может сообщить хорошую новость? Несчастья этого типа относятся к тем немногим, что я могу развеять.
— Это вовсе не мои несчастья, — сказал безрадостный онколог; зловещее выражение, обосновавшееся в мелких чертах его лица, было таким же естественным, как тьма ночью и серое небо зимой. — И тем не менее, вы удивитесь, узнав, сколько людей считают, что заболели по моей вине. Даже коллеги меня не любят. Не многие хотят говорить со мной. Может быть, по этой причине я и стал таким нелюдимым. У меня мало практики общения.
— Мне нравится ваше настроение, — сказал Йоссарян, который не считал, что у него самого такой практики больше. — Вам станет легче, если вы будете знать, что рано или поздно вы, вероятно, сыграете важную роль в моей жизни?
— Лишь немного. — Его звали Деннис Тимер. — С чего вы хотите, чтобы я начал?
— С любого места, если только мне не будет больно или неудобно, — весело ответил Йоссарян.
— У вас нигде нет ни одного симптома, который мог бы предполагать необходимость более тщательного обследования.
— Зачем нам ждать каких-то симптомов? — спросил Йоссарян, сразу ставя этого профессионала на место. — Разве не может быть, что после завершения наших последних исследований где-то что-то возникло и теперь, пока мы с вами сидим здесь и самодовольно медлим, оно мужественно зреет?
Деннис Тимер с легким сердцем согласился.
— Кажется, с вами мне веселее, чем со всеми остальными моими пациентами, да?
— Я говорил об этом Леону.
— Но может быть, это потому, что на самом деле вы — вовсе не мой пациент, — сказал доктор Тимер. — То, о чем вы говорите, конечно, возможно, мистер Йоссарян. Но вероятность того, что это случится с вами, ничуть не выше вероятности того, что это случится с кем-нибудь другим.
— А мне-то какая разница, — возразил Йоссарян. — Не слишком большое утешение знать, что мы все в опасности. Леон считает, я стану чувствовать себя лучше, если буду знать, что моя ситуация не хуже, чем его. Приступим.
— Что, если мы начнем с еще одного рентгена грудной клетки?
— Ни в коем случае! — воскликнул Йоссарян с деланной тревогой. — От этого как раз все и может начаться! Вы же знаете мое отношение к рентгену и асбесту.
— И к табаку. Хотите, я вам приведу статистику, которая доставит вам удовольствие? Вы знали, что от табака каждый год умирает больше американцев, чем погибло за всю Вторую мировую войну?
— Да.
— Ну, тогда, я полагаю, мы могли бы продолжить. Хотите, я проверю молоточком ваши коленные рефлексы?
— Сколько?
— Бесплатно.
— А не могли бы мы сделать хотя бы биопсию?
— Чего?
— Чего угодно, что доступно и просто.
— Если вам это добавит уверенности.
— Я буду спать спокойнее.
— Мы можем сделать еще один соскоб с вашей веснушки или с одного из ваших родимых пятен. Или, хотите, проверим еще раз простату? Простата довольно часто встречается.
— Моя — единственная в своем роде, — возразил Йоссарян. — Другой у меня нет. Давайте лучше родинку. У Шумахера простата моего возраста. Дайте мне знать, когда у него с ней начнутся осложнения.
— Я могу сообщить вам и сейчас, — сказал любимый онколог Йоссаряна, — что мне доставит большое удовольствие известить вас, что результаты отрицательны.
— Я могу сообщить вам и сейчас, — сказал Йоссарян, — что буду счастлив услышать это.
Йоссарян желал поглубже углубиться вместе с этим мрачным человеком в мрачную природу патологий в мрачном мире профессиональных занятий онколога и в мрачную природу мироздания, в котором им обоим посчастливилось дожить до сего времени и которое с каждым днем становилось все более ненадежным — в озоновом слое появлялись дыры, человечеству не хватало места для мусора; начни сжигать мусор, начнешь загрязнять и воздух; человечеству не хватало воздуха, — но он опасался, что доктор сочтет этот разговор мрачным.
— Все это, конечно, стоит денег.
— Конечно, — сказал Йоссарян.
— Откуда у вас берутся деньги? — с нескрываемым завистливым раздражением недоумевал вслух Леон Шумахер.
— У меня теперь возраст, достаточный для «Медикеар».
— «Медикеар» не покроет и части этих расходов.
— А остальные деньги поступают благодаря имеющейся у меня превосходной медицинской программе.
— Хотел бы я иметь такую программу, — проворчал Леон.
Деньги на программу, как объяснил Йоссарян, поступали от компании, в которой он работал и где все еще числился в качестве полуотставного полуконсультанта на полуадминистративной должности; он мог оставаться там бесконечно долго, при условии, что никогда не стал бы слишком усердствовать.
— Хотел бы я иметь такую работу. Что, черт возьми, это значит? — Леон скорчил издевательскую гримасу: — Йоссарян, Джон. Занятия — полуотставной полуконсультант. Что, черт побери, будут с этим делать наши эпидемиологи?
— Это еще одна из моих профессий. Я работаю неполное время за полную плату, и никто не слушает и половины из того, что я говорю. Я бы назвал это полуотставной полуконсультант, а вы? Компания платит за все. Мы ничуть не меньше, чем «Партнерство Гарольд Стрейнджлав» и ничуть не менее любвеобильны. Мы называемся «Предпринимательство и Партнерство М и М». Я один из партнеров. Другие заняты предпринимательством. Я партнерствую, они предпринимательствуют.
— А что они делают на самом деле?
— Я думаю, все, что приносит деньги и не является бессовестно криминальным, — ответил Йоссарян.
— В этом есть хоть крупица правды?
— Понятия не имею. Они могут врать мне так же, как и всем остальным. Мы все держим в тайне друг от друга. Я это не выдумываю. Вы можете проверить. Привяжите меня к кардиографу и посмотрите, будет ли искривляться кривая, когда я буду врать.
— А она будет искривляться? — с удивлением спросил Леон.
— Не вижу причин, почему бы ей не искривляться.
— А чем вы занимаетесь в этой компании?
— Я возражаю.
— Не будьте таким обидчивым.
— Да нет же, я просто отвечаю на ваш вопрос, — дружелюбно сообщил ему Йоссарян. — Я в этой компании возражаю против дел, которые не отвечают моим этическим стандартам. Иногда я возражаю до седьмого пота. И тогда они или делают то, что решили, или не делают. Я — совесть компании, ее нравственный стержень, и это еще одна из моих обязанностей там с тех пор, как я больше двадцати лет назад заглянул туда в поисках противозаконной помощи, чтобы спасти моих детей от Вьетнамской войны. Как вам удалось спасти ваших?
— Медицинский колледж. Они, конечно, оба ушли в бизнес, как только опасность миновала. Кстати, тут ходят слухи, что вы, кажется, неплохо проводите время с одной из наших лучших медицинских сестер.
— Лучше, чем с вами и вашими коллегами.
— Она очень милая девушка и очень хорошая медицинская сестра.
— Кажется, я это заметил.
— И привлекательная.
— На это я тоже обратил внимание.
— У нас здесь есть несколько прекрасных специалистов, которые откровенно мне говорят, что не прочь залезть к ней под юбку.
— Грубо, Леон, ах, как это грубо. Вам должно быть стыдно, — с отвращением и укоризненно сказал Йоссарян. — Это наигнуснейший способ сказать, что вы все хотели бы ее оттрахать.
Леон смутился, и из временной его потери самообладания Йоссарян извлек выгоду для себя, получив у доктора табличку «Не беспокоить», которую успел повесить на дверь прежде, чем к нему явился следующий посетитель.
Услышав очень робкий стук в дверь, Йоссарян на мгновение даже подумал, что вернулся капеллан, отпущенный на свободу из тех мест, где его законным образом незаконно удерживали. У Йоссаряна больше не было ни одной идеи относительно вызволения капеллана, потому что и сам он теперь чувствовал себя почти столь же беспомощным.
Но это оказался всего лишь Майкл, младший сын, самый неудачливый из его четверых взрослых детей, когда-то бывших частью семьи. Кроме Майкла, была еще дочь, Джиллиан, работавшая судьей в суде очень низкой инстанции, Джулиан, его старший, типичный везунчик, и Адриан, который был серединка-наполовинку и вполне доволен собой, остальные же дети его не уважали, потому что он был всего лишь серединка-наполовинку. Майкл, неженатый, неустроенный, не работающий и симпатичный, заглянул узнать, что Йоссарян снова делает в больнице, и признаться, что собирается бросить юридический колледж, так как занятия там оказались ничуть не более интересными, чем в медицинском колледже, школе бизнеса, художественном колледже, высшей архитектурной школе и нескольких других высших учебных заведениях самых разных направлений, которые он, немного помучившись, бросал одно за другим вот уже столько лет, что никто и не помнил его в другом состоянии.
— Это свинство, — сокрушенно сказал Йоссарян. — Я нажимаю на кнопки, чтобы тебя принимали, а ты только и делаешь, что бросаешь.
— Я ничего не могу с собой поделать, — понурился Майкл. — Чем больше я узнаю о юриспруденции, тем больше удивляюсь тому, что она не считается противозаконной.
— По этой причине и я когда-то бросил юридический колледж. Сколько тебе сейчас?
— Около сорока.
— У тебя еще есть время.
— Я не уверен, шутишь ты или нет.
— И я тоже, — сказал ему Йоссарян. — Но если ты до самой пенсии сможешь откладывать решение о своих планах на жизнь, то тебе и не придется его принимать.
— Я так и не понимаю, шутишь ты или нет.
— Я тоже не всегда понимаю, — ответил Йоссарян. — Иногда я имею в виду то, что говорю, и в то же время не имею. Скажи мне, о моя зеница моего ока, неужели ты думаешь, что я за свою пеструю жизнь действительно хотел делать хоть одну из тех работ, которые мне приходилось делать?
— Ты что, даже сценарии для фильмов не хотел писать?
— Не особенно и очень недолго. Это было притворство, и оно быстро кончилось, и я не был в таком уж восторге от конечного продукта. Неужели ты думаешь, что я и в самом деле хотел делать рекламу, или работать на Уолл-стрите, или заниматься такими проблемами, как подготовка участков под застройку или двойные опционы? Неужели ты думаешь, что кто-нибудь с юности вынашивает мечту сделать карьеру в информационном агентстве?
— Ты и правда когда-то работал на Нудлса Кука?
— Это Нудлс Кук работал на меня. Вскоре после окончания колледжа. Ты что, и правда считаешь, что мне и Нудлсу Куку хотелось писать политические речи? Нам хотелось писать пьесы и печатать их в «Нью-Йоркере». Ты думаешь, у человека есть большой выбор? Мы берем лучшее из того, что можем, Майкл, а вовсе не то, что нас привлекает. Будь ты хоть сам принц Уэльский.
— Это чертовски неприятный образ жизни, па, разве ты так не думаешь?
— Иного способа жить у нас нет.
Минуту Майкл молчал.
— Я испугался, когда увидел у тебя на дверях табличку «Не беспокоить», — признался он чуть обиженным тоном. — Кто, черт возьми, ее повесил? Я уж было подумал, что ты действительно болен.
— Так я понимаю шутку, — пробормотал Йоссарян, который фломастером сделал к табличке приписку, сообщавшую, что нарушители будут расстреливаться. — Так сюда заходит меньше людей. А то лезут целый день, даже не сообщив предварительно по телефону. Кажется, они даже не понимают, что лежать целый день в больнице — это очень напряженная работа.
— Ты ведь все равно не снимаешь трубку. Ты, наверно, единственный пациент в этой больнице, у которого автоответчик. Сколько ты еще собираешься здесь пробыть?
— Мэр по-прежнему остается мэром? Кардинал — кардиналом? Этот гаденыш все еще в своем кресле?
— Какой гаденыш?
— Любой, который все еще в своем кресле. Я хочу, чтобы всех гаденышей выперли.
— Ты не можешь здесь столько оставаться! — воскликнул Майкл. — И вообще, что, черт побери, ты здесь делаешь? Ты ложился на полное ежегодное обследование всего пару месяцев назад. Все думают, что ты спятил.
— Я возражаю. Кто так думает?
— Я.
— Ты спятил.
— Мы все так считаем.
— Возражаю еще раз. Вы все спятили.
— Джулиан говорит, что если бы у тебя было честолюбие и мозги, ты давно мог бы стать первым лицом в компании.
— Он тоже спятил. Майкл, на сей раз я действительно испугался. У меня было видение.
— Видение чего?
— Не того, что я становлюсь первым лицом в «М и М». Мне что-то привиделось или почудилось, и я испугался того, что у меня удар или новообразование, и я не был уверен, кажется мне это или нет. Когда на меня находит тоска, я становлюсь беспокойным. У меня появляются болезни — всякие конъюнктивиты и дерматофитозы. Я плохо сплю. Ты не поверишь, Майкл, но когда я не влюблен, на меня находит тоска, а я не влюблен.
— Я вижу, — сказал Майкл. — Ты не на диете.
— Ты так определяешь?
— Это один из признаков.
— Знаешь, я думал об эпилепсии и о СИБе, скоротечной ишемической болезни, о которой ты ничего не знаешь. Потом я стал опасаться удара — все всегда должны опасаться удара. Я что, слишком много говорю? У меня возникло ощущение, что я все вижу дважды.
— Ты хочешь сказать, у тебя двоилось в глазах?
— Нет, пока еще нет. Такое чувство, будто все это уже было со мной раньше. В новостях для меня не было практически ничего нового. Каждый день, казалось, проводили очередную политическую кампанию или собирались проводить, или еще одни выборы, а если не это, то еще один теннисный турнир или снова эти сраные Олимпийские игры. И я подумал, что неплохо прийти сюда провериться. Во всяком случае, я в здравом уме, мысли у меня чисты и совесть тоже.
— Все это очень хорошо.
— Не будь таким уж уверенным. Великие преступления совершаются людьми с чистой совестью. И не забывай, что мой отец умер от удара.
— В девяносто два?
— Ты думаешь, он при этом прыгал от радости? Майкл, чем ты собираешься заниматься в этой жизни? Мое душевное равновесие нарушается от того, что я не знаю, куда ты, черт побери, приткнешься.
— Вот теперь ты действительно слишком много говоришь.
— Ты единственный в семье, с кем я могу говорить, а ты никак не хочешь слушать. Все остальные знают, что им нужно, даже твоя мать, которая всегда хочет выколотить побольше алиментов. Деньги — вещь действительно важная, может быть, важнее всего остального. Хочешь дельный совет? Найди работу в какой-нибудь компании с хорошей пенсионной программой и хорошей медицинской программой, в любой компании и любую работу, даже если ты будешь люто ее ненавидеть, и оставайся там, пока не одряхлеешь настолько, что дальше уже не сможешь продолжать. Это единственный способ жить — готовясь к смерти.
— Черт, па, неужели ты и правда веришь в это?
— Нет, не верю, хотя, может быть, так оно и есть на самом деле. Но люди не могут выжить на социальное обеспечение, а у тебя даже его не будет. Даже бедняжка Мелисса будет обеспечена лучше.
— Кто такая бедняжка Мелисса?
— Это замечательная медицинская сестра, та, что привлекательна и моложава.
— Она не так уж привлекательна и старше меня.
— Старше?
— Ты сам, что, не видишь?
К концу второй недели пребывания Йоссаряна в больнице они состряпали заговор, с помощью которого выжили его оттуда.
Они выжили его с помощью бельгийца из соседней палаты. Этот бельгиец был человеком, умудренным в финансовых вопросах, и работал в Европейском Экономическом Сообществе. Этот умудренный в финансовых вопросах человек был очень болен и почти не говорил по-английски, что не имело значения, так как у него была удалена часть горла и он вообще не мог говорить, да и понимал-то по-английски с трудом, что имело большое значение для сестер и нескольких докторов, которые не могли общаться с ним так, чтобы это общение имело хоть какой-нибудь смысл. Весь день и большую часть ночи у его постели находилась его бледная и миниатюрная бельгийка-жена в неглаженной модной одежде; она непрерывно курила сигареты и тоже не понимала по-английски, непрестанно и истерично бормотала что-то сестрам, впадая в панический ужас каждый раз, когда он стонал, или кашлял, или засыпал, или просыпался. Он приехал в эту страну, чтобы поправить здоровье, и врачи вырезали у него целый ломоть гортани, потому что он непременно умер бы, оставь они этот ломоть на своем месте. Теперь никто не мог с уверенностью сказать, будет ли он жить. Господи, подумал Йоссарян, как он может выносить это?
«Господи, — подумал Йоссарян, — как это могу выносить я?»
У бельгийца не было иной возможности сообщать о том, что он чувствует, кроме как кивая или отрицательно качая головой в ответ на многочисленные вопросы, которыми осыпала его жена, не имевшая какой-либо возможности передать его ответы. Ему грозили такие многочисленные опасности и он испытывал столько неудобств, что у Йоссаряна не хватило пальцев на обеих руках, чтобы пересчитать их. В первый раз когда Йоссарян начал считать, у него кончились пальцы, и он не стал больше пробовать. Новые пальцы у него не отросли. Вокруг бельгийца обычно была такая шумная суета, что у Йоссаряна почти не оставалось времени, чтобы подумать о себе. Йоссарян беспокоился об этом бельгийце больше, чем сам того хотел. Он прямой дорогой шел к стрессу, зная, что стресс не полезен для здоровья. В условиях стресса люди подвержены раку. Беспокоясь о своем стрессе, Йоссарян испытывал еще больший стресс и начинал жалеть и себя.
Бельгиец страдал от боли, какую и не мог себе представить Йоссарян, которому не давали никаких обезболивающих от этой боли, и он чувствовал, что долго так не протянет. Бельгийца просто накачивали обезболивающими. Ему делали переливания. Его пичкали лекарствами и стерилизовали. Он всем вокруг задавал столько дел, что у медицинской сестры Макинтош почти не оставалось времени на Йоссаряна, который поэтому почти перестал играть кружевной каемкой ее комбинации. Дело было прежде всего, а больной бельгиец был делом серьезным. Мелисса стала рассеянной, она носилась туда-сюда, не зная передышки. Он чувствовал, что было бы некорректно обманом завлекать ее к себе, когда за соседней дверью происходят столь серьезные события, и, не обделенный прежде ее вниманием, теперь страдал без нее. Никто другой не испытывал бы подобных чувств.
Бельгиец, который едва мог двигаться, загонял всех. Чтобы он не умер от голода, ему давали питание через трубку, вставленную в шею. Беднягу поили внутривенно водой, чтобы он не обезвоживался, а из легких у него отсасывали жидкость, чтобы он не захлебнулся.
Этот человек всем задавал работу. У него была трубка в груди и трубка в животе, он постоянно требовал ухода, и у Йоссаряна почти не оставалось времени, чтобы подумать о капеллане Таппмане и его трудностях, или о Милоу и Уинтергрине и их эскадрильях невидимых бомбардировщиков, или о высокой, полногрудой австралийке, снимавшей квартиру вместе с Мелиссой, и ее бледных тенях и туфлях на гвоздиках, или о ком-нибудь другом. Несколько раз в день Йоссарян отваживался выходить в коридор и заглядывать в соседнюю палату, чтобы узнать, что там происходит. Сделав это, он с трудом добирался до своей кровати и падал на нее в полуобморочном состоянии, прикрывая рукой глаза.
Произведения
Критика