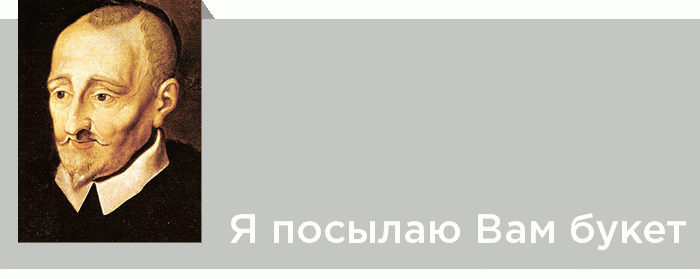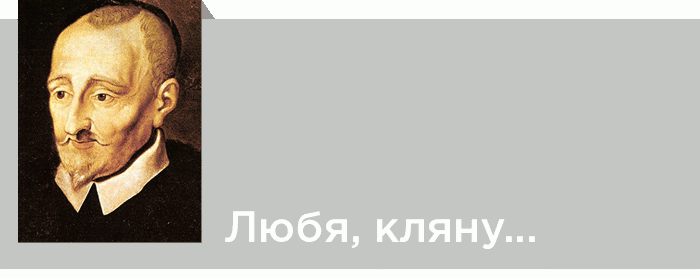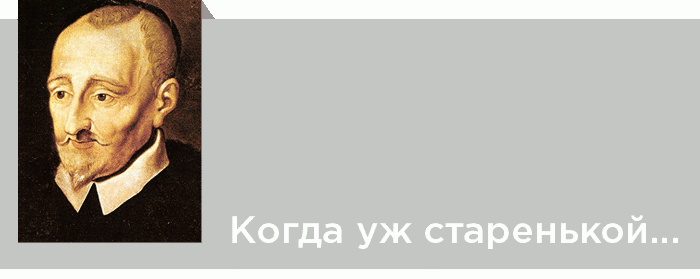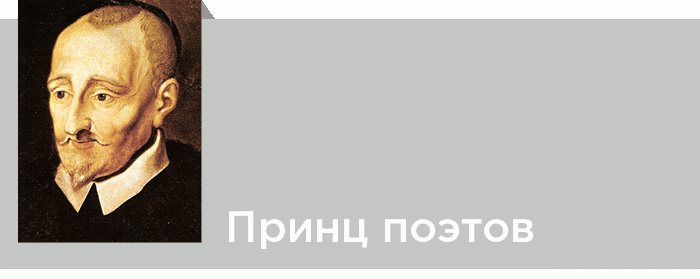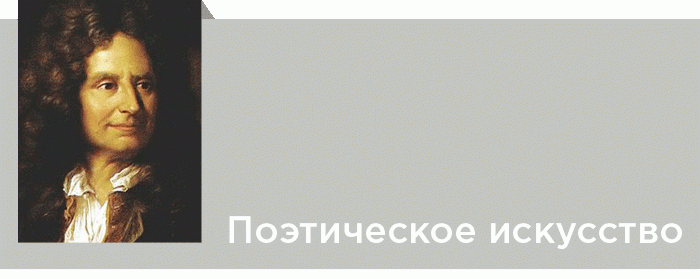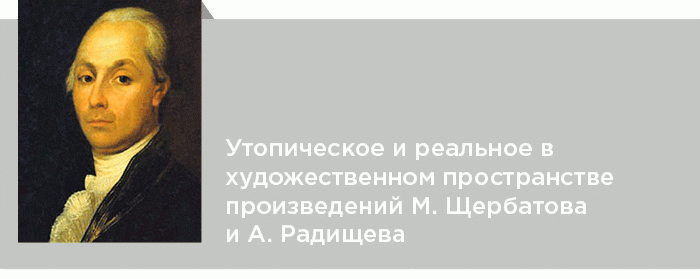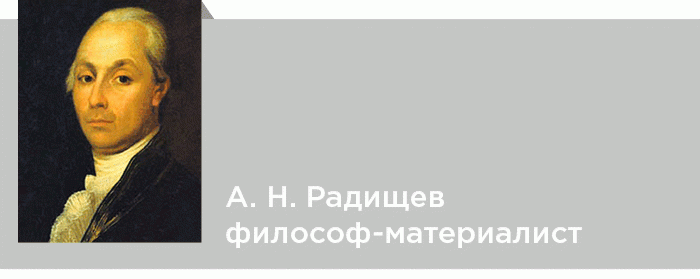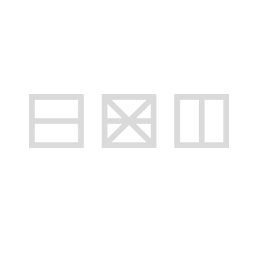Эволюция образа поэта в «Сатирах» Буало
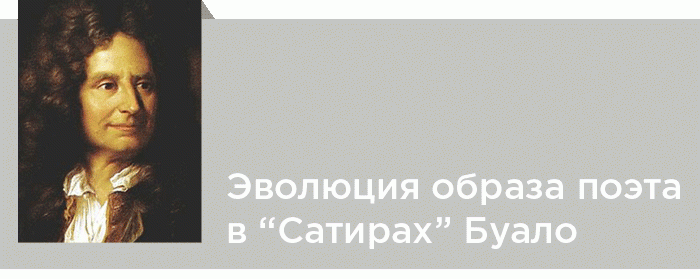
Е.В. Казак
Масштаб восприятия поэтического наследия Буало (сатиры, послания, поэмы) несовместим с утвердившимся в поколениях его авторитетом литературного критика, автора «Поэтического искусства». Об это свидетельствуют и девять из двенадцати сатир, и большинство из посланий, созданных уже ко времени появления «Поэтического искусства», и - главное - утверждение в общественном сознании образа беспристрастного знатока и судьи прекрасного.
Литературно-эстетическая полемика в поэзии, которая пронизывает все творческое наследие Буало, восходит к ренессансным спорам о месте и значимости тех поэтических форм, которые были унаследованы поэтами Плеяды от французских, а не античных авторов. Составители манифеста «Защита и прославление французского языка» (1545) находили малые жанры национальной легкой поэзии недостаточно содержательными. И хотя - сначала Клеман Маро, а затем Дю Белле - опирались на подобные образцы из античной практики (эпиграммы, послания, сатиры) и плодотворно разрабатывали их, но доказать их превосходство над греко-латинскими образцами в глазах своих современников не могли. Протянувшийся в следующий век спор найдет свое продолжение в 80-х гг. XVII столетия, получив название «спора между древними и новыми». Лидером в лагере защитников «древних» будет выступать Буало. Его позиция вечного оппонента современным писателям заставляла исследователей думать о врожденной склонности к сатире и искать черты автопортрета в созданном им образе критика.
Несмотря на то что обстоятельства жизни Буало и декларируемые им позиции не совпадали с образом нигилистически настроенного поэта, который возникает в сатирах, этот персонаж невольно отождествлялся с автором. Называя своими предшественниками Лукиана, Горация, Ювенала, Буало искал греко-латинскую опору в традиции жанра, в то время как национальные корни им недооценивались.
В начальном периоде своего собственного творчества Буало не однажды будет давать нелицеприятные характеристики литераторам-современникам, живущим рядом, а позднее, во второй песне «Поэтического искусства», откровенно высмеет грубоватый стиль Матюрена Ренъе (1573-1613), своего талантливого предшественника в жанре сатиры.
Есть заметное дистанцирование поэта-сатирика от изображаемого объекта, и в то же время уже первая сатира имеет построение, которое сюжетно оформляет завязку, - «портрет», обрисованный несколькими штрихами, но создающий колорит той богемной среды, в которой обитает начинающий поэт. Буало показывает место действия (Париж), дает развернутую картину жизни (одного дня!) «большого писателя», у которого нет средств к существованию. С помощью нехитрого набора внешних признаков - у героя нет белья летом, пальто зимой - создается обобщенный образ поэта. Безденежье, нищета и непризнанность - вот характерные черты этого поэта, намекающие на невостребованносгь его таланта. После такой интродукции становится заметней голос сатирика, он выступает как хроникер этого безвестного автора, прибывшего в Париж в поисках судьбы. Контраст между убогостью костюма и внутренним горением («гнев в душе и огонь в глазах») претендента на публичное признание создает лирико-юмористический эффект, как и намерение ниспровергать все парижское, где «достоинство и ум больше не в моде».
Отходя от жанровых требований сатиры, где необычная заостренность на недостатках часто скрадывается приемом типизации, условностью, Буало называет своих героев личными, реальными именами (Мольер - сатира вторая, Шапяен и м-ль де Скюдери - сатира девятая). Ему редко удается перевести разоблачительную критику в русло комического. Этим он отличался от Мольера, который тоже неоднократно разоблачал и салонную прециозносгь, и ханжескую двусмысленность религиозного пафоса, но его талант комедиографа позволял использовать все виды и формы комического, осуществляя задачу «развлекая, поучать».
Откровенная субъективность суждений Буало-сатирика создает гораздо более пеструю картину литературного процесса классической эпохи, чем принято считать. Жертвами нападок в девятой сатире становятся прециозники аббат Котен, Кено, Пеллетье, авторы пасторальных романов, представители бурлеска, в частности Сент-Аман, от которого, как пишет Буало, «несло трактирным духом».
К концу своей деятельности как сатирика (XII сатира - 1705 г.) Буало уже безусловно имел авторитет литературного критика европейского масштаба. В анонимно появившейся в Англии в 1711 г. (год ухода Буало из жизни) поэме Александра Поупа «Опыт о критике» имя Буало возникает уже как обобщенный образ теоретика поэзии наряду с Горацием и Видой: «Но в критике всех превзошел француз: / В стране служак, где чтут закон зело, / По праву Флакка правит Буало» (пер. А. Субботина). У себя на родине в историческом труде Вольтера «Век Людовики XIV» (1720 г.) Буало будет не только введен в каталог наиболее известных авторов XVII в., но и процитирован. Вольтер выберет отрывок из первой сатиры: «Я не умею ни обманывать, ни притворяться, ни лгать... Я называю кота котом, а Роле - плутом». Как философ-просветитель, Вольтер отмечает в этих стихах точность и дух народной поговорки, а не максимы - жанра более интеллектуального. И, что самое удивительное, назвав Буало академиком, «честью и гордостью Франции», он оставит без внимания трактат «Поэтическое искусство». Как на законодателя литературного вкуса смотрели на Буало и в России XVIII в.
Л-ра: Від бароко до постмодернізму. – Дніпропетровськ, 2000. – Вип. 4. – С. 29-31.
Произведения
Критика