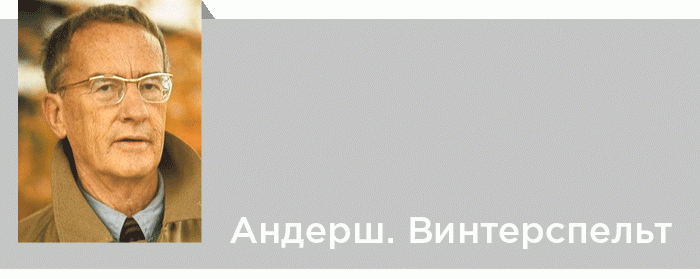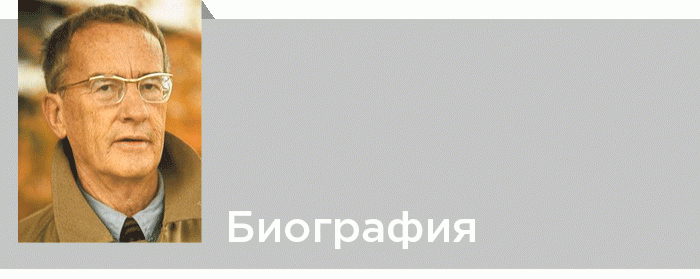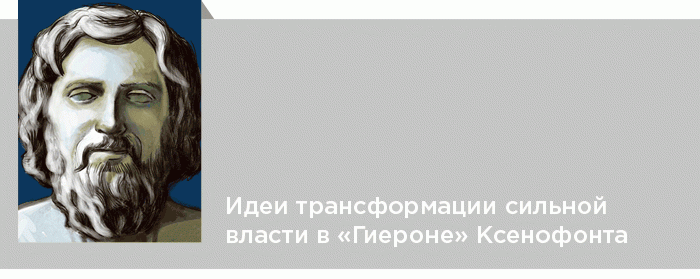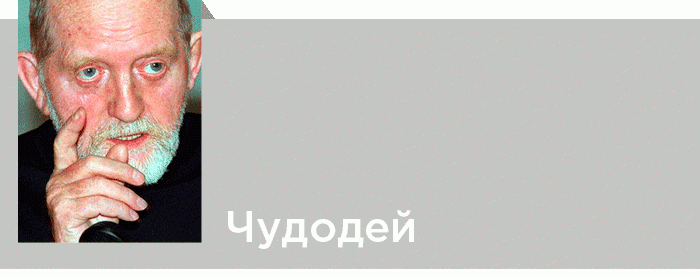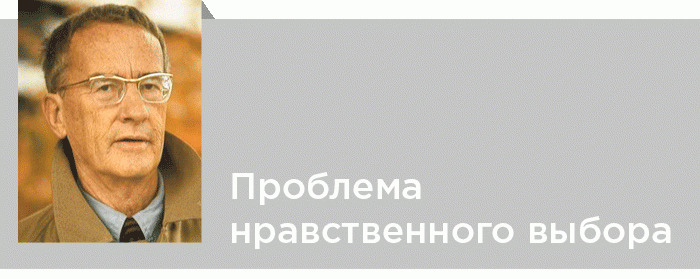Альфред Андерш. Любитель полутени
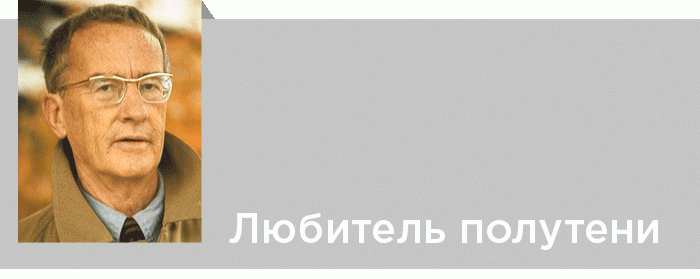
(Отрывок)
1
Сегодня мать что-то чересчур долго собиралась в дорогу; долгие сборы как-то не вязались с ней, она всегда была такой быстрой; в свои семьдесят три года она все еще казалась той же энергичной, решительной маленькой женщиной, какой он ее помнил всю жизнь. Лотар Витте должен был бы обратить внимание на эту ее странную медлительность, но он не обратил, и только к вечеру, незадолго до того, как произошло это несчастье под Баррентином, суждено ему было узнать, почему мать вопреки ее обычаю в то утро замешкалась в доме. Наконец она появилась на крыльце и пошла по садовой дорожке своей виллы во Фронау к «опелю», где Лотар, уже четверть часа назад уложивший в багажник их чемоданы, ожидал ее в какой-то досадливой полудреме. Он сидел и тупо смотрел на застроенную виллами и утопающую в зелени улицу, на серый, унылый дом, где он жил до конца войны и где его мать обитала до сих пор — теперь она большую часть дома сдавала, — и ясно сознавал, что он смотрит на годы, связанные для него с Мелани, не испытывая при этом особого волнения; вот уже несколько лет, бывая наездами в Западном Берлине, он мог спокойно навещать мать и бродить по этому дому, не опасаясь, что в памяти вновь встанет образ Мелани и он бросится сломя голову прочь, как бывало с ним в первые несколько лет после того злосчастного утра в октябре 1947 года, когда Мелани так внезапно и бесследно исчезла. Теперь, через четырнадцать лет, это перегорело — очевидно, перегорело, раз Лотар мог спокойно подремывать в машине, ожидая мать, вместо того чтобы сразу запустить мотор и рвануть с места. Но он был далек от такой мысли, вообще давно уже был далек от мыслей о Мелани и давно уже перестал упоминать ее имя, беседуя с Рихардом Брамом, ее мужем; в один прекрасный день они оба, не сговариваясь, покончили с ее культом, перестали чтить память исчезнувшей навсегда, и ее тень — такая прозрачная и легкая, какую могло отбрасывать только ее хрупкое смуглое тело, всегда облаченное в легкие ткани любимых ею светлых, чистых, блеклых тонов, — возникала перед ними только тогда, когда им нужно было обсудить что-либо, касающееся детей. В таких случаях озабоченный Брам приезжал из Ганновера в Гёттинген и подолгу советовался с Лотаром. Дети были трудные, причиняли кучу забот и расходов, они с Брамом перепробовали много школ, но толку не добились. Дети были их общей мукой. Впрочем, с некоторых пор все это кончилось-дети выросли и жили теперь сами по себе, — так что и эта сторона дела отошла в прошлое. Но даже о детях не думал Лотар Витте в то утро. Если не считать тех минут, когда в памяти всплывала вчерашняя чрезвычайно неприятная сцена в приемной профессора Тилиуса — а Лотар уже наловчился гнать от себя это воспоминание, — то утро вообще выдалось удивительно спокойное, и нарушало гармонию разве только мучительное желание выпить, терзавшее Лотара. А поскольку мать все еще возилась со сборами, то он наконец не выдержал и отхлебнул коньяку из фляжки, лежавшей в ящичке для перчаток. Спиртное подействовало почти мгновенно; ему вдруг открылась привлекательность совершенно пустынной улицы, затененной сплошной зеленой кровлей, мостовой из серовато-синих каменных плиток, ничего не отражавшей и не пересеченной ни единой тенью, будто не имевшей отношения ни к чему иному, кроме самой себя, — сухой и чистой мостовой поселка Фронау на окраине Западного Берлина, покоящейся под мощной защитой крон, закрывших небо.
Наконец мать вышла из дому; прижав локтем перекинутый через руку плащ и держа в той же руке потертую кожаную сумочку и перчатки, она торопливо направилась к машине. Маленькая, худощавая, в строгом темно-сером костюме, она держалась подчеркнуто прямо. Типичная пруссачка, подумал Лотар, протягивая руку, чтобы открыть ей дверцу, и глядя, как быстро и решительно шагает она по дорожке; прежде чем подойти к машине, она не забыла привычным движением захлопнуть за собой калитку. Мать, видимо, чувствовала себя слегка виноватой — ведь она заставила сына ждать, — что придавало ее лицу выражение еще более высокомерное, чем обычно; так было всегда, когда она теряла уверенность в себе. «На самом деле она вовсе не высокомерна, — подумал Лотар, — это только кажется, потому что она такая маленькая и подтянутая, да и нос у нее, будто она родом из аристократического семейства фон Квитцов или фон Коттвиц, а отнюдь не отпрыск простого сельского священника из Хавельской низины; а уж рот и вовсе — четкий и сжатый, как девиз в родовом гербе». «Точь-в - точь такой представляешь себе вдову прусского подполковника», — обычно говорили друзья Лотара после того, как их знакомили с ней, на что тот сухо возражал, что сам Подполковник, его отец, напротив, отнюдь не был похож на пруссака. «А на кого?» — бывало, вырывалось у кого-нибудь, и Лотар иногда вытаскивал фотографию, на которой отец был снят на польском фронте, незадолго до боя под Шамотулами в сентябре, где он и погиб, — крупный расплывшийся мужчина, настолько похожий на Лотара, что спрашивавший уже смущенно глядел на фото. Почему-то было неприятно видеть постаревшего Лотара в форме старшего офицера, с явным раздражением глядящего куда-то в сторону. Война ли была тому причиной, проступок ли какого - нибудь солдата или просто непогода, но старый Витте, по непонятным причинам оставивший одного-единственного сына - Лотара, — незадолго до своей смерти смотрел на то, что преподносила ему жизнь, точь-в-точь так, как Лотар подчас мог смотреть на кого-нибудь из своих друзей: с холодным, осуждающим интересом.
— Что это ты там застряла? — спросил Лотар, помогая матери устроиться на сиденье.
— Да так, ничего особенного, — ответила она немного взволнованно. Он не очень вслушивался в ее тон и счел вопрос исчерпанным, когда она, уже овладев собой, добавила: — Мне пришлось долго искать перчатки.
Уже на Тегельском шоссе Лотар вновь вспомнил о фляжке с коньяком и решил при первом удобном случае незаметно вынуть ее из ящичка для перчаток и сунуть в карман пиджака. Вдали под блекло-серым куполом неба четко вырисовывались плоские башни концерна «Сименс». «Приятный день сегодня», — подумал Лотар. Он любил такую серую, нейтральную погоду. В такую погоду поездка в Гамбург — одно удовольствие. Его матери захотелось навестить тамошних родственников, и он сам предложил отвезти ее туда на машине — у него как раз начались семестровые каникулы, и небольшой крюк на север очень его привлекал. Ведь они поедут через западные районы Бранденбурга и южные — Мекленбурга, так что у него, впервые после стольких лет, будет возможность увидеть те места, которые в прошлом так много для него значили.
Мать приняла его предложение, хотя и не без колебаний. «Ты ведь знаешь, я не люблю ездить на машине», — напомнила она, но Лотар догадался, что она просто боится, не начал бы он в дороге пить.
— Пора бы тебе рассказать, чем кончились вчера переговоры, — начала она. — Получишь ты штатное место в Берлине?
Лотар отрицательно покачал головой. Ему пришлось лавировать в потоке машин, поэтому он ответил не сразу:
— Они не хотят меня брать.
2
Сказав это, он живо вспомнил, как сидел вчера в кафе на Курфюрстендамм в ожидании часа, назначенного ему профессором Тилиусом. Хотя день был солнечный, Лотар выбрал местечко в помещении — правда, не в темной глубине зала, а поближе к большим открытым окнам, — но все же не сел за один из столиков снаружи. Оттуда он мог наблюдать за жизнью на улице, не уподобляясь пещерному зверю, которого замечают по горящим во мраке глазам. Он сидел скромно и незаметно, в нейтральной полосе, где свет и мрак перемежаются, образуя полутень, в которой ему особенно хорошо думалось. Женщин, сидевших снаружи за столиками под большим полосатым тентом, он подолгу разглядывал, а гуляющих по бульвару провожал глазами, раздумывая, не познакомиться ли ему с какой-нибудь из них; но коньяк, который он между тем потягивал, уже подавил его волю; так он и сидел, грузно развалясь на стуле, а стопка купленных только что журналов лежала перед ним нетронутой — он хотел их наскоро проглядеть, да так к ним и не притронулся; мысли то крутились вокруг темы его лекций в Гёттингене, то перескакивали на женщин, на которых он время от времени украдкой поглядывал; платья и прически в его мозгу чередовались с отрывками из трактатов Амори де Бена, умершего в 1206 году, а фраза: «Omnia unum, quia quidquid est, est deus» — вдруг отпечаталась на фоне какого-то ярко-желтого портняжного шедевра, изготовленного в берлинском ателье и увенчанного прядями длинных темных волос, словно развеянных ветром по плечам в точном соответствии с требованиями моды. В голову лезли еще и соображения о том, насколько лучше было бы ему все же в Западном Берлине, чем в Гёттингене. Лотара отнюдь не тяготил провинциальный дух, царивший в Гёттингене, просто город этот ничего не говорил его сердцу, хотя пример Лихтенберга подчас и скрашивал его существование. Но в конце концов ведь и тот предпочел бы профессуру в Берлине жизни в Гёттингене. Лихтенберг в Гёттингене был мертв и забыт, а вот Фонтане в Берлине странным образом все еще жил и процветал, и его процветанию почему-то не мешало, что и в Нойруппин, и в долину Доссе проезд был — к сожалению! — закрыт. Сидя в уютном кафе, Лотар думал о своих любимых авторах, сдержанных, суховатых, и воображал их на фоне шикарных авеню и живописных ландшафтов с соснами. Наконец ему удалось обменяться взглядами с хорошенькой светловолосой девицей, сидевшей за одним из столиков под тентом наискосок от него; но уже через несколько минут он остыл и вновь впал в ленивую полудрему. С тяжелым сердцем он в который уж раз признался самому себе, что на самом дне его склонности к трезвым суждениям и к полутени лежало нечто противоречившее этой склонности: ведь его погружения в царство полутени удавались ему, как правило, только с помощью алкоголя, а эта слабость, нередко доводившая его до непотребного состояния, как-никак была пагубной страстью. Он заказал еще одну рюмку «Реми - Мартена»-уже третью — и, прежде чем подняться и уйти, выпил ее маленькими глотками; время подошло к пяти часам, солнце скрылось, пора было идти в университет.
Еще в коридоре произошла его встреча с тучным, приземистым Тилиусом, человеком весьма тертым; рядом с ним Лотар казался почтенным прелатом из провинции, поглощенным своими научными занятиями и имеющим склонность к спиртному, провинциалом, коему ради некоего дела приходится заискивать перед бойким, изворотливым монсеньором из свиты кардинала. В душе он называл Тилиуса шарлатаном от философии, ловким захребетником, компилятором чужих идей, сочинителем книжек с зазывными названиями, блестящим дельцом, знатоком механизма научных учреждений и беспардонным карьеристом — вполне академичная ненависть Лотара к коллегам по профессии подсказывала ему все новые и новые эпитеты для декана философского факультета. Их разговор протекал именно так, как Лотар себе заранее представлял: наигранно сердечное приветствие, гостеприимно распахнутая дверь в кабинет, улыбающаяся секретарша. «Я рад, дорогой Витте, в кои-то веки видеть вас у себя!» — искусно-велеречивое многословие Тилиуса и столь же искусно, с легкой иронией в голосе и как бы между прочим заданный Лотаром Витте вопрос о возможности приглашения его в Западный Берлин на факультет; причем разговор этот с такой скрупулезной точностью следовал академическим правилам, что Тилиусу даже не было необходимости прямо отказывать Лотару. В эту церемонию вклинился лишь один короткий и быстрый обмен репликами, в котором — и они оба знали это — каждое слово имело вес и решало исход дела. Тилиус спросил: «О чем вы собираетесь читать в следующем семестре?» А Лотар ответил: «О некоторых формах движения спиритуалов в конце тринадцатого века. Рамон Люлль, Оливи и другие».
— Очень, очень интересно, — заметил Тилиус, но Лотар почувствовал, что его собеседник чем-то задет. Тилиус сразу как-то подобрался. — Несколько отвлеченная тема, — протянул он, — но вы, конечно, намереваетесь провести некоторые параллели с современностью… — Он не закончил фразы, заметив, что Лотар величественным движением головы уже дал отрицательный ответ.
— Напротив, — ответствовал тот с великолепной иронией владетельного князя, за которую на него постоянно обижались коллеги, — меня увлекает именно возможность показать такие ситуации, в которых обстоятельства не поддаются сравнению ни с какими другими. И вообще — в любом историческом процессе для меня представляет интерес лишь исследование степени его неповторимости.
Это был тот тезис, с помощью которого Тилиус легко мог вывернуться, и он, естественно, не преминул воспользоваться этим, с ходу пустившись в рассуждения о ситуации, сложившейся в Берлине. Лотар почти не вслушивался; разговор, в сущности, был окончен. Он сам наклеил на себя ярлык чудака - индивидуалиста, вечного приват-доцента, чьи историко - философские штудии иногда вызывали некоторый интерес, но в целом были все же слишком «отвлеченными», чтобы кто-либо рискнул предоставить ему штатное место. В рецензиях его называли то «одаренным, даже гениальным аутсайдером», то, повернув медаль другой стороной, «светлой головой, разменивающейся на мелочи». Как только Лотар заметил, что в тоне Тилиуса появились нотки смущения, а значит, и нетерпения, он поднялся и стал прощаться. Единственное отличие этого разговора от тех бесед, которые бывали у них с Тилиусом в прошлые годы, состояло в том, что нынче ему очень уж хотелось получить место в Западном Берлине. Еще два года назад такая же попытка казалась ему вызовом судьбе — тогда его еще мучила мысль о Мелани, — и, получив из университета отказ, он облегченно вздохнул, поскольку считал, что груз воспоминаний сделает его жизнь в этом городе невыносимой. Все это теперь перегорело, и ему стало грустно при мысли, что с Берлином для него покончено. Может быть, стоит подать сюда на приват - доцентуру? — смутно мелькнуло у него в мозгу, когда он в сопровождении Тилиуса проходил через приемную.
Попрощавшись с профессором и стоя уже в дверях, Лотар вдруг обернулся, почти решившись спросить Тилиуса о возможности получения приват-доцентского курса. И тут увидел, что секретарша заглядывала в открытую дверь кабинета Тилиуса, хихикая и опрокидывая в рот воображаемую рюмку. Лотар на миг замер, уставясь на нее пустыми глазами: до него даже не сразу дошло; она перехватила его взгляд и покраснела до корней волос, забыв опустить поднятую ко рту руку. Похолодев от бешенства, Лотар ринулся по коридору. В вестибюле ему пришлось присесть на скамью; лицо его побелело.
3
Остановкой у поста пограничного контроля в Штаакене Лотар воспользовался для того, чтобы достать фляжку с коньяком. Мать направилась к зданию поста, а он принялся вынимать чемоданы, но, когда краем глаза заметил, что она вошла внутрь, украдкой глотнул раз-другой и сунул фляжку в карман. Один из пограничников наблюдал за его действиями, но без особого интереса; по его лицу Лотар не мог понять, что тот подумал. Перетаскивая чемоданы к зданию поста, Лотар чувствовал на себе его взгляд. Пограничники молчаливо и тщательно перебирали их вещи, но не нашли в чемоданах его матери ничего заслуживающего внимания, лишь при осмотре содержимого его портфеля — книги, рукописи — они задержались подольше и вполголоса обменялись какими-то репликами, а потом — не без почтительности — вернули ему портфель. При выходе служащий проинструктировал их насчет ограничений скорости на трассе и вручил Лотару памятку, где было указано время, к которому он был обязан прибыть на пропускной пункт в Людвигслусте. Когда Лотар вновь укладывал чемоданы в багажник, погода все еще была по-летнему теплой, пасмурной и серой. После того как мать уселась, он попросил ее подождать минутку и отправился в туалет. Там он еще раз приложился к фляжке и, прежде чем вернуться к машине, тщательно прополоскал рот. Тем не менее мать сказала ему, когда они уже проехали порядочное расстояние:
— Ты пил, Лотар!
— Только пару глотков, мама, — возразил он. — У меня что-то сосало под ложечкой.
Он понимал, что она сейчас напряженно соображает, следует ли ей забрать у него бутылку и держать ее у себя до конца поездки, но, зная свою матушку как самого себя, он мог побиться об заклад, что она решится на такое унижение собственного сына лишь в самом крайнем случае, — и оказался прав. Вполне вероятно, однако, что она промолчала лишь потому, что в этот момент — они проезжали как раз мимо казарм в Науэне — по встречной полосе двигалась колонна воинских машин — грузовиков с русскими солдатами. Хотя на дворе стояло лето, на них были длинные шинели, на головах — расширяющиеся книзу стальные каски.
Когда колонна проследовала мимо, на шоссе стало очень тихо. Встречные машины попадались все реже. Лотар чувствовал, что хмель создал какую-то невидимую преграду между ним и всем окружающим — как в машине, так и вне ее; развалившись на водительском сиденье, как в театральном кресле, он воспринимал мир как бы с некоторого отдаления, что создавало обманчивое ощущение безопасности. Но поскольку он и вправду отхлебнул всего два-три глотка, то отдавал себе ясный отчет в том, что это ощущение навеяно спокойным, почти совсем пустынным шоссе и пониженной в соответствии с инструкцией скоростью. И все же было приятно, проезжая мимо, смотреть на дренажные канавы, пирамиды торфа и полевые дороги в окаймлении берез, ощущая себя чуть ли не их владыкой: на некотором удалении всегда чувствуешь себя зорче и увереннее. Лотар разглядел даже мельчайшую торфяную пыль, висевшую здесь в воздухе, — как бишь называл Фонтане ее цвет? Лотар долго думал, пока не вспомнил: цвет нюхательного табака, вот как назвал этот цвет Фонтане.
— Это Низина! — вдруг воскликнул Лотар. — Мама, подумай только, мы едем через Низину.
— Глупости, — возразила мать. — Мы подъезжаем к Фризаку. Хавельская низина расположена южнее, Вустрауская — севернее, недалеко от озера Руппин.
«Она здесь каждую тропку знает, — подумал Лотар, — ничего удивительного, она ведь выросла в этих краях. Как же называлось это захолустье, где ее отец был пастором? Ага, Штехов!»
— Хочешь, заедем сейчас в Штехов, мама? — спросил он. — Всего-то двадцать километров в сторону.
— Боже упаси! — испуганно отмахнулась она. — Не делай глупостей, Лотар! Мне вовсе не улыбается перспектива закончить эту поездку за решеткой.
— А ведь как было бы хорошо поглядеть, — продолжал он, только чтобы еще немного ее попугать, — стоит ли еще пасторский дом, да и старая церковь тоже…
— Ничуть не хорошо, — возразила она. — Скорее неприятно. — Она умолкла, потом сказала, как бы подводя черту под этой темой: — В моем возрасте люди живут воспоминаниями. Но они вовсе не хотят, чтобы им напоминали о действительности.
Она взяла свою сумочку, и Лотар услышал шелест разворачиваемой бумаги.
— Сделай мне одолжение, — сказала она, — поешь немного.
Лотар взглянул на ее руку, протягивавшую ему половину
бутерброда. Рука была худая, испещренная темными возрастными пятнами. Он взял бутерброд и откусил.
— Я знаю, ты не так легко пьянеешь, — сказала она, — но лучше все же чем-нибудь закусить.
Он знал, думала она как раз обратное тому, что говорила. Он знал, она думала, что он, как все алкоголики, пьянеет от каких-нибудь двух-трех глотков. Потому и дала ему бутерброд. Лотар ощутил приятный вкус хлеба и масла, но ветчина, которой были проложены ломтики хлеба, вызвала у него тошноту. Проглотив всего несколько кусочков, он почувствовал, что от еды пропало то светлое и благодушное настроение, в каком он пребывал после выпивки, и с отвращением положил недоеденный кусок рядом с собой на сиденье. Искоса взглянув на мать, он заметил, что она бросила на него огорченный взгляд и отвернулась. Она глядела теперь на местность, проносившуюся мимо них с предписанной скоростью. «Если бы мать не была воплощенной пруссачкой, — подумал он, — она бы сейчас заплакала».
— Я знаю Низину куда хуже, чем ты, — сказал он, чтобы ее отвлечь и доказать, что он трезв как стеклышко, — но зато я отлично знаю Руппинскую Швейцарию. — Он помолчал, а потом принялся вспоминать и перечислять тамошные названия: — Райнсберг, Линдов, Церников, Менцский лес, озеро Мальхов…
Мать перебила его, начав декламировать детский стишок, которому учила Лотара, когда он был еще совсем маленьким:
— «Это к северу от Райнсбергских холмов? Или к югу от озера Мальхов?»
— «Холодна ли в Роттзиле вода? Ты на дно там не спускался никогда?» — весело подхватил Лотар, а мать умолкла и глядела на него счастливыми глазами. — «Возле Больтенмюля, в глубине, там волшебное кольцо лежит на дне».
Они разом прыснули, радуясь этим смешным, неуклюжим и милым стишкам и тому, что оба они после стольких лет вспомнили их, хотя считали давным-давно позабытыми.
Лотар первый оборвал смех, потому что эти названия вдруг с нестерпимой отчетливостью напомнили ему Мелани; да, слова обладали силой, какой уже не было у действительности: это доказал ему нынче утром вид дома во Фронау. Действительное существование того дома не вызвало никаких чувств в его душе, а вот от простого упоминания названий «Райнсберг» или «озеро Мальхов» он на миг как бы окаменел за рулем «опеля», у него потемнело в глазах. Эти названия напомнили ему о прогулках с Мелани в этих местах, о минутах, заполненных до краев ее редкостно смуглой кожей и шелком блеклых чистых тонов; об обрывках разговоров; о бухточках, заросших камышом; о взглядах; о поскрипывающих на ветру соснах и развевающихся волосах; о живом облике той, что стала тенью. Как это матушка выразилась? «Люди вовсе не хотят, чтобы им напоминали о действительности». Она стала мудрой, его мать. Не захотела поглядеть на отчий дом. Не захотела убить в себе воспоминания.
Им показалось, что Фризак ничуть не изменился, жизнь в нем словно остановилась и замерла в своем довоенном облике, несмотря на несколько лозунгов СЕПГ и памятник павшим воинам Красной Армии, возле которого на посту стоял солдат. Потому что все остальное: дом пастора, школа, городская управа, трактир — было прежним. Никаких новых зданий, сверкающих стеклами этажей. Мелочная лавка на углу с мавром из папье - маше и гирляндой серых нитей в витрине. Сплошь приземистые домики — темно-красный кирпич и черепица, потемневшее от времени дерево или глина-раскинулись под светло-серым небом. Городишко, затерявшийся на огромной равнине, простирающейся от прусских до славянских земель. Мимо.
В душе Лотара стало нарастать беспокойство — так бывало всегда, когда действие алкоголя ослабевало. Тоска отрезвления вырывала его тогда из благостного дурмана самоуверенности, вызванного хмелем. В присутствии матери он не мог вытащить фляжку и заглушить подступающее похмелье. На пустынном шоссе за Фризаком он сделал судорожную попытку удержать благодушное настроение, в котором обычно пребывал после выпивки, и только благодаря мучительной остроте воспоминаний, навеянных названиями знакомых мест, ему удалось забыть о пустоте, заполнившей все внутри. Обрывочные картины того времени, которое Лотар иногда с усмешкой называл своей «героической юностью», проскакивали мимо него с такой же скоростью, как и торфяные разработки, поля ржи и дубовые рощи этого края, который был фоном его прошлого; и непреодолимое желание вернуть те годы, вырвать и их, и Мелани из небытия — нелепая мысль, порожденная начинающимся похмельем, — где-то на шоссе за Фризаком вдруг подсказало ему, что через несколько километров будет развилка, от которой на север ведет дорога через Ринское болото на Нойруппин.
Он прикинул в уме, как вернее отвлечь внимание матери, и, заметив издали развилку с дорожными указателями, протянул руку к бутерброду и принялся жевать. Перед самым перекрестком он, как бы нечаянно, уронил его, и, пока мать нагибалась за бутербродом, поскольку он не мог бросить руль, он уже проскочил критическую точку и покатил по дороге, отходившей в сторону от межзонального шоссе. Когда она протянула ему хлеб, предварительно самым тщательным образом отряхнув с него пыль, он поблагодарил и некоторое время пристально следил краем глаза за выражением ее лица. Она редко ездила на машине, поэтому не обратила внимания на то, что шоссе стало уже; даже участки, мощенные булыжником — а один был и вовсе без покрытия, — не заставили ее насторожиться; лишь один раз она отметила, что дорога стала хуже, но так, видимо, ничего и не заподозрила. Они проскочили с ходу несколько деревень. И, лишь заметив на выезде из какой-то деревни указатель «До Нойруппина-15 км», она забеспокоилась.
Дотронувшись до его руки, она сказала:
— Мы поехали не по той дороге.
Лотар промолчал в ответ, и она нетерпеливо дернула его за рукав.
— По той дороге мы не должны были попасть в Нойруппин, — сказала она. — Ты совсем не туда поехал.
Лотар уже почти не ощущал действия алкоголя, но именно в такие минуты на него всегда находило какое-то дикое ожесточение и желание сорвать на ком-нибудь беспричинную злость, поэтому он не стал выкручиваться и оттягивать объяснение.
— Еду куда надо, — бросил он раздраженно. — Хочу сделать небольшой крюк.
— Сейчас же развернись! — приказала старая женщина, поняв, в чем дело. Она напряженно выпрямилась на сиденье. — Ты знаешь, наш проезд зарегистрирован. Если мы не попадем
вовремя на контрольный пункт…
Она оборвала себя на полуслове и, обиженно пожав плечами, погрузилась в гордое и скорбное молчание, как делают взрослые, поняв, что им не удастся с легкостью урезонить заупрямившегося малыша.
— Совсем небольшой крюк, — уже мягче сказал Лотар, — мы успеем вовремя на контрольный пункт в Людвигслусте.
Но мать не проронила в ответ ни звука, и он, не глядя на нее, чувствовал, что теперь, после вспышки возмущения, она вся сжалась в комок и испуганно замерла. «Я веду себя как последняя свинья, — подумал Лотар, — надо развернуться и ехать обратно». Но вместо этого продолжал катить вперед.
Они проскочили Нойруппин, никто их не остановил. У памятника Фонтане стояли два молодых полицейских, но они только спокойно поглядели им вслед. Просторные площади городка были пустынны в этот серенький день. За городской стеной Лотар свернул на шоссе, которое вело к озеру Мюриц, расположенному уже в Мекленбурге, потому что мало-помалу в его памяти отчетливо всплыл лесок на берегу озера недалеко от деревни под названием Клинк, где он как-то провел полдня с Мелани. Он мог бы поехать в Райнсберг или в десяток других мест, потому что все эти края были живы в его памяти прогулками с Мелани — иногда с ней одной, иногда в обществе ее мужа и детей, если удавалось вытащить Рихарда Брама. Но по какой-то причине, может быть по чистой случайности, в последние четверть часа память Лотара зацепилась именно за тот день на озере возле деревни Клинк, и теперь он вел свой «опель» туда, на север. Когда они выехали за пределы городка, он взглянул в зеркальце заднего вида, чтобы убедиться, что их не преследуют. Шоссе было пустынным.
Он слышал, что мать что-то сказала, но, погрузившись в свои мысли, почти не уловил смысла слов.
— Это добром не кончится, — сказала она. Звук ее голоса, хриплого и старческого, напоминал хруст хвороста.
Произведения
Критика