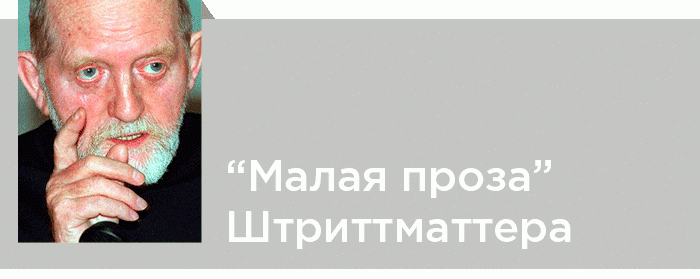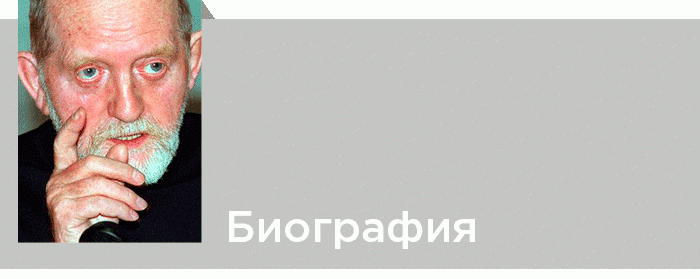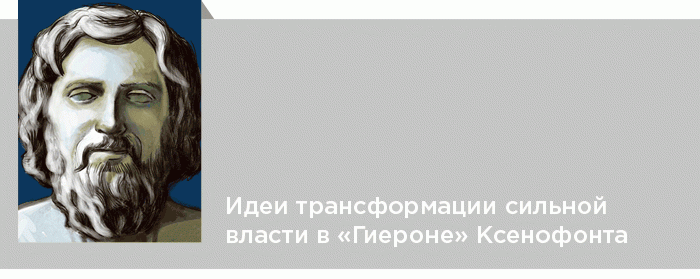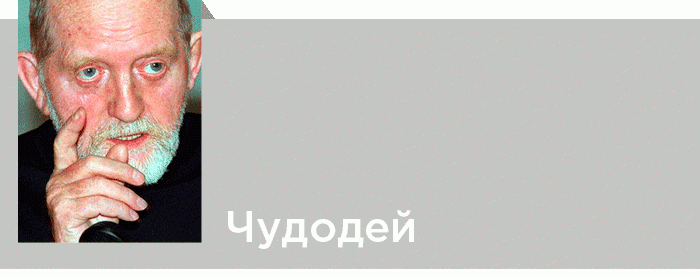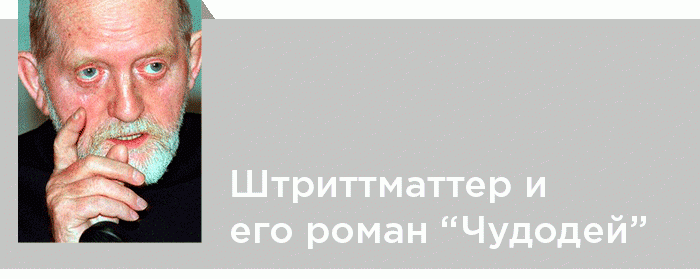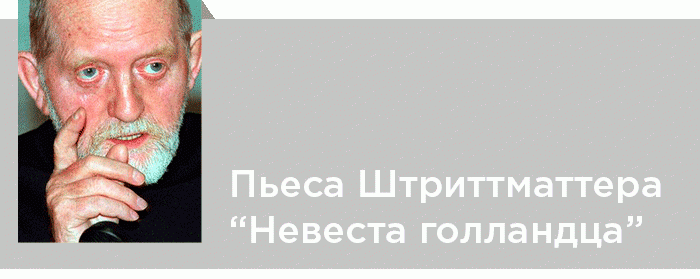Эрвин Штриттматтер. Пони Педро
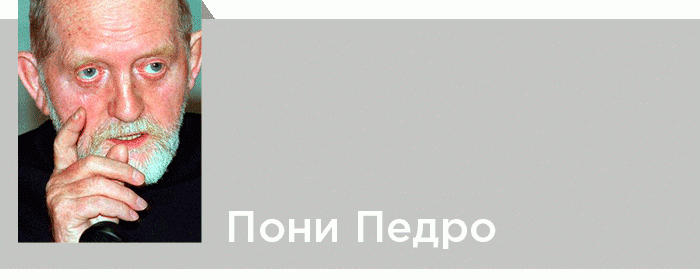
(Отрывок)
МНЕ СТАЛО ТЕСНО В ГОРОДЕ
Я рос на приволье, среди лесов и полей, где гуляют ветры, где летом палит солнце, зимой трещат морозы, а весной все одевается пышной зеленью. В мою колыбель заглядывали коровы. Мои пеленки сушились в конюшне, и их обдавало дыхание лошадей.
И вот в непоседливой моей жизни случилось так, что к сорока годам я поселился на самой современной улице нашей столицы. Внизу, по широкой мостовой, с шумом проносились машины, а я, забравшись высоко-высоко, на шестой этаж, писал книгу о том, как тяжело приходилось на первых порах после войны нашим крестьянам из кооперации. Я понял, что в эту книгу перелилась моя тоска по деревне.
Писатель не может непрерывно писать, спорить и наслаждаться искусством. Он должен заполнять новыми впечатлениями те незримые шкафы, откуда берет сырье для своей работы. Меня потянуло к физическому труду. Я натаскал в свою городскую квартиру земли со строительных площадок и поселил на ней уйму комнатных растений. Я обзавелся собакой, кошкой, но тоска по деревенской жизни не утихала. Великолепные цветочные клумбы и газоны на нашей улице меня не устраивали. Мне стало тесно в городе. Я чувствовал, что недалек тот день, когда уже не смогу больше писать.
ХИБАРКА, ПЫРЕИ И КОШАЧЬИ ЛАПКИ
Получив гонорар за новую книгу, я возомнил себя богачом и купил домик в глухой деревушке среди лесов и озер.
Из-за этой покупки я стал беднее деньгами, зато богаче сырьем для своей писательской мастерской. В деревне все друг друга знают. Жизненный путь каждого перед тобой как на ладони. Тебе видно, сгибаются ли твои соседи перед так называемой судьбой или же строят жизнь своими руками, развенчивая судьбу — это мнимое дитя богов.
Мой деревенский дом вовсе не похож на дачу. Между нами говоря, это хибарка. Никто в деревне не хотел ее покупать. В глиняных стенах этой хибарки плодились блохи. Крыша прогнулась, стропила прогнили, кирпичи выкрошились. В первые ночи, когда я спал на сеновале, мне удалось насчитать сквозь дыры в крыше семьсот сорок восемь звезд. К хибарке лепится будка, очень похожая на скворечник. Там один только стул, да и тот с круглой дырой посередке. В городе эту штуку делают из фаянса, или из керамики, как еще говорят.
К домику прилегает небольшой участок. Земля здесь совсем плохая. Даже крестьяне из кооператива не захотели ее взять, и никто их за это не упрекнул, а ведь недоброжелатели готовы приписать им что угодно. Восемь моргенов желтого песка, три моргена болотистой луговины и один морген под садом.
Окрестные жители называют пустошь за моим домиком Песчаной горой. Одному из прежних владельцев взбрело как-то в голову распродать Песчаную гору в розницу, повозками. Заработал он одни насмешки. Таким образом ему удалось хоть что-нибудь да заработать на этом песке! Все же хорошо, что из его затеи ничего не вышло, не то позади домика зияла бы яма в восемь моргенов. А гора как-никак больше, чем яма. Для городского жителя природа всегда прекрасна. Весной моя горка «старается» не меньше, чем все вокруг нее. Ранним летом на ней даже цветы распускаются, а в июле она сплошь зарастает прелестными кошачьими лапками. Они такие желтенькие, смирные и мягкие, точь-в-точь как у кошки, и такие цепкие! А там, где ветром нанесло немного земли, растет пырей. С тех пор как я узнал, что пырей может колоситься, он мне даже полюбился. В Советском Союзе его скрестили с пшеницей, и, как знать, не удастся ли со временем добиться пользы даже от сорняков, если только взяться за них как следует!
ЧТО ПОДСКАЗАЛ МНЕ ЗАПАХ СЕНА
Мы косили наши болотистые лужайки и сушили сено на козелках.
— Поди ж ты, шалаши какие-то понаставили! — сказала здешняя крестьянка Цигеншпек.
— Они, вишь, народ городской, — пояснил ей муж, — по-ихнему сено сушить надо деликатно, повыше, вроде как на крыше.
После чего супруги Цигеншпек нахально рассмеялись.
Но последними смеялись мы. В конце лета пошли сильные дожди. А когда мы сняли наше сено с козелков и убрали его в сарай, оно было ярко-зеленое, пышное и нежное. Запах сена волновал меня. Я вошел в старую конюшню, вымел паутину из кормушки. Меня охватила страсть, которую я годами подавлял в себе.
— Здесь не хватает лошади! — сказал я.
Моя жена — умная женщина. Она обращается со мной, как со взрослым ребенком. Маленький ребенок, на худой конец, может скакать на палочке, фыркать, ржать, кричать «н-но» и «тпру», изображая в одном лице лошадь и кучера. А вот взрослому ребенку нужна всамделишная лошадь.
— Ну что же, заведи себе пегую цирковую лошадку, — сказала жена.
Я с благодарностью обнял ее.
ТЕЛЕФОН МАТУШКИ ДУДУЛЯЙТ
Я не мог ждать, пока к нам в деревушку пожалуют циркачи. В наши края они не заглядывают. А моя страсть к лошадям уже не довольствовалась вежливыми напоминаниями о себе. Она начала яростно брыкаться. И вот как-то раз я прочел в крестьянской газете объявление:
Я покатил на велосипеде в деревню. Начальник почтового отделения матушка Дудуляйт. Она работает тут уже тридцать лет. Это особа строгая. Почта как бы стала ее наследственной собственностью. Матушка Дудуляйт была не в духе. Я приехал не вовремя. Разговаривать по телефону разрешается только утром и пополудни, когда приходит машина с почтой, да и то недолго. К примеру, заболела у тебя корова, или случился пожар, или роженице требуется акушерка. Увы, ни один пункт не подходил к моему случаю. Тогда я призвал на помощь всю любезность, на какую был способен.
— Очень, очень прошу вас разрешить мне, в виде исключения, поговорить по телефону. Дело касается лошади.
Матушка Дудуляйт пропустила меня к аппарату.
— А что, лошадь-то заболела?
— Пока нет, — сказал я, уже набирая номер. В трубке раздавались частые гудки. Так прошли пять минут из пятнадцати, требующихся для того, чтобы станция ответила на вызов. Матушка Дудуляйт, прищурив один глаз, смерила меня искоса презрительным взглядом.
— Да есть ли у тебя вообще-то лошадь?
— Ну, конечно, есть, — солгал я.
Матушка Дудуляйт хотела было еще о чем-то спросить, но тут, к счастью, отозвалась станция. Старая начальница почты не осмелилась мешать телефонному разговору: для нее нет выше начальства во всей республике, чем почта районного города.
В трубке послышался невнятный женский голос. Телефонная барышня (рот у нее, видно, был набит завтраком) велела мне ждать вызова. Опасаясь вопросов матушки Дудуляйт, я не отнимал трубки от уха. Взгляды матушки Дудуляйт прожигали дыры в спине моей кожаной куртки. Наконец меня соединили с владельцем пони, жившим в одном из городков земли Мекленбург. К телефону подошла женщина. Хозяина нет дома. Пони, насколько ей известно, еще не продан. Да-да, можно приехать. Осмотр бесплатный.
Матушка Дудуляйт получила с меня деньги, лизнула огрызок карандаша, сделала запись в книге, охая на каждой букве, и процедила сквозь зубы:
— В последний раз даю тебе разговор в неурочное время, так и знай!
Я же тогда в первый раз солгал ради своего пони.
КАК Я ВПЕРВЫЕ УВИДЕЛ ПЕДРО
Во дворе владельца пони скрежетала циркулярная пила и вздыхала строгальная машина. Пахло древесиной.
— Столярная мастерская?
— Нет, похоронное заведение.
Тут уж я и сам увидел: гробы, гробы, повсюду гробы — маленькие каюты для путешествия в неизвестность.
— Я хотел бы посмотреть пони.
Хозяин повел меня в конюшню. Там было темно. Я устремился к перегородке из гладко выструганных сосновых досок. Но что это? Я зажал нос. За перегородкой лежал косматый козел. Лошадь стояла в другой половике конюшни. Какой резвый, темно-рыжий малыш! Запах козла мне уже не мешал. Я поглаживал и похлопывал лошадку, приподымал ей ноги, ощупывал бабки, царапал копыта. Зубы у нее во рту сидели ровно, как зерна в кукурузном початке. По ним легко было определить ее возраст.
Прости-прощай, городской житель! Я снова стал мальчиком, который когда-то помогал дедушке покупать на ярмарке дешевую рабочую лошадь. Во мне заговорил потомственный лошадник, выращивающий из растрепанных полудиких жеребят представительных рысаков, верховых и упряжных лошадей.
Как задирал голову этот жеребчик! Как ему хотелось узнать, кто я такой! О, это был не какой-нибудь там растрепка! Сгусток энергии, обтянутый кожей! Клокочущий темперамент!
Во дворе я пустил жеребчика шагом, рысью и галопом, поводил рукою перед огненными глазами, попробовал силу мускулистой шеи, заглянул в глотку, попросил завести его в конюшню и быстро вывел оттуда задом.
Старые приемы барышников, которым меня обучил дедушка, не были забыты.
Наконец я пролез у лошадки между ногами и ползком пробрался под брюхом…
Жеребец мне понравился, но я и виду не подал. Я находил одни только недостатки: зад узковат, спина мягковата. Станешь хвалить лошадь, себе дороже выйдет. За каждое слово продавец набавляет пятьдесят марок. Похвалишь — переплатишь, — так уж искони повелось у лошадников. На нашем государственном конном рынке этот закон все больше теряет свою силу, но маленькими лошадками, к сожалению, там не торгуют.
— Недостатки, конечно, есть, но лошадь все же можно взять, папаша, — сказал я, — за сходную цену, разумеется.
Сердце мое выстукивало иные речи: «Он должен быть твоим, ты должен купить его», — вот что выстукивало мое сердце.
Столяр посмотрел на меня, улыбаясь:
— Лошадь уже продана вчера по телеграфу.
Я взглянул на жеребца. Его чудо-глаза так и сверкали из-под пышной челки.
ПОЧЕМУ Я ОКАЗАЛСЯ ПЛОХИМ БАРЫШНИКОМ
Словно град обрушился на цветы моих надежд. Гробовщик объяснил, почему он продал лошадь. Сразу после войны работы у него было хоть отбавляй — кругом трупы. Повсюду требовались гробы, гробы… Их брали нарасхват. Затем пришел тиф и другие болезни. Опять понадобились гробы, множество гробов. А теперь дела пошли неважно. Покойников надо разыскивать, приходится расширять район деловых поездок. На лошади далеко. не уедешь. У нее слишком малый радиус. Нужна автомашина. Истрепанный черный галстук столяра, сбившись набок, уныло глядел на меня из-под куртки. Мне стало не по себе. Передо мной стоял человек и вздыхал о минувших временах, когда царили смерть и болезни. Вот до чего может довести человека торговля!
Наконец гробовщик поднял поникшую голову.
— Ваш запрос был сделан так сухо, так казенно, по телефону! А тот, кому я продал жеребца, написал целое письмо, да еще какое пылкое! Сразу видать заядлого лошадника. Он живет в Тюрингене.
В моем рюкзаке тихо звякнул недоуздок. Это прозвучало, как похоронный звон. И вдруг я стал красноречив, как истый барышник. Я взял обратно все свои слова о недостатках жеребца. О, какое пылкое письмо мог бы я написать! Разумеется, настоящие барышники так не поступают. Я вел себя, как мальчишка, которому до смерти хочется заполучить лошадку. Для меня еще не все было потеряно: заядлый лошадник прислал пылкое письмо, но с переводом денег не торопился. А гроботорговец был не таким уж простаком, чтобы думать, будто любовь к животным и платежеспособность покупателя — одно и то же. Если в течение трех дней деньги не прибудут, он уступает лошадь мне. О, господин гробовщик был ко мне весьма милостив!
КАК Я СТАЛ СУЕВЕРНЫМ
Дома я принялся орудовать молотком и пилой, смастерил ясли, выбелил стойло. Когда мне казалось, что никто меня не видит, я тихонько бренчал цепью, которую приготовил для своей лошадки, наслаждаясь ее звоном. О своей книге я совсем позабыл. Герой романа так и застрял среди своих трудностей. Моим героем был теперь пони Педро. Так прошел первый день ожидания.
Я набил новые ясли сеном. К балке над дверью конюшни я прикрепил длинный красный шарф, который нашел в лесу.
— Это еще к чему? — спросила жена.
— Так просто, — ответил я.
Жена посмотрела на меня и поняла, что со мной происходит.
— Что ж, красиво. Совсем как в цирке, — сказала она. — Но ты лучше позвони и спроси, уплатили за лошадь или нет.
О том, чтобы снова идти на поклон к матушке Дудуляйт, не могло быть и речи. У-у, эти ястребиные взоры! Я сел на велосипед и, проехав семь километров лесом, очутился в соседнем городке.
«Деньги за лошадь еще не пришли», — ответили мне по телефону. Мои шансы возросли. Так прошел второй день.
Прежний домовладелец не оставил соломорезки. А лошади нужна сечка из жесткой соломы, не то самый лучший овес не пойдет ей впрок. Лошадиный желудок устроен с расчетом на сухую степную траву ее древней родины. Я мелко нарубил солому топором. Я сам был отличной соломорезкой!
Перекапывая сад, я нашел подкову. Нелепое суеверие овладело мной. Как видно, напряженное ожидание вредно сказалось на моих умственных способностях.
Подкову я повесил у двери конюшни. Счастье, ко мне! Вот до чего опускается человек, отдавшись на волю страстей!
Прошел третий день.
ПОКУПКА
Гробовщик отрицательно покачал головой. Нет, сейчас он не может отдать мне пони, придется денек повременить: а вдруг деньги придут? Его чрезмерная щепетильность сводила меня с ума. Я устроился на ночлег в гостинице. Впрочем, о сне в эту ночь нечего было и думать. Ведь я снова увиделся с Педро.
На другой день, в полдень, мы с гробовщиком звонко хлопнули друг друга по рукам. Так уж повелось исстари, что ударить по рукам при покупке лошади — это все равно, что подписать купчую. Одно дело — покупать лошадь по телеграфу из Тюрингена, другое дело — ударить по рукам.
— Меня опять хотели надуть, не иначе, — пробормотал гробовщик. Его галстук словно поник в трауре под воротничком рубашки.
— Кто? Автор пылкого письма?
И тут гробовщик рассказал мне:
— Года три назад один человек из Тюрингена купил брата вашего Педро. Я послал лошадку с доверенным, а этот тюрингенец забрал лошадь, дал доверенному десять марок на чай — и все. — Гробовщик поправил свой траурный галстук. — При моем ремесле, сами понимаете, нужно терпеть и молчать, но этот негодяй не выслал денег. — Мастер хлопнул себя по заднему карману брюк. — Я напомнил. Он меня обнадежил. Я снова напомнил. Он снова обнадежил. Тогда я поехал в Тюринген, чтобы забрать своего пони. Но не тут-то было. Там есть закон: малорослых лошадей вывозить из Тюрингена запрещается. Малорослые лошади для них все равно что Хайнцельменхен в доме. Вспомните, на какие полоски изрезаны там горные склоны, — ни одному трактору не обработать. Этот прохвост дал мне несколько марок: остальные, мол, потом, да так до сих пор и не заплатил! — Гробовщик выдернул из галстука черную нитку. — Такие-то дела!
— Сердце полно любви к лошадям, да карман пуст, — заметил я.
— Нет, он просто мерзавец, а прячется за спиной закона.
ЛОШАДИНЫЙ ПАРАД
Изящная кобылка-пони везла двуколку. В набитом соломой и сеном кузове, как в гнезде, сидел пожилой мужчина. Его впалые щеки густо поросли седой, колючей щетиной. Это был старший подмастерье хозяина похоронного заведения. Следом за двуколкой двое парней вели Педро. Он тянулся вперед, к кобыле. Кобыла была его сестрой. Педро круто изогнул свой хвост из черных, жестких, как проволока, волос. Он прядал ушами, глаза его горели, словно рубины, а раздувающиеся ноздри рдели под лучами заходящего солнца. Парням стоило немалого труда сдерживать Педро.
Следом за Педро шел гробовщик. На нем была белая полотняная куртка. Из выреза куртки все так же уныло глядел черный похоронный галстук. Гробовщик шагал медленно, словно шествуя за гробом. Рядом с ним шла его приветливая жена в летнем цветастом платье. И, наконец, за супружеской четой важно выступал я. Лошадиный парад, да и только! Торжественное шествие по узким улочкам провинциального города! Педро приплясывал, награждаемый одобрительными взглядами. Он громко ржал, словно трубя победу, и какая-то старуха, испугавшись, трижды сплюнула в канаву… Как мне хотелось самому пройтись с ним по городу! Но старший подмастерье и кучер гробовщика не пожелали уступить чести собственноручно отвести своего друга Педро на станцию. Резвые прыжки Педро служили им лучшим десертом во время обеденных перерывов.
Мне вспомнилось изречение одного греческого мудреца: не всегда красив и статен тот, кто гарцует на красивом и статном коне. Это, или нечто подобное, я вычитал у греческого философа Эпиктета. Но, восхищаясь мудростью мудрецов, человек все же не следует ей. Он грешит против нее. А как сладостно было тут согрешить — провести Педро через весь город!
ЗАДОМ В ТЕМНОТУ
Железнодорожный вагон стоял у погрузочной платформы. Надо было переправить Педро по дощатым мосткам в вагон. Он упирался. Вход в вагон зиял, как пропасть, оттуда пахло тухлой рыбой. Чтобы заглушить неприятный запах, мы бросили в вагон сена и соломы. Педро по-прежнему упорствовал. Я впервые увидел, как он становится на дыбы. Он дрожал. Он раздувал ноздри. Его длинная грива развевалась вокруг изогнутой шеи.
«Лесной бог!» — подумал я. Деревенским мальчишкой я так и представлял себе лесного бога: черный конь, переступающий на задних ногах.
Мы повернули Педро задом к вагону, и он успокоился. Ведь рядом стояла его сестра, маленькая кобылка, и расправлялась с остатками сена. Он видел дорогу, по которой обычно ходил в конюшню. Педро заржал, обращаясь к сестре. А мы потихоньку втолкнули его задом в вагон. Двери вагона сдвинулись. Мрак обступил Педро со всех сторон. Перехитрили! Так бывает и с людьми: человек пятится назад, и его обступает мрак.
Но вот двери вагона снова раздвинулись. В вагон хлынул свет летнего дня. Однако теперь Педро был привязан. Он возбужденно захрапел. Глаза его были полны страха. Он дергал цепь и бил задними копытами. Он скреб пол и топал передними, но плотно пригнанные доски тюрьмы на колесах не поддавались. И тут узник беспомощно затрубил. Он ржал не из любви к жизни, он предупреждал табун: «Опасность! Опасность!» Табун Педро состоял всего лишь из его тонконогой сестры — там, снаружи, на мощеной платформе. Кобылка вскинула голову, забеспокоилась. Своим криком брат приказывал: «Беги!»
Ржанье жеребца, казалось, нисколько не затронув мозга кобылы, сразу же передалось от ушей к мышцам и сухожилиям. Она рванулась вперед, хотела бежать. Кучер резко осадил ее. Здесь не степь. Здесь не прерия.
Жена гробовщика сунула в мягкую пасть Педро кусок хлеба. Она плакала. Над чем, собственно? Что у лошади «слишком малый радиус»?
В ТОВАРНОМ ВАГОНЕ
Паровоз положил конец всем прощальным ласкам, всем непонятным слезам. Залязгали буфера, вагон затрясся; казалось, наш маленький мирок вот-вот развалится. Педро испугался, я тоже. Еще немного, и мне пришлось бы познакомиться с его копытами. Он так бил задними ногами в стенки вагона, что только щепки летели.
— Брось, Педро! Тебе все равно не вырваться отсюда на волю. Неужели ты будешь первой лошадью, которая меня ударит?
Педро прислушался. Я подсластил свои увещевания куском сахара.
Когда поезд тронулся, я повалился на ворох сена. Педро упал на бок, но тут же вскочил и, упершись в пол ногами, стал против движения поезда. Я лежал на спине, беспомощно дрыгая ногами, и, наверное, казался ему каким-то страшным зверем. Он захрапел, дернул цепь, заворочал круглыми от страха глазами и отчаянно застучал копытами, но тут я поднялся — и пугало исчезло.
Пока формировали состав, нам досталось немало толчков и ударов. Наконец звякнул замок автосцепки. Маневровый паровоз укатил. Стало так тихо, что слышно было чириканье воробьев на крыше вокзала. Начальник поезда считал вагоны. Его шаги гулко отдавались в проходах между составами. Свет вечернего солнца бил сквозь щель в двери и яркой желтой полосой ложился на серые доски вагона. Я нащупал рюкзак, достал хлеб и сало. Педро хрупал сено. Человек и лошадь за едой — сколько веков такой картине?
Почему я лежу здесь, на сене, а не сижу дома за письменным столом? Всему виной моя страсть к лошадям. И это отлично! Когда б еще мне пришло в голову путешествовать вместе с грузом? А теперь я узнаю, как разъезжают вещи и животные.
Педро шуршал сеном — привычный знакомый с детства шорох… Меня одолевала дремота. Вон там стоит мой маленький Педро. А здесь лежу я, единственный знакомый, оставшийся с ним.
Когда я проснулся, мы были уже в пути. Педро привык к тряске и толчкам. Он уплетал сено так, что за ушами трещало.
В дверной щели вспыхивали и гасли пробегающие мимо огоньки. Ночь уже наступила. Когда мы с грохотом проносились сквозь рой вокзальных огней, ночное небо как бы отступало, звезды меркли. А когда станция оставалась позади, небо снова надвигалось на нас, луна покидала свое лесное логово, Большая Медведица подползала к лесной опушке.
ЧЕЛОВЕК С КАЙЗЕРСКИМИ УСАМИ
Поезд остановился. Замелькали фонари. За каждым фонариком стоял железнодорожник. А что, если и на небе кто-то стоит за каждой звездой и держит ее? Трах! Сейчас не время фантазировать. Мы приехали на сортировочную станцию. Наш поезд разорвали на части. Этот вагон — в Росток, этот — в Гера, а этот — еще куда-нибудь. Грохот и лязг. Снова кувыркаемся и падаем, как сегодня вечером.
Я кричу в дверную щель фонарю, который проплывает, покачиваясь, мимо нас:
— Эй, ты, не видишь надписи, что ли? Тут живые твари едут!
— В такой темноте разве увидишь? — прокряхтел старик сцепщик.
Приподняв фонарь, он посветил в вагон и, увидев дрожащего жеребчика, прищелкнул языком. Его кайзерские усы над толстой верхней губой запрыгали.
— Твоя лошадка?
— Очень может быть.
— А чего ты такой сердитый?
— Как тут не сердиться, если вы так дергаете!
— Уж больно ты важничаешь, не из ученых ли? — фыркнул железнодорожник себе под нос. — Убери, профессор, голову от дверей, сейчас опять дернет.
Следующий рывок был мягче. Нас передвигали уже осторожнее, а под конец почти нежно. Я похлопал Педро по шее. Мы произвели впечатление.
КАК Я ПЛАТИЛ ЗА ЦВЕТЫ
Всходило алое солнце. По небу плыли розовые ладьи облаков. Пять часов утра. Нас привезли в районный город на товарную станцию, но документы на своего пони я нигде получить не мог.
— Документы? Выдаем только с семи часов, когда начинается работа на станции.
Ох, уж эти неповоротливые бюрократы!
Мы самовольно выгрузились и потихоньку пошли со станции. Сойдя с путей, Педро громко заржал своим трубным голосом.
— Сразу видать, что ничего-то ты не смыслишь в бюрократии!
Педро заржал еще раз. Победные фанфары, да и только. Мрак, царивший в вагоне, был побежден. Начальник станции подошел к двери и махнул рукой.
— Ну вот и доигрался! Теперь нас отведут обратно, тебя отстегают, а меня, за нарушение их железнодорожных порядков, запрут до прихода полиции в тормозной будке.
Однако Педро, ничуть не смутившись, в третий раз сыграл туш. Шлагбаум позади нас опустился. Мы были спасены.
В городе Педро приветствовал шотландского пони развозчика молока, битюгов возчика бревен и рыжую кобылу из государственного садоводства. Эта старая кляча везла тележку, полную красной герани. Педро ворча обнюхал тетушку-кобылу. Она, видно, ему не понравилась. Зато красные зонтики герани пришлись ему больше по вкусу, и он слопал один цветок. Мне пришлось тут же заплатить за его завтрак.
— Однако ты, как я погляжу, понимаешь толк в деликатесах!
Педро только ушами повел.
ТРАКТОР И КОЗЯВКА
Дорога вилась по полям. Пела овсянка. Стайка зябликов сопровождала нас, перепархивая при нашем приближении с дерева на дерево.
«Большой человек и маленькая лошадка», — щебетали зяблики. Они принесли эту новость в ближайшую деревню. Крестьяне внимательно разглядывали нас, оценивали, напутствовали добрым словом.
— Лошадка что надо, хозяин! Счастливого пути!
Трава в придорожной канаве манила к себе. Я пустил Педро попастись, а сам уселся на мягкую, пышную зелень. Солнце запрыгало перед моими усталыми глазами.
Во сне я выпустил из рук веревку. А когда какая-то птичка разбудила меня, поставив на нос кляксу, Педро уже маячил темной точкой где-то позади, у рощицы. Еще немного — и точка скроется за поворотом дороги.
— Педро-о! Педро-о-о! — с таким же успехом я мог просить зябликов сесть мне на руку.
Ведь для Педро я был всего лишь случайным дорожным знакомым, с кем, пожалуй, еще раскланяешься на прощание в зале ожидания или на перроне и с легким сердцем расстанешься навсегда. Придется теперь бежать обратно в город и спрашивать у каждого встречного: «Слушай, друг, не попадалась тебе маленькая лошадка?» — «Попадалась. Бежала на вокзал, боялась на поезд опоздать», — ответят мне.
Но тут я заметил, что точка у поворота дороги увеличивается. Вскоре я уже мог разглядеть скачущую галопом лошадь. Педро возвращался. Он мчался во весь опор, так что пыль летела из-под копыт. Я широко расставил руки. Педро остановился и снова принялся щипать траву. Я без труда поймал его.
Во мне заговорило мелкое тщеславие: «Значит, для Педро я уже свой, а не просто случайный дорожный знакомый!»
Пых! Пых! К нам с пыхтением приблизился большущий трактор и сбил с меня спесь. Педро просто-напросто удирал от этого грохочущего зверя. Тракторист даже не удостоил нас взглядом и, отвернувшись, сплюнул в канаву. Лошадь для тракториста — живое ископаемое. А пони для него и вовсе даже не лошадь, а так, козявка какая-то. Однако тщеславие мое снова взыграло: все-таки для Педро я симпатичнее, чем трактор.
СИЛКОМ в конюшню
Пол в стойле был устлан мягкой подстилкой из опилок. Пахло цирком. Коза Минна встретила своего нового товарища приветливым «ме-е-е». Подойдя к двери конюшни, Педро заартачился. Он потянул носом пахучий воздух и отвернулся.
Жена принесла полотенце, больше того — даже чистое полотенце, ведь она женщина добрая. Моя дочь Криста завязала Педро глаза. Мы стали водить Педро по двору. Это очень напоминало игру в жмурки. Мы хотели его запутать. Он должен был забыть, где находится дверь в конюшню. Но он этого не забыл. Чутье заменило ему зрение. Должно быть, он считал, что от нашей Минны пахнет не так приятно, как от козла в его родной конюшне. А может, порог в конюшне слишком высок для него?
Мы разостлали на пороге солому. Педро понюхал свежую солому и даже отведал ее, но в конюшню не пошел.
Мы сняли повязку с глаз Педро и закидали порог землей. Педро понюхал землю и недовольно захрапел. Как видно, наша земля тоже ему не понравилась. Ну что ж, придется заводить его в конюшню задом, как вчера — в вагон.
Однако и эта хитрость не помогла. Педро стал ученым. Он вильнул крупом и, вместо того чтобы идти в дверь, уперся в стену. Мое терпение лопнуло.
Мы обвязали задние ноги Педро веревкой. Женщины ухватились за веревку и встали по бокам Педро.
Войдя в конюшню, я поманил упрямого жеребчика ломтем хлеба.
— Ну-ка, ну-ка!
Педро ступил в конюшню правой ногой. Протягивая приманку, я сделал шаг назад. Педро был разочарован. Он хотел вернуться во двор, но женщины крепко держали его. Позади — путы, впереди — хлеб. В конце концов прожорливость взяла верх. Педро ступил в конюшню и левой ногой. Мне вспомнился боевой клич шильдбюргеров, которые втаскивали быка на старинную стену, чтобы он съел выросшие на ней травинки и очистил ее:
— Тяните, тяните, он уже лижет!
Женщины дружно потянули за веревки. Раз — и Педро очутился в конюшне. Расправившись с хлебом, он жадно набросился на приготовленный корм.
Можно ли сердиться на Педро за строптивость? Разве иной раз и люди не упираются, боясь новых условий жизни, как лошадь — новой конюшни? Разве и у нас не приходится кое-кого уговаривать или мягко подталкивать в спину на пути к счастью?
ЛОШАДНИКИ
Лето перевернуло еще одну свою солнечную страницу. В саду покачивались на ветвях пузатые яблоки, В зелени на опушке леса краснели ягоды барбариса. Над долиной аист учил летать своих едва оперившихся малышей. Нам было весело. Где бы мы ни встретились — в доме, во дворе или за работой в саду, — мы улыбались друг другу. Эта улыбка означала: а у нас в конюшне есть лошадка!
Криста тихонько стучится ко мне в дверь. Мои мысли взъерошились, как наседка, которой помешали высиживать птенцов. Я лихорадочно начинаю рыться в листах рукописи. Криста стучится еще раз:
— Папа, Педро фыркает.
— Фыркает? Значит, ему что-то не нравится.
— Минна хочет полакомиться его кормом.
С минуту я пишу спокойно, потом стучится жена:
— Отец, Педро ржет.
— Ржет? Наверно, тоскует по дому.
— Я уже вылечила его от тоски куском хлеба.
Этот день был подарком позднего лета. Хотя мне все время мешали, я хорошо поработал дома и на усадьбе. В сумерках спускался к нам вечер. Из розеток красной капусты выглядывали тугие кочны в каплях росы, покрытые нежным сизым налетом, какой бывает на спелых сливах. За наш труд сад дарит нам не только плоды. Он дарит нам и красоту.
Мы вычистили садовые инструменты. В живой изгороди из вишен стрекотали кузнечики.
«Педро, Педро, Педро!» — звали они.
— Отец, Педро еще не спит!
— Ну и пусть не спит.
— Он тихонечко ржет, настораживает уши и глядит в окно на закат.
Пока вечерний свет не угас, мы тайком друг от друга ходили к конюшне проведать Педро. У каждого выискивался предлог. Каждый старался скрыть свою страсть от других. Мне вздумалось проверить, закрыта ли садовая калитка. У конюшни я столкнулся с женой. Криста отправилась посмотреть, все ли куры на месте. Мы с матерью уже поджидали ее у конюшни.
Взошла яркая луна. Педро положил морду на подоконник. От его дыхания оконное стекло запотело.
Старые лошади иногда спят стоя. Педро вовсе не стар. Почему же он не ложится? Неужели еще не чувствует себя дома?
Перед сном я вышел взглянуть на вечернее небо: «Какая будет погода?»
Под окном конюшни я снова столкнулся с женой. Головы Педро больше не было видно. Мы прислушались. Из конюшни доносилось тихое похрапывание. В ветвях вишен шелестел ночной ветер. Стало быть, Педро все же почувствовал нашу любовь и примирился со своим новым жильем.
ПЕДРО ИГРАЕТ В ФУТБОЛ ТЫКВОЙ
В глубине сада, где широкие листья тыкв распластались по траве, словно разложенное для просушки зеленое белье, есть маленькая лужайка, нечто вроде выгона. Обычно там гуляла наша коза Минна.
Козы похожи на избалованных дамочек. Они едят, вытянув губы трубочкой, не чавкают, и все же слышно, как они смакуют каждую былинку. Здесь колючку ухватят, там — листочек; здесь — вкусненького, там — еще повкусней. Наевшись, они начинают скучать и встречают Бас громким блеянием. Все обязаны выслушивать этих нудных аристократок; разговаривая, они жеманятся и надменно воздевают к небу свои серые козьи глаза. Если у вас две такие дамочки, тогда еще полбеды. Они целиком заняты друг другом и никому не досаждают своим блеянием.
Теперь товарищем нашей Минны должен стать Педро. Быть может, он поразит ее своей красотой и заставит умолкнуть? Отвести Педро на выгон взялась Криста. Вдруг с вишневой изгороди слетела стайка воробьев. Педро испугался шума их крыльев, фыркнул и стал на задние нога, или «на дыбы», как обычно говорят лошадники. Криста испугалась, но не выпустила поводьев. Тут Педро показал, что умеет пользоваться передними ногами, как кулаками. Конское копыто тверже боксерской перчатки. Криста полетела на землю. Где же тут дружба? Она выпустила повод, лошадка удрала.
Педро помчался по овощным грядкам. Головки капусты вылетали из своих голубоватых воротничков. Огурцы с хрустом лопались под острыми копытами. Одну тыкву Педро наподдал так, что она покатилась перед ним, словно футбольный мяч. На бегу Педро выдернул из грядки морковку. Она свисала на стебле у него изо рта — ну, точь-в-точь рантье, курящий длинную трубку! Со своей трубкой в зубах Педро проскакал по бобовым грядкам, сшиб мимоходом несколько золотых шаров и вбежал через калитку обратно во двор. Там жена подманила его куском хлеба и поймала.
Криста подобрала раздавленные огурцы, вывалившиеся кочны, тыкву, которой Педро «играл в футбол», и пришла домой с целой корзиной растоптанных овощей.
— Хорош помощничек в уборке урожая, — сказала мать.
Криста виновато опустила голову, как наша собака Хелла, когда возвращается из лесу с охоты.
Я заступился за Педро:
— Ему не хотелось идти к козе. Он не выносит блеющих дамочек.
Мы так громко смеялись, что наш петух возмущенно закукарекал. Но Педро ничуть не смутился:
«Ну и что ж из того? На то я и лошадь. Вы ведь хотели иметь лошадь!»
Произведения
Критика