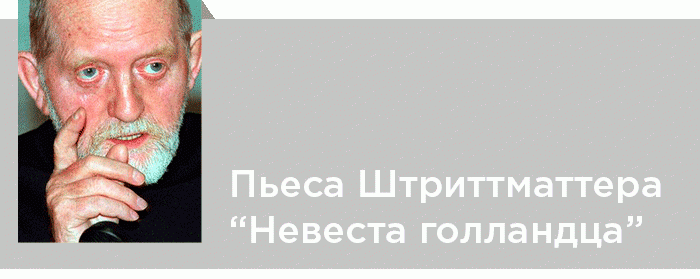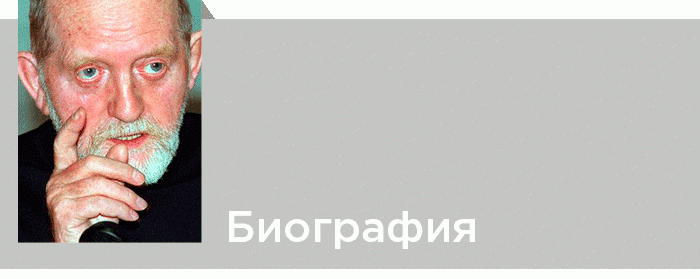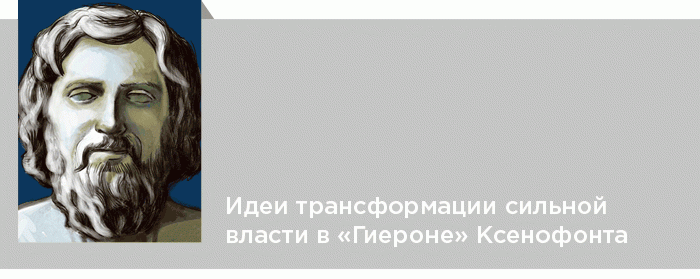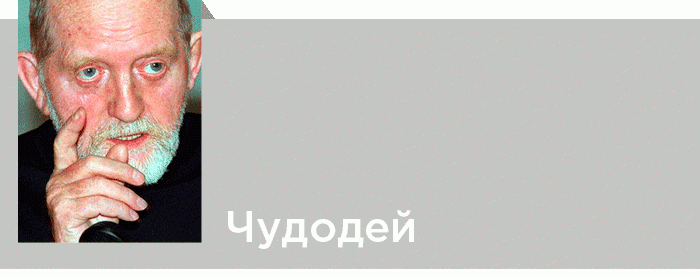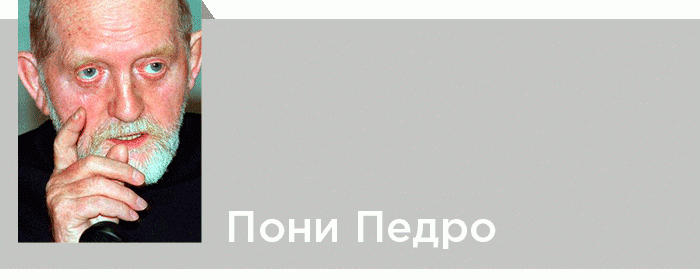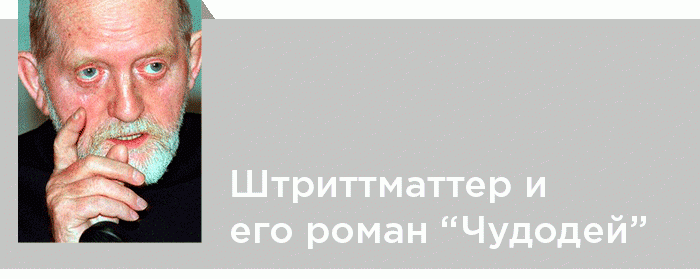Жанровые особенности «малой прозы» Э. Штриттматтера («Всякая всячина. Шульценгофский календарь»)
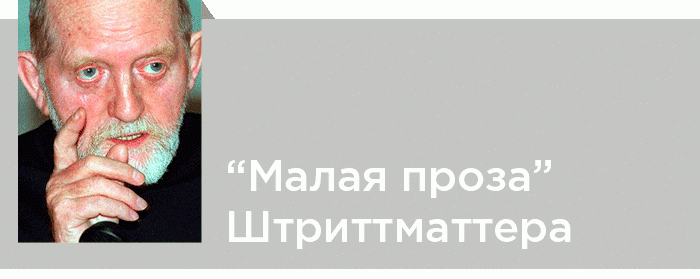
Е. Г. Непомнящая
К жанрам «малой прозы» Э. Штриттматтер обратился уже будучи признанным драматургом («Кацграбен», 1954, «Невеста голландца», 1961) и романистом («Погонщик волов», 1950, «Тинко», 1954, «Чудодей», ч. 1, 1957, «Оле Бинкоп», 1963). Позднее появились сборники стихотворений в прозе, лирических миниатюр и притч «Всякая всячина. Шульценгофский календарь» (1966) , рассказов и новелл «Вторник в сентябре» (1969), «75 маленьких историй» (1970), «Голубой соловей, или Начало чего-то» (1972). «Шульценгофский календарь», таким образом, обозначил начало интенсивной работы писателя над «малой прозой».
В середине 60-х годов писатель уже сообщал о своей работе «над книгой, состоящей из очерков и коротких рассказов поэтической прозы типа тургеневской и пришвинской». Эта книга — «Всякая всячина. Шульценгофский календарь» — вскоре увидела свет. Небезынтересно отметить, что одновременно шла работа над большими романами: реализовались старые замыслы, обдумывались новые.
Итак, сама хронология творчества Штриттматтера указывает на то, что поэтическая миниатюра является у него не начальным, исходным пунктом творчества, как это бывает нередко, когда художник от малых зарисовок идет к большим полотнам. Скорее наоборот: как самостоятельный жанр миниатюра — плод его зрелого взгляда на мир, сформировавшегося творческого почерка.
Способность работать одновременно над крупным эпическим полотном и коротким лирическим или философским этюдом отличает немецкого писателя от его русского предшественника и учителя Пришвина, признававшегося, что привычка подбирать словечко к словечку в миниатюрных рассказах не давала ему возможности написать большой роман, где требуется размах. У Штриттматтера же это процесс одновременный и двуединый.
Внутренней потребностью уяснить истоки своей «малой прозы» продиктованы некоторые признания писателя. Так, о неразрывном единстве творческого процесса, порождающего большие романные организмы и «всякую всячину» «Календаря», он размышляет в этюде «На исходе лета»: «Я начал писать одну историю. Начало ее, словно семена, занесло ко мне ветром из дальних стран. История дала два побега, спустя два дня — два лепестка. Через несколько дней она пустила отросток. Отросток набирался сил, и. я его срезал. Теперь какое-то время тянулся стебель к свету, потом снова пустил отросток. Я и его срезал. Ведь она, моя история, должна не только давать отростки, но и цвести и приносить плоды».
Уподобляя миниатюры «Календаря» отросткам от стебля романа, писатель подчеркивает их единство и родство, общность происхождения.
О том же и миниатюра 99: «Мой роман — старший брат этих маленьких историй. Он ревнив, он толкает меня и теребит: вечно эти малыши».
В обоих случаях иносказание абсолютно прозрачно, поэтически изящно и вместе с тем точно: речь идет о генезисе жанра поэтической миниатюры и о соотношении различных граней творческого процесса.
Каково в самом деле реальное соотношение между «большой» и «малой» прозой Штриттматтера? Не следует ли из сопоставлений, сделанных писателем, что этюды, притчи, сценки «Календаря» — всего лишь «заголовки», «запасник» или, наоборот, «остаток», побочный продукт романа? Вполне ли они идентичны лирическим, философским отступлениям в крупных повествованиях?
При сравнении бросается в глаза стилевое сходство, общность тональности. Приведем пример: «Безлунный вечер. Звезды кишат на небе. Человеку их закон представляется игрой, хаосом. В воду Ласточкиного ручья, некогда приводившего в движение лесопилку, сквозь прорубь опускают кусок стальной проволоки, толщиной в мизинец. Проволока достает до дна. Ни малейшего движения среди окоченевших амфибий. Морозная ночь затягивает ледком прорубь. Земля кружится в мировом пространстве». «Лист падает с дерева. Помнит ли он, что вырос на дереве, что дерево дышало через него? Или уже ощущает себя удобрением для его корней?»
Нелегко определить, что здесь из романа, что из «Календаря». Между тем в первом случае перед нами пассаж из «Оле Бинкопа», во втором — самостоятельная миниатюра «Круговорот». Обобщенно-философичные по содержанию, метафоричные по форме, они различны по степени завершенности, функциональным задачам. Этюд «Круговорот» при всей своей краткости содержит законченное, афористически точное рассуждение о диалектике явлений природы, единстве созидания и разрушения, прорастания и увядания; он представляет из себя замкнутую структуру.
Иное дело — отрывок из романа. Образы микрокосма («Земля кружится в мировом пространстве») возникают в контексте главной идеи романа, поэтически сформулированной вопросом-сравнением: «Так что же тогда деревня на этой земле? Глазок на кожуре подгнившей картофелины или красная точечка на освещенной солнцем стороне наливающегося яблока?» Повторяясь как лейтмотив, он становится отправной точкой историк маленькой немецкой деревни, где чудодей, мечтательный упрямец Оле Бинкоп, борясь со старым миром, взращивает плоды будущего.
Таким образом, философский этюд имеет мнимо завершенный характер, он отличается открытостью по отношению ко всему произведению; полностью его смысл обнаруживается во всем идейно-художественном строе романа.
Вообще же следует отметить, что нередко лирические, философские, пейзажные, социологические отступления в больших полотнах Штриттматтера являются средством концентрации (Verknappung) поэтической формы. Лаконичные по форме, емкие по содержанию, они способствуют углублению проблемности изображения, раздвигают рамки отдельного факта или события, придавая ему характер всеобщности. Это позволяло писателю «экономить» на подробностях описательного характера. Недаром романист, рассказывая о творческих трудностях, подстерегавших его в работе над очередным замыслом, подчеркивал именно эту сторону: «Меня беспокоило, не слишком ли сложно написан «Бинкоп»; пока не пришли первые отклики, меня мучили сомнения, достигнута ли верная манера сокращения, пропуска целевых пассажей — способ заставить читателя думать вместе со мной и сделать для него книгу интересной».
Итак, являясь «младшими братьями» романа, истории «Шульценгофского календаря» обладают своей жанровой спецификой, определить которую автор то и дело стремится на страницах своей книги. Уже в первой миниатюре содержание книги определяется как сборник «радостей», первоначально записанных в десятипфенниговую тетрадку. Но, наряду со столь вольным, дается и более строгое и привычное объяснение: «...теперь они собраны в этой книжке в виде маленьких рассказов или чего-то в этом роде». В самой приблизительности определения признание того, что содержимое книги не может быть сведено к единой жанровой форме. И действительно, пестрые по теме и настроений, внешне как бы случайные и разрозненные этюды, картинки, бытовые сценки, зарисовки натуралиста и пейзажиста, стихотворения в прозе, притчи составляют не сборник, а «календарь всякой всячины», Kramkalender. Kramkalender — жанр немецкой народной литературы, сборник простодушных и занимательных, трогательных и веселых, нравоучительных и смешных рассказов, историй, анекдотов. Любопытно, что диковинное имя Оле в предыдущем романе Штриттматтера было извлечено его матерью именно из этого источника: «Она по нескольку раз в год читала календарь от доски до доски, но охотнее всего — разные заморские истории. Героем одной такой истории был прекрасный невольник по имени Оле». На памяти самого писателя в крестьянском обиходе его родных и односельчан календарь был, по его образному выражению, «навигационным прибором», который вел через многотрудную жизнь.
В календаре «указывалось, когда в нашем округе будет ярмарка рогатого скота, лошадей или мелочных товаров, там же были и предсказания погоды, заимствованные из «Столетнего календаря». В них «говорилось о ненавистных ему (деду) пруссаках, или о лицах, павших от руки убийцы... Календарь помещал также и объявления, предлагавшие вниманию читателей бульварные книжонки...».
С комической интонацией воспроизводит писатель градацию правдивости, сложившуюся в уме неграмотного старого крестьянина: «Все, что дед вычитывал из крестьянского календаря, было для него чистейшей правдой. То, что писалось в газетах, было отчасти правдой, отчасти враньем. В книгах рассказывались сочиненные истории...» Авторская позиция служит здесь выражением дистанции между прошлым и настоящим, отжившим и становящимся мирами, уходящим и молодым поколениями, угнетенным и освобожденным сознанием.
Традиции немецкой народной литературы воскресают у Штриттматтера в свободной форме календаря из двухсот миниатюр, дающей простор для непринужденности, лирической раскованности повествования, которая позволяет воплотить «поэзию пролетающих мгновений повседневной жизни» (Пришвин). Самый переход от одного этюда к другому передает движение времени в естественной смене сезонов в природе и сельских работах, движение мысли от конкретно-чувственных восприятий к жизненным обобщениям и политическим выводам, движение настроения от легкого светлого юмора к серьезности и глубокой философичности создает ощущение множественной целостности поэтической картины мира.
Для Штриттматтера неоспоримы идейно-художественные и социально-воспитательные возможности этого скромного повествовательного жанра. Так, в миниатюре 182, раздумывая о водоотталкивающих свойствах промерзшего войлока, описанных «у русского писателя Пришвина», он делает выводы о большом смысле самых, казалось бы, незначительных художественных открытий: «Чего только не запечатлевается в памяти иной раз из такого вот маленького рассказа, чтобы всплыть при какой-то неожиданной оказии. Или это и есть постоянно воздействующая сила литературы, о которой говорят ученые мужи?»
Мысль о том, что постоянно воздействующей силой обладает не только крупное, объемное, всеохватывающее произведение, но и отдельное, частное образно-поэтическое воссоздание действительности, возвышающееся над натуралистическим копированием жизни, постоянно звучит в «Календаре», каждый раз по-новому свежо и оригинально объясняя устойчивый интерес писателя к избранному им жанру.
Так, в миниатюре 56 «Катастрофа в витрине», рассказав а незадачливых художниках-оформителях, изобразивших в витрине ради рекламы сцену несчастного случая на путях, Штриттматтер описывает и естественный результат такого понимания образности: «Прохожие в страхе отворачивались. «Изобретательные» декораторы своей натуралистической мизансценой достигли обратного эффекта». И далее следует открытое, четко сформулированное заключение: «То же самое, подумалось мне, случается иной раз в наших книгах».
О том же, но по-иному, в миниатюре 93: «Два дня кружились и плясали снежные хлопья, белые атомы зимы, потом все улеглось, воздух стал тише тихого, похолодало... В газетах появились фотоснимки: заснеженная ель — точь-в-точь сахарная голова. Зима — художник». И снова столь же определенное авторское резюме: «Разве неуклюжее подражание можно назвать искусством?»
В приведенных примерах, как и во многих других, ясна видно, что каждая миниатюра, написанная как бы ради заключенного в ней случая или наблюдения, содержит более обширный и обобщенный социально-политический, нравственный, психологический и эстетический смысл.
Вот эпизод 13 — «Чертов нож». История о чудодейственном ноже, который по рассказам деда, побывал в ноге самого черта. Весь тон повествования и детали юмористичны, например: «Нож, конечно, угодил в положенную каждому черту конскую ногу». Или: «Черт-невеличка просит пощады, он бледен и весь дрожит, как школьник после первой сигареты». Завершается же эта история совсем в ином ключе: «Я вспоминаю эту чертовщину, когда в некоторых западных газетах читаю о моей стране и даже о себе самом. По-моему, кое-кто из тамошних газетчиков преподносит истории о нечистой силе по методу моего деда, сербского крестьянина».
Несложна история с починкой стульев (миниатюра 16), которые «из рук плохого столяра... вышли истинными подлецами». Но и она подведена к емкому обобщению: «Хорошо бы всякий раз так расправляться с подлостью».
Этюд 7 «Окольные пути грибов» по содержанию близок к наблюдениям натуралиста. Кончается же он сатирическим рассуждением о крайностях современной литературной моды: «На вот на днях я прочитал, что ученые стремятся создать литературу без писателей. Это меня заинтересовало».
И в этих, и во многих других миниатюрах («Щегол и кобыла», «Слишком рано», «Лесная тропинка», «Летающий луг», «У озера», «Откуда», «Следы», «Шерошница») финал оказывается неожиданным, значительным, переводящим мысль в «ной, укрупненный масштаб, где частность воспринимается в аспекте общественной идеи, философской мысли. Такие миниатюры представляют собой притчи, в которых центр приходится не на само событие, а на завершающую, итоговую мысль. Нередко это сатира на пережиточные явления в быту и сознании, всегда по-штриттматтеровски меткая, разящая. Стилистика финальных фраз или абзацев контрастна к основному тексту, что создает эффект точного попадания в цель.
В иной тональности выдержаны миниатюры, в которых Штриттматтер выступает как натуралист и философ. Меткость наблюдений над жизнью природы соединяется с раздумьями о высшем смысле и содержании бытия, целях человека, его месте среди всего сущего, его долге перед теми, кто придет ему на смену. Именно подобные этюды, представляющие, как правило, пейзажные зарисовки, овеянные светлой печалью, тихой радостью, сердечным теплом, близки к жанру стихотворения в прозе. «Вечерний туман поднимался с лугов. Стемнело, и над лесосекой повисла луна. С озера взлетели дикие утки, целые утиные семьи, летающие косяки. Они летели к золотистому лунному серпу и растворялись в луговом тумане.
Как будто золотая луна что-то пообещала всем этим уткам» (миниатюра 82 «Утки и луна»).
«Желтизна на деревьях прибавляется с каждым днем. Мягко веет ветерок, и листья, кружась падают на землю.
Я думаю о том, что неизбежно» (миниатюра 179 «Осень»).
«Дул северный ветер. Снег падал медленно, как перышко подстреленной птицы. Кусты промерзли насквозь. В одном из них притулилось гнездо. Ветер выдул из него все перья.
Олени понуро бродили по траве. Под деревьями оставалась паутина их следов. Где-то притаился голодный лунь, зорко подстерегавший добычу.
Охотники в санях ехали на охоту, небо было красное, на облаках появилась зеленая кайма, быстро спускались сумерки. Луна походила на апельсиновую дольку.
Я ехал верхом, наполняя легкие северные ветром. И пел задорную любовную песнь, пел любовную песнь, несмотря на мороз и северный ветер. Она окрыляла меня, придавала мне силы» (миниатюра 193 «Северный ветер»).
«Девять молодых лебедей было в мае, восемь в июне, шесть в сентябре. Кто отнял у озера трех лебедей? Коршун, лунь, большая щука? Жизнь отняла лебедей у озера. Человек не бросает злых слов вслед жизни. Ее прожорливость он зовет смертью» (миниатюра 79 «Лебеди»).
В «стихотворениях в прозе» Штриттматтер наиболее близок к своим русским учителям — Тургеневу, Пришвину, с которыми его роднит стремление опоэтизировать, одухотворить повседневное в природе и человеке. Но в тоже время к нему в высшей степени приложимы слова Пришвина о том, что «в искусстве слова все являются учениками друг друга, но каждый идет своим собственным путем».
Самобытность, неповторимый национальный колорит возникают у немецкого писателя благодаря глубокой связи с традициями народной жизни и отечественной литературы: народной и бюргерской литературы прошлых веков, прозы старших современников — революционных писателей первого поколения, из которых наиболее близок ему Брехт. Родство с брехтовской манерой особенно отчетливо проступает в миниатюрах притчевого характера, где контраст финала, «морали» с общим содержанием эпизода выступает как своеобразное преломление эффекта «очуждения». Традиции же народных календарей проявляются в поэтизации сельской жизни и труда, простодушном юморе, которым овеяны образы односельчан, деда, бабки, сыновей.
«Наивный взгляд на вещи представляется мне особенно интересным», — сказал как-то Штриттматтер, выразив тем самым один из важнейших тезисов своей творческой программы. Речь идет не о каких-то определенных мотивах или темах, но о единой социальной и философско-эстетической концепции, лежащей в основе новаторства писателя как оригинального мастера литературы социалистического реализма.
Поэтическая наивность (poetische Naivität) рассматривается Штриттматтером в аспекте общественных и воспитательных задач современного искусства. В этом он выступает соратником Брехта, полемизировавшего с теми теоретиками, которые считали, что прекрасное создается на иных путях: «Они серьезно полагают, что совершенство в искусстве может быть достигнуто без поэтической наивности. Наивное — категория эстетическая и притом конкретнейшая».
Штриттматтер тесно связывает эту проблему с условиями жизни человечества в век научно-технической революции, когда особую социальную остроту приобрели вопросы взаимосвязи человека и природы, сохранения духовных ценностей, которые возникают в этом союзе. Отсюда вытекает повышенный интерес писателя к ощущениям детства и юности, отличающимся поэтической непосредственностью, одухотворенностью, свежестью.
В предисловии к книге «Голубой соловей» Штриттматтер ставит тревожащие его вопросы: «Годами пытаюсь я понять вещь, а именно: откуда возникает в детстве и юности состояние поэтичности и безмятежности (Zustand von Poesie und Schwerelosigkeit), которое кажется нам столь неповторимыми? Действительно ли его нельзя вернуть? Утрачено ли оно безвозвратно?»
Писателя столь жизнерадостного и жизнедеятельного, как Штриттматтер, нельзя обвинить в пессимизме. Обращаясь к поэтической наивности как важнейшей эстетической категории современного социалистического искусства, он убежден, что без нее не может быть никакого настоящего, содержательного, живого творчества. Именно она помогает художнику выявить в человеке его подлинное, истинное, его сущность, подавленную веками социального гнета, высвободить в человеке все лучшее, что поможет ему стать строителем нового мира.
В пестроте «Шульценгофского календаря» этот мир поэтической наивности оживает в веренице героев оригинального душевного склада, мечтателей, искателей, чудодеев. Но это уже не одинокие чудаки старой немецкой литературы, лелеющие свою погруженность во внутренний мир (Innerlichkeit), но персонажи, подобные Оле Бинкопу, а он «был мечтатель, но не из таких, что сидят в уголке жизни, дожидаясь чуда. Он действовал и действиями старался протолкнуть свои мечты в жизнь». Писателя увлекают цельные натуры — простодушные дети, мудрые деревенские старики. Сынишка Маттес верит, что два клочка золотой фольги — это кораблики (миниатюра 3), при свете луны он собирает первые фиалки (миниатюра 4), а другой, Илья, находит копье и огниво там, где братья видят просто камни (миниатюра 29).
И дед-фантазер, веривший в собственные россказни и высасывавший из трубки множество историй, — сквозной персонаж «Календаря», воплощение крестьянской, а шире —народной мудрости, умевший здраво и справедливо судить о людях, до конца своих дней хранить верность первой любви (миниатюра 23 «Настоящая бабушка»), чутко прислушиваться к голосам природы, понимать «души» вещей и событий. В миниатюре 4 «Мир моего деда» писатель с гордостью и любовью рисует этот самобытный характер: «Дед дожил до девяноста лет, и никогда я не видел его унылым и немощным... Когда весной в огороде прорастал кочанный салат и ветер играл его бледно-зелеными листьями, дед говорил: «Скоро лето, салат уже ушами шевелит». Животные у него обладали даром речи, и он переводил ее на язык человеческий. Кот, стоя у сарая, говорил кошке, взобравшейся на сеновал: «Катарина, выходи на шуры-муры, шуры-муры!» Жеребец, завидев кобылу, восклицал: «И-го-го, вот и я!» А синица пела: «Уже сижу здесь, уже сижу!»... Дятел, как уверял дед, весной кричал: «Вей, вей, вей!», а осенью: «Тки, тки, тки!..» Иногда мне думается, что дед был поэтом, только суровая жизнь не дала ему времени записать, каким ему виделся мир».
Подобные миниатюры, в центре которых стоит образ реального лица, в жанровом отношении близки к короткому рассказу. В основе их — житейское наблюдение, бытовая сценка, случай, неброское событие, как будто неприметные и малозначительные в широком потоке бытия, но вместе с тем обращенные к самым истокам человеческого, к выявлению прекрасного, поэтически наивного. Штриттматтеру в высокой степени присуще качество, отмеченное Горьким у Пришвина, которое он выразил так: «Вы умеете измерять и ценить человека не по дурному, а по хорошему в нем... хорошее в человеке — самое удивительно из всех чудес, созданных и создаваемых им».
В том же ряду находятся и этюды об известных деятелях немецкой литературы и искусства — Брехте, Гешоннеке, Эйслере. Рассказы о комической ситуации, забавном случае, безобидной выходке, наивном чудачёстве, маленьких человеческих слабостях содержат в подтексте важную мысль о содружестве, творческой взаимопомощи художников новой, социалистической Германии. Облеченные в форму смешного анекдота, они серьезны, а нередко и печальны, и философичны в своем внутреннем течении. Так, в историях о Брехте («Воспоминание клиентов», «Брехтова крапивка», «Кресло», «Кошка», «Шляпа» и др.) за образом простодушного и незадачливого в житейских мелочах интеллигента-книжника встает твердый, принципиальный в вопросах политики и искусства добрый друг, мудрый наставник в жизни и литературе.
К этим миниатюрам примыкают и другие, в которых образ автора раскрывается непосредственно в размышлениях об источниках, цели, смысле, назначении писательского труда.
Мысли писателя об этих вечных проблемах искусства заключены в неповторимо индивидуальную оболочку, являются в совершенно необычном, непредсказуемом контексте. Так, например, в этюде «Следы» (156) рассказчик, который «набил карманы черствым хлебом, оседлал серую кобылу и поскакал навстречу воскресному дню», внимательно и любовно всматривается и вслушивается в краски и звуки зимней природы, наблюдает за повадками зверей — кабанов, оленей, разглядывает следы, оставленные ими на снегу. Но, как это бывает с подлинным художником, творческий процесс идет безостановочно, и в эти минуты, казалось бы, безмятежного отдыха рассказчик-писатель поглощен своим главным делом, и вот рождается неожиданное сравнение, а вслед за ним и почти интимное признание: «Насколько же труднее прочитать по следам, которые оставляют люди, что они сделали и чем пренебрегли», — подумал я, и предвкушение этого труда сделало меня счастливым».
Сближая труд писателя с деятельностью различных живых существ, Штриттматтер снова находит неожиданное сравнение, исполненное глубокой поэтической наивности: «Мой день начинается с вылета скворцов. Они ищут червяков — я ищу слова».
В образе рассказчика, в его способности мыслить категориями природы и поэзии, представлять сельскую жизнь без идеализации, находить высшую красоту в повседневном ощущается реальная близость писателя к большим историческим переменам, пережитым немецким крестьянством в годы строительства социализма в ГДР. В интервью радиокорреспонденту В. Новойскому он убежденно заявил, что «ради того, чтобы постичь поэзию определенного труда, нужно, чтобы писатель постоянно жил, встречался, разговаривал, работал вместе с другими, чтобы чувствовал то же, что они, когда трудятся и отдыхают». И не случайно В. Ульбрихт назвал Штриттматтера «новым типом социалистического деятеля искусства, который сочетает в себе научное мировоззрение с богатым жизненным опытом и которому чужда позиция стороннего наблюдателя».
Особенности повествовательной формы в «малой прозе» Штриттматтера привлекают внимание литературоведов Германии, поскольку в ней выявляются новые тенденции, характерные не только для творчества этого писателя, но и для целого периода литературного развития, обозначающегося в середине 60-х гг.
Так, К. Ярматц устанавливает, что после «Оле Бинкопа» в произведениях Штриттматтера возникает стремление дистанцированию повествования как результат более глубокого художественного осмысления писателем мировоззренческо-философских проблем. При этом, однако, появляется опасность утраты непосредственности, поэтической наивности, составляющих ранее непоколебимую основу творческой манеры писателя. По мысли критика, новое состоит в поисках Штриттматтером равновесия между разными элементами повествовательного стиля. В качестве примера приводится миниатюра 23 «Ящерка»:
«Я лежал у лесного озерца за конским выгоном. И, поддавшись весеннему дурману, подглядывал за любовными утехами ящериц, словно это было невесть как важно для моей писательской работы. Быстрым, с детства заученным движением я схватил самочку. Она барахталась передо мной в мокрой, пахучей траве, а я радовался, не зная, радуюсь ли тому, что вот сумел воскресить для себя кусочек детства, или тому, что удивлю своего сына Маттеса, или что в пятьдесят лет я еще достаточно ловок, чтобы поймать ящерицу.
Я подошел к лошади и, опорожнив нагрудный карман куртки, сложил в седельную сумку бинокль, фотоаппарат и записную книжку, а ящерку сунул в карман и застегнул «молнию». Все это я проделывал неторопливо, хотел донести до дому веру в то, что некоторые весенние происшествия могут повторяться, не причиняя боли и сожаления».
Действительно, в центре этюда — рассказчик, раскрывающийся одновременно как бы в двух измерениях: это и человек лирического склада, легко поддающийся «весеннему дурману», ощущениям воскресшего детства, увлеченный погоней за ящерицей, мечтающий подарить радость ребенку, но вместе с тем это и писатель; которого никогда не покидают творческие замыслы, философ, размышляющий о бремени возраста, диалектике чувств, способный к точному анализу своих переживаний, скрупулезной фиксации каждого движения, душевного и физического.
Таким образом, Штриттматтер вносит в литературу опыт человечества, сохраняя эпическую объективность и не уничтожая непосредственного переживания. В произведениях «малой прозы» подобная повествовательная манера как бы опробывается, «проигрывается» на небольшой площадке поэтической миниатюры, чтобы в дальнейшем получить выход в «большую прозу». Но несомненна и ее собственная эстетическая ценность.
«Шульценгофский календарь» — точно двести маленьких зеркал большого мира, окружающего современного человека и содержащегося в нем самом. Здесь, как и во всем творчестве Штриттматтера, художественно воплощена мысль о естественно исторической сущности человека.
«Малая проза» Штриттматтера — принципиально новое и плодотворное явление литературы Германии. В. Нейберт назвал «Шульценгофский календарь» книгой, «которая в течение полудесятилетия стала синонимом совершенства и глубины «малой прозы»... речь здесь идет о вещах, которые хотя и кажутся незначительными, в действительности ими не являются». В статье Г. Плавиуса подчеркивается, что «малая проза» сама по себе не является мелкой или незначительной, если она не отгораживается от жизни».
Как мастер поэтической миниатюры Штриттматтер доказал, что ее идейно-художественные горизонты определяются гражданственной позицией и талантом художника.
Л-ра: Проблемы метода и жанра в зарубежных литературах. – Свердловск, 1982. – С. 79-90.
Произведения
Критика