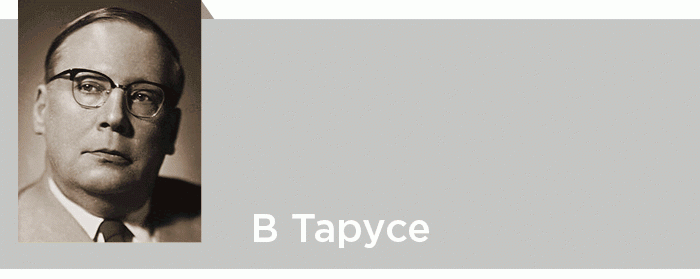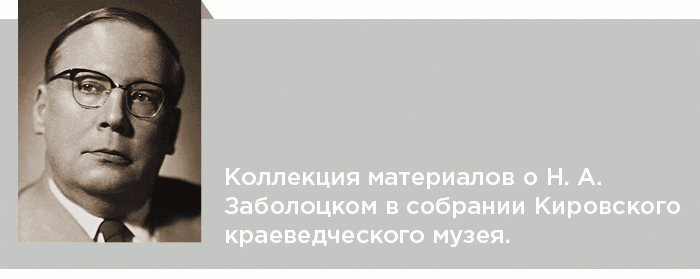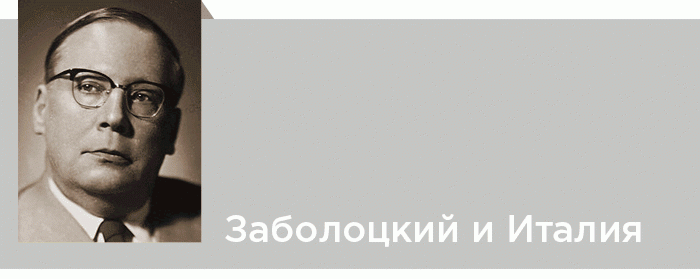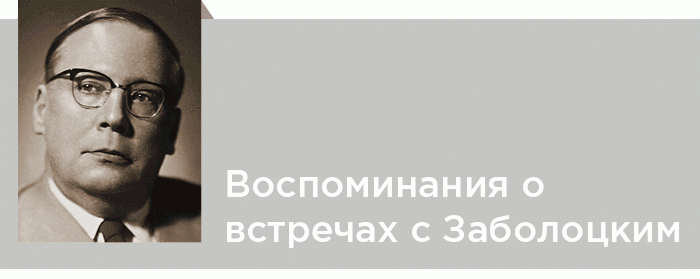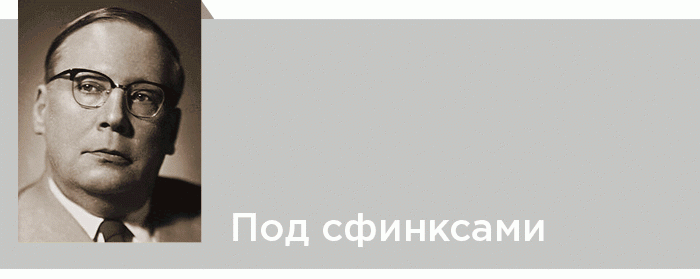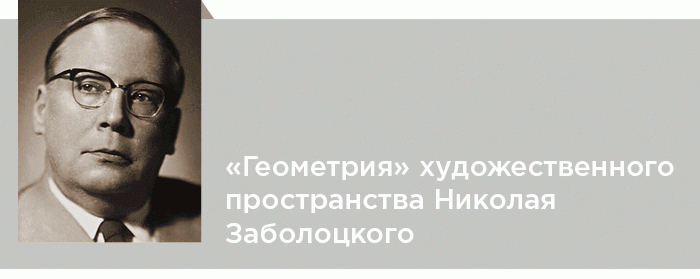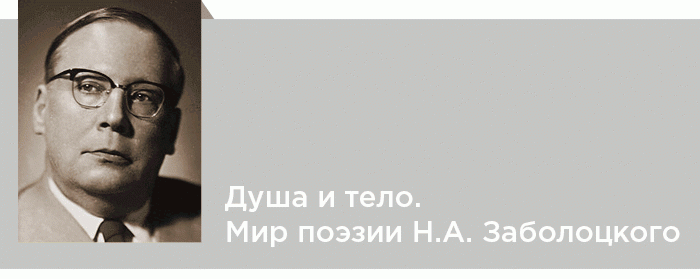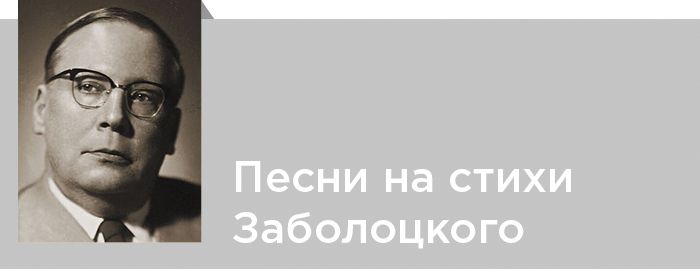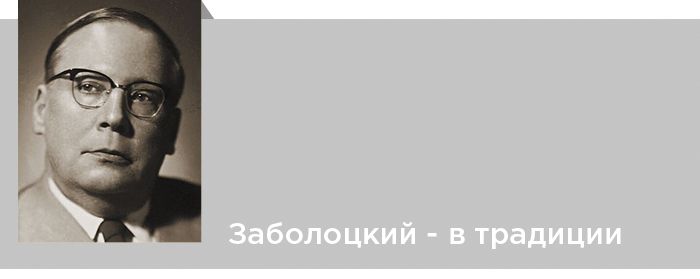Победивший косноязычье мира...

СЕРГЕЙ КУНЯЕВ
ПОБЕДИВШИЙ КОСНОЯЗЫЧЬЕ МИРА...
В воспоминаниях Игоря Бахтерева описывается визит Николая Заболоцкого в гости к Николаю Клюеву. Причем, судя по этим воспоминаниям, молодые поэты пришли, изначально настроившись на зрелище. И их любопытство было удовлетворено полностью.
Клюев встретил обериутов в своей неизменной поддевке и смазных сапогах, заговорил с ними елейным голосом, предложил угощение. Заболоцкий смотрел-смотрел — и выдал нечто вроде следующего: “Николай Алексеевич, мы с вами поэты, серьезные люди, к чему весь этот маскарад?” Клюев, обронивший до этого “сказывай, Николка, сказывай, от тебя и терний приму”, — мгновенно изменился. Холодными глазами воззрился на сопровождающих: “Вы кого ко мне привели? Али я не хозяин в своем доме? Могу и канкан сплясать”. И тут же продемонстрировал знание канкана.
Бахтерев, зафиксировав эту сцену через много лет, подводил читателя к мысли о полном неприятии бесхитростным Заболоцким какого бы то ни было притворства. Но дело не в “бесхитростности” Заболоцкого и не в “притворстве” Клюева, которого, судя по всему, обериуты на дух не переносили. Заболоцкий, как бы он ни относился к Клюеву по-человечески, находился под его огромным поэтическим влиянием в конце 20-х и в первой половине 30-х годов. Это, в отличие от многих литературоведов, тонко прочувствовал великий русский композитор Георгий Свиридов, о котором когда-нибудь будет написана фундаментальная работа под условным названием “Свиридов — читатель русской классической поэзии”. В своих записных книжках он не единожды обращался к имени и поэзии Клюева и, в частности, оставил любопытную запись.
“Влияние Клюева не только породило эпигонов, имена которых ныне забыты. Его мир вошел составной частью в творческое сознание: Блока, Есенина, Александра Прокофьева, Павла Васильева, Б. Корнилова и особенно, как ни странно,— Заболоцкого в его ранних стихах, Николая Рубцова”.
Эту же мысль Георгий Свиридов повторил в письме к Сергею Субботину от 14 ноября 1980 года: “Повлиял Клюев и на А. Прокофьева (ранние, лучшие его стихи), и на Заболоцкого (как это ни странно), и вообще на многое в литературе”. Причем дважды повторил слово странно в применении к мысли о влиянии Клюева на Заболоцкого. Видимо, было ощущение властного воздействия клюевского мира на поэзию, казалось бы, безнадежно далекого от него и даже чуждого поэта. Но в чем это воздействие проявилось — Свиридов не расшифровал.
А между тем весь фантасмагорический кошмар “Столбцов” исходит не только из гоголевских видений “Невского проспекта” и “Носа”, о чем уже говорили некоторые исследователи. Неявное, но сильное соприкосновение с предреволюционными стихами Николая Клюева из первого тома “Песнослова” становится очевидным при углубленном сопоставлении.
Помню столб с проволокой гнусавою,
Бритолицых табачников нехристей;
С “Днесь весна” и с “Всемирною славою”
Распростился я, сгинувши без вести.
Столб кудесник, тропка проволочная
Низвели меня в ад электрический...
Я поэт — одалиска восточная
На пирушке бесстыдно-языческой.
Надо мною толпа улюлюкает,
Ад зияет в гусаре и в патере,
Пусть же керженский ветер баюкает
Голубец над могилою матери.
(Николай Клюев)
“Ад электрический” и “пирушка бесстыдно-языческая” правят свой бал в “Столбцах”, где господствует пир уродливой плоти, калейдоскоп утративших органическую связь друг с другом разрозненных деталей городского пейзажа, наводя на мысль о сущей обреченности человека в этом мире смерти и распада.
Мужчины тоже все кричали,
они качались по столам,
по потолкам они качали
бедлам с цветами пополам;
один — язык себе откусит,
другой кричит: я — иисусик,
молитесь мне — я на кресте,
под мышкой гвозди и везде...
К нему сирена подходила,
и вот, колено оседлав,
бокалов бешеный конклав
зажегся как паникадило...
Оба они — и Клюев, и Заболоцкий — были внимательными читателями “Философии общего дела” Николая Федорова. “Город есть совокупность небратских состояний”, — эту федоровскую мысль Клюев воплощал в своей поэзии в плане эсхатологическом, описывая в цикле “Спас” пришествие Христа на стогны предреволюционного Петербурга.
Питер злой, железногрудый
Иисусе посетил,
Песен китежских причуды
Погибающим открыл.
Петропавловских курантов
Слушал сумеречный звон,
И “Привал комедиантов”
За бесплодье проклял он.
Через считанные год-два в “Медном ките” бесплодный Петербург обретает черты совершенно апокалиптические.
Всепетая Матерь сбежала с иконы,
Чтоб вьюгой на Марсовом поле рыдать
И с псковскою Ольгой за желтые боны
Усатым мадьярам себя продавать.
О горе! Микола и светлый Егорий
С поличным попались: отмычка и нож...
Смердят облака, прокаженные зори,
На Божьей косице стоглавая вошь.
И еще через 10 лет Заболоцкий, подхватывая эту отчаянную, остервенелую ноту, рисует свои “немые стогны града”, где злость и бесплодье уже настолько привычны, что можно лишь отстраненным взглядом, в котором сочетаются истерическое спокойствие и ироническая ухмылка, созерцать картины “нового нэповского быта”, который уже спустя десятилетия воцарился в Петербурге, бандитском и разграбленном, помпезно отмечающем свое 300-летие. Фантасмагории поэта обретают в современной реальности новую зримую плоть.
Качались кольца на деревьях,
опали с факелов отрепья
густого дыма, а на Невке
не то сирены, не то девки —
но нет, сирены — шли наверх,
все в синеватом серебре,
холодноватые — но звали
прижаться к палевым губам
и неподвижным, как медали.
Но это был один обман.
...................................
Вертя винтом, шел пароходик
с музыкой томной по бортам,
к нему навстречу лодки ходят,
гребцы не смыслят ни черта;
он их толкнет — они бежать,
бегут-бегут, потом опять
идут-задорные-навстречу.
Он им кричит: я искалечу!
Они уверены, что нет...
И всюду сумасшедший бред.
* * *
Поэма “Безумный волк” оставалась одним из любимейших произведений Заболоцкого. Диалоги животных в предощущении полного крушения старой жизни в старом лесу странным образом перекликаются с предсмертной молитвой, возносимой к небу зверями и птицами — насельниками древнего Выга, — в клюевской “Погорельщине”. Перед самосожжением “степенного свекра с Селиверстом” Божьи твари выслушивают прощальное слово уходящих в горние выси пред наступлением Антихриста.
И молвил свекор: “Всемогущ,
Кто плачет кровию за тварь!
Отменно знатной будет гарь,
Недаром лоси ломят роги,
Медведи, кинувши берлоги,
С котятами рябая рысь
Вкруг нашей церкви собрались!
Простите, детушки, убогих!
Мы в невозвратные дороги
Одели новое рядно...
Глядят в небесное окно
На нас Аввакум, Феодосий....
Мы вас, болезные, не бросим,
С докукою пойдем ко Власу,
Чтоб дал лебедушкам атласу,
А рыси выбойки рябой...
Живите ладно меж собой.
Вы, лоси, не бодайтесь больно,
Медведихе — княгине стольной —
От нас в особицу поклон, —
Ей на помин овса суслон,
Стоит он, миленький, в сторонке...
Тетеркам пестрым по иконке, —
На них кровоточивый Спас, —
“Пускай помолятся за нас!”
Не выворачивается ли наизнанку эта молитва в посмертной речи Председателя, посвященной Безумному волку, у Заболоцкого? Ведь тот же Медведь, вопреки очевидному, таит надежду, что “еще не ломаются своды у вечнозеленого дома”. Тогда как лес уже “обезумел” под стать герою поэмы, обратившему свой взор на “звезду Чигирь” перед прыжком в небеса — словно “прыгун” из одноименной секты, жаждущий переселиться на небо. В поисках духовного совершенства он пародирует и Нила Столпника, рассказывая о своей попытке превращения в иную ипостась.
Однажды ямочку я выкопал в земле;
засунул ногу в дырку по колено
и так двенадцать суток простоял.
Весь отощал, не пивши и не евши,
но корнем все-таки не сделалась нога,
и я, увы, не сделался растеньем.
Природное дитя, порвавшее связь с природой, уходит и от своих собратьев, мечтающих скрепить части раздробленного целого с помощью науки, призванной “от мира зло отсечь”. Сам же он, возомнивший себя “гладиатором духа”, способен лишь расстаться с жизнью в своем поиске высшего смысла под грохот дикой какофонии преображающегося природного мира, обезумевшего, как и его порождение.
Я помню ночь, которую поэты
изобразили в этой песне.
Из дальней тундры вылетела буря,
рвала верхи дубов, вывертывала пни
и ставила деревья вверх ногами.
Лес обезумел. Затрещали своды,
летели балки на голову нам.
Шар молнии, огромный, как кастрюля,
скатился вниз, сквозь листья пролетел,
и дерево как свечка загорелось.
Оно кричало страшно, словно зверь,
махало ветками, о помощи молило.
А мы внизу стояли перед ним
и двинуть пальцами от страха не умели.
Мир не просто выталкивает из своих пределов слишком много возомнившее о себе существо. Это существо своей необузданной гордыней начинает искажать все вокруг себя и способствует крушению мирозданья. К такому выводу неизбежно пришел Заболоцкий, и, по существу, этим объясняется его резко отрицательное отношение ко всей современной ему поэзии XX века, слишком сосредоточенной на себе, к поэтам, уделяющим, по мнению Заболоцкого, слишком много внимания своей индивидуальности, о чем предельно точно написал В. В. Кожинов: “Естественно, что Заболоцкий, провозглашавший себя только “произведением мира” и “единицей общества”, не мог восхищаться поэзией, лирический герой которой в той или иной мере склонен, напротив, полагать себя “творцом мира” и “избранным”, а не одной из бесчисленного множества “единиц”. Через много лет мотив “Безумного волка” отозвался лишь в знаменитом стихотворении о лебеди (“животное, полное грез”), когда эти разрушительные грезы 20—30-х годов уже были изжиты поэтом, а сам он после тяжелейших тюремных и лагерных испытаний пришел к единственной мудрости — “точному смыслу народной поговорки”, отразившейся в стихотворении “В новогоднюю ночь”.
Как давно все это пережито...
Новый год стучится у крыльца.
Пусть войдет он, дверь у нас открыта,
Пусть войдет и длится без конца.
Только б нам не потерять друг друга,
Только б нам не ослабеть в пути...
С Новым годом, милая подруга!
Жизнь прожить — не поле перейти.
Стоит обратить внимание, что такой же строкой завершается полное гордыни стихотворение “Гамлет” Пастернака, написанное примерно в то же время, когда Пастернак якобы отверг свой “стиль до 1940 года”.
* * *
Гневные слова Ахматовой о последней прижизненной книге Заболоцкого записала в 1957 году Л. Чуковская.
“— Да ведь это страшная книга!— бурно заговорила Анна Андреевна.— Просто страшная. В ней встречаются хорошие стихи, это правда, но нет лица поэта, нет лирического героя, нет эпохи, нет времени... Грузия вся насквозь переводная... Правильно говорит Маршак, что поэзия Заболоцкого выросла на обломках русской классики... И, как хотите, Лидия Корнеевна, а строка “Животное, полное грез” — это, в своем роде, “мое фамилие”.
Дальше — больше. “Я прочла Анне Андреевне вслух “Последнюю любовь”. Ей не понравилось. Она прочитала сама, глазами — не понравилось опять. Нападки ее оказались, как всегда, совершенно неожиданными и на этот раз, к тому же непостижимыми для меня.
— При чем тут шофер? — говорила она сердито.— Почему я должна смотреть на влюбленных глазами шофера? Ведь не смотрел же Блок на “две тени, слитых в поцелуе”, глазами лихача!..”
По ее разумению, читатель должен видеть в любовном стихотворении самого поэта и все любовные переживания оценивать через его восприятие. Но для позднего Заболоцкого принципиальным было изгнание из стихов именно “лирического героя”, каких бы то ни было следов самовыражения и самопоказывания. “Обломки русской классики” стали для него необходимыми — ибо в кристальной законченной классической форме он мог отстраниться от сюжета, от эмоционального выплеска собственного переживания, изживая стихию распада, свойственную его ранним стихам. Он сделал, по сути, невозможное — отодвинув в лирическом стихотворении себя, а с собой и читателя на необходимое расстояние для постижения объема жизни, полнокровного течения бытия, не заостряя внимания собеседника на собственной личности. Ведь “Последняя любовь” — стихотворение, имеющее автобиографическую основу, что подчеркнула в своих воспоминаниях Наталья Роскина.
“Вечером того же дня мы поехали кататься,— как он любил, в большой машине. Мы сидели рядом, соединенные чем-то значительным и разъединенные чем-то еще более значительным. Случайный прогулочный маршрут привел машину к клиникам института на Пироговке. Около скверика, где памятник Пирогову, Николай Алексеевич предложил остановиться. Мы вышли из машины, чтобы пройтись по скверику. Та осень была удивительно теплой, и живы были еще какие-то нетронутые морозом цветы. Шофер охотно ждал нас, опустив голову на руль. “Интересно, что он о нас думает — кто мы, зачем мы тут, кем мы приходимся друг другу? — задумчиво произнес Николай Алексеевич. — Об этом шофере я напишу стихотворение”... Мы действительно чувствовали себя бездомными, как и описано в этом стихотворении”.
Но стихотворение не о “нас”, а о шофере, прозревающем в увиденном неизмеримо большее, чем два героя этого целомудреннейшего любовного произведения в русской поэзии, герои, отдаленные как от безмолвного свидетеля происходящего, так и от самого поэта.
Вдалеке через стекла кабины
Трепетали созвездья огней.
Пожилой пассажир у куртины
Задержался с подругой своей.
И водитель сквозь сонные веки
Вдруг заметил два странных лица,
Обращенных друг к другу навеки
И забывших себя до конца.
...................................
И они, наклоняясь друг к другу,
Бесприютные дети ночей,
Молча шли по цветочному кругу
В электрическом блеске лучей.
А машина во мраке стояла,
И мотор трепетал тяжело,
И шофер улыбался устало,
Опуская в кабине стекло.
Он-то знал, что кончается лето,
Что подходят ненастные дни,
Что давно уж их песенка спета, —
То, что, к счастью, не знали они.
В это же время Заболоцкий посвятил Наталье Роскиной другое стихотворение, совершенно противоположное по тону, выразившее весь его эмоциональный, душевный порыв, как бы “раскрывшее” его самого. Неудивительно, что это неестественное для него стихотворение ему не нравилось, он не отдал его в печать и лишь попросил свою подругу сохранить текст. Закономерно, что оно не вошло ни в книгу “Огонь, мерцающий в сосуде”, составленную Никитой Заболоцким, ни в последний по времени том, изданный в большой серии “Новой библиотеки поэта”.
Унесу я твою золотую красу,
Унесу.
Унесу, чтобы птицы и те закричали в лесу,
Унесу.
Унесу, чтобы ветер запел, чтобы вихрь застонал,
Унесу.
Унесу, чтобы вздрогнул на небе созвездий обвал,
Унесу.
Ты — одно мое счастье, великое чудо мое,
Заодно и несчастье, и горькое горе мое.
И откуда взялась ты, откуда явилась ко мне
В день, когда уж висел я, болтаясь на тонком ремне!
Ты есть лучшая часть непогибшей моей,
несметенной души.
Напиши мне хоть слово одно,
хоть словечко одно напиши!
Не отец я тебе, не учитель тебе, не любовник, не муж.
Не знаток я людей, не художник идей, и неловок к тому ж.
Я — забытый ребенок, забытый судьбой, позабытый
в осеннем саду.
Озираясь с тоской, спотыкаясь с мольбой,
лишь к тебе я бреду.
И тебя увидав, и тебя повстречав, и упав на пути
пред тобой,
Слышу: крылья растут! Слышу: трубы поют у меня, у меня
за спиной!
И теперь я тебя никогда, никогда не отдам никому...
Никакого подобного “открытого” чувства он больше не позволил себе в конце жизни. Даже цикл “Последняя любовь”, где сам поэт является действующим лицом, проникнут холодком отстранения от происходящего — там природа не противник и не “вековечная давильня”, а союзник, скрадывающий остроту чувства, помогающий отойти на необходимую дистанцию от предмета обожания — как в “Чертополохе” или в “Можжевеловом кусте”. Кстати, этот холодок остался непонятен многим, еще не утратившим восхищения “Столбцами”. Та же Наталья Роскина, достаточно проницательная дама, отметившая человеческое и поэтическое одиночество Заболоцкого, повторяет общее место об “удушении таланта”, что якобы сказалось на его поздней манере. Я полагаю, трудно нанести большее оскорбление поэту, выстрадавшему свою нелегкую эволюцию, как будто не замечая его собственной неустанной углубленной душевной работы. Ведь даже такие “хрестоматийные” стихотворения, как “Некрасивая девочка” или “Любите живопись, поэты!..”, оставили его неудовлетворенным. Выслушав необходимые восторги, он спокойно отреагировал: “Да, это говорили мне многие недалекие люди”.
А что касается Ахматовой, стихов которой он совершенно не переносил, то Заболоцкого раздражали эгоизм и гордыня, ощутимые в ахматовской поэзии, даже сравнительно поздней. И здесь, пожалуй, стоит еще раз вспомнить Георгия Свиридова и его реакцию на ахматовские произведения.
“Сейчас, в наши дни, в большой моде искусство первой половины XX века, в поэзии — это Пастернак, Ахматова, Цветаева, Гумилев, Мандельштам, прекрасные, настоящие поэты, занимающие свое почетное место в русской поэзии, которое у них уже нельзя отнять.
Творчество этих поэтов, в сущности — л и р и ч е с к о е с а м о в ы- р а ж е н и е, личность самого поэта в центре их творческого внимания, а жизнь — как бы фон, не более чем рисованная городская декорация, видная за спиной актера, произносящего свой монолог...”.
“В поэзии Ахматовой (весьма однообразной по стиху, по ритмике, несвежей по формам и словарю) скрыто нечто ущербно-порочное, что-то от дортуаров учебного заведения для девочек, где под ликом умильной благовоспитанности процветают онанизм, лесбиянство, восторженно-порочная дружба и прочие грязные дела... Не могу никогда избавиться от этого ощущения. В этой поэзии есть что-то противное здоровому мироощущению.
От стихов и высказываний Ахматовой, да и от нее самой, как-то пахнет дортуаром женского учебного заведения, со всеми его особенностями и скрытыми пороками”.
Может быть, Заболоцкий не высказывался об Ахматовой в таких резких выражениях, но основной импульс неприятия ее поэзии, мне думается, был родственен свиридовскому. Впрочем, и сама Ахматова отдавала себе отчет в далеко не благотворных глубинах собственного поэтического мира, что подчас вырывалось в прямых признаниях.
Мне зрительницей быть не удавалось,
И почему-то я всегда вклинялась
В запретнейшие зоны естества...
и неспроста в этом же стихотворении:
Но близится конец моей гордыни...
А далее:
Как той, другой — страдалице Марине —
Придется мне напиться пустотой.
В отношении Заболоцкого к Ахматовой отразилось его отношение ко всей утонченно-сладострастной поэзии Серебряного века, в том числе и к поэзии “страдалицы Марины”, впитавшей в себя все пороки предреволюционной эпохи. Справедливости ради надо сказать, что демонстративным (или даже агрессивным) культом греха было тронуто творчество всех “жрецов искусства” Серебряного века, начиная от Валерия Брюсова и до Михаила Кузмина, от Вячеслава Иванова и до Николая Клюева... А что уж говорить о Марине Цветаевой или Надежде Мандельштам! Многие публикации последних лет свидетельствуют о том, что жесткие размышления Георгия Свиридова об Ахматовой вполне приложимы к их жизни и творчеству. Разрушение большевиками храмов после революции было подготовлено изгнанием совести из душ человеческих в эпоху Серебряного века. “Нас отравившая свобода” — эти слова Есенина, в сущности, относятся ко всему богоборческому, демоническому “восстанию”, овладевшему “творческой интеллигенцией” той эпохи. И на этом тлетворно-сладостном фоне “хлестнувшей дерзко, за предел нас отравившей свободы” явление Николая Заболоцкого с его нравственной волей было событием редчайшим, своего рода чудом...
* * *
Живой человек, как одно целое с мирозданием, ведущий с ним непрерывный диалог — главный объект поздней поэзии Заболоцкого. Найти в классической форме русского стиха необходимое равновесие между героем и миром — задача наисложнейшая. И результаты, достигнутые Заболоцким в таких стихотворениях, как “Слепой”, “Жена”, “Журавли”, “Прохожий”, “Лебедь в зоопарке”, “Где-то в поле возле Магадана...”, “В кино”, стали тем образцом, приблизиться к которому творчески кажется просто, но, по сути, практически невозможно. Анатолий Передреев недаром в стихотворении, посвященном Заболоцкому, точно оценивал значение поэтического подвига старшего собрата:
Тебе твой дар простором этим дан,
И ты служил земле его и небу
И никому в угоду иль потребу
Не бил в пустой и бедный барабан.
Ты помнил тех далеких, но живых,
Ты победил косноязычье мира,
И в наши дни ты поднял лиру их,
Хоть тяжела классическая лира!