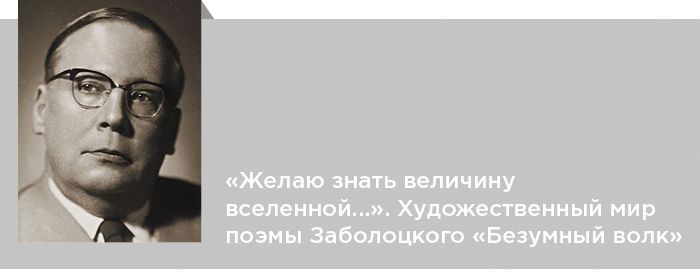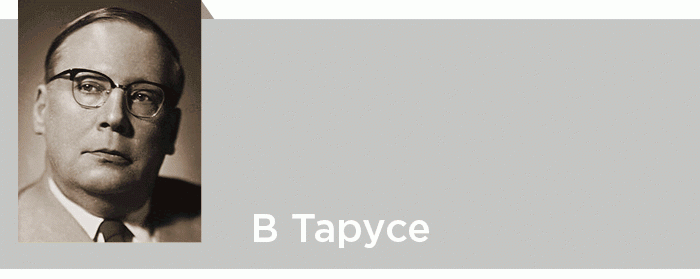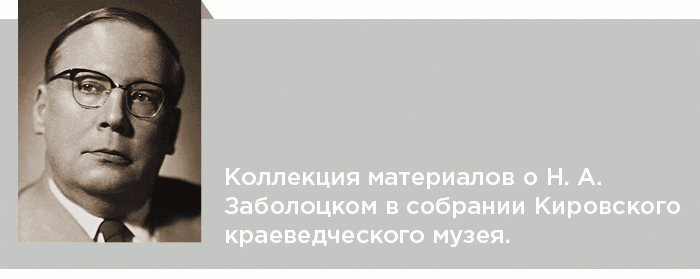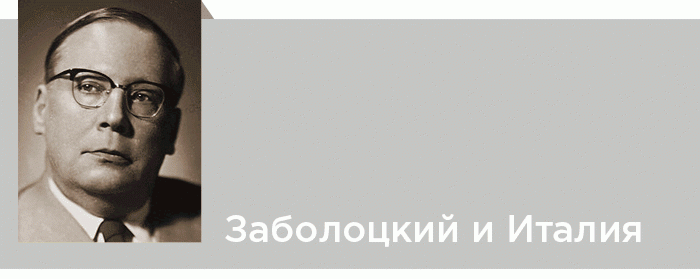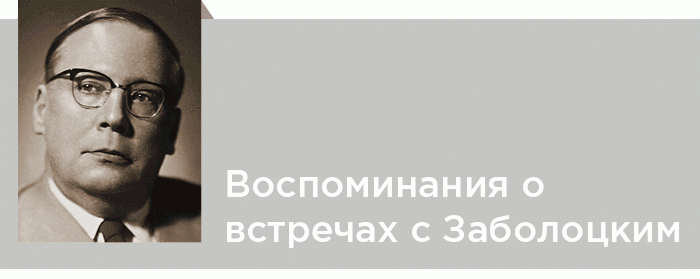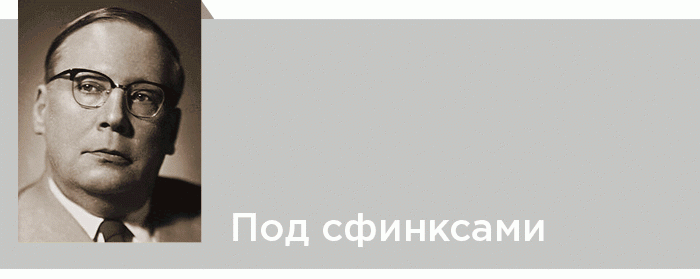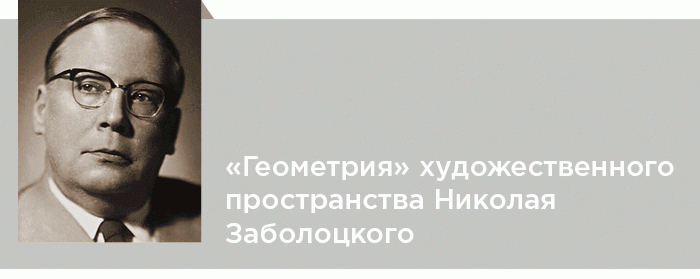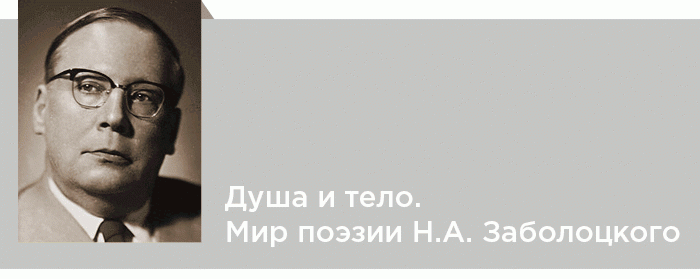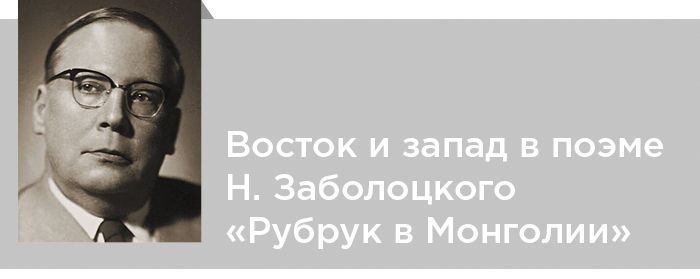«Детское видение» в поэтике Н. Заболоцкого и А. Платонова

Ксения Лошманова
(Москва)
«ДЕТСКОЕ ВИДЕНИЕ» В ПОЭТИКЕ Н. ЗАБОЛОЦКОГО И А. ПЛАТОНОВА
Цель данной статьи — обозначить сходство творческих исканий Заболоцкого и Платонова в области поэтики, а конкретнее, понять главные принципы, по которым строится поэтика обоих. В любом случае эта поэтика отражает мировоззренческие позиции писателей, во многом схожие.
Мы коснемся только принципа детского видения, который стано- вится в их сочинениях поэтико-стилистическим методом построения литературного текста, его несущей конструкцией. Свежесть, первозданность, неординарность языка Заболоцкого и Платонова во многом обусловлены именно новым, как бы очищенным от литературности зрением. Их произведения особенно конца 20-х — начала 30-х годов создают впечатление, будто авторы впервые учатся говорить и писать — так коряво и неловко порой звучат эти тексты. Конечно, им предшествовали и эксперименты футуристов, и поэтический космос, открытый Велимиром Хлебниковым. Однако стоит уточнить, что футуристы большей частью работали с литературным словом, играли с художественным наследием предшествовавшей им русской словесности. У Заболоцкого и Платонова работа со словом перерастает из дерзкой игры, экспериментирования в нечто большее, а именно созидание нового языка.
В 1933 году, во время написания самых, так сказать, «концептуальных» своих вещей («Торжество земледелия», «Школа жуков», «Безумный волк» и др.), Заболоцкий, критически оценивая поэтику Пастернака и Мандельштама, полагал, что «в искусстве надо говорить определенные вещи», бороться с «бормотанием»1. В декларации обэриутов он объявит задачей воспитанного революцией поэта «очищать предмет от мусора истлевших культур»2. В этом Заболоцкий пересекается с Мандельштамом, которого тоже не устраивала постсимволистская ситуация «вечного подмигивания» и намеков, когда слова и образы выпотрошены, как чучела, и набиты чуждым им содержанием. В сущности, амбиции обэриутов и акмеистов схожи в своем желании сымитировать первозданное называние предметов. В свою очередь, язык А. Платонова и стал образцовым языком новой онтологии. Платоновская проза — это попытка создать философию без понятий, «животную», «природную» философию языка, в корне своем революционную. Язык — не просто средство выражения, описательная функция, но сама история его. По мнению А. Битова, это язык XXI века, который есть не что иное, как «возникорождение понятий из камней, травы, из мычания...» Слово приравнивается к действию, поступку. Называние предмета есть форма обладания им. Так происходит и в детстве: дети ищут смысл, суть вещей, сокровенное, и критерием здесь не может служить чувственное наслаждение, получаемое от познаваемого предмета. Только взрослые становятся гурманами. В детстве, как ни странно, больше работает сознание, чем чувство. В архаике нет места для рефлексии. Может быть, поэтому поэзию Заболоцкого часто называли «идущей от головы», а сквозь прозу Платонова следует «продираться». Так же и детское сознание продирается к смыслу сущего: у детей еще нет сложившихся представлений о мире, мир разомкнут, открыт, огромен и безграничен. Для познающего мир ребенка каждый предмет очищен от шелухи его культурных значений, он видит его остраненпо, «примитивно», как в первый раз, и поэтому остро запоминает все увиденное в деталях.
Сидит извозчик как на троне,
из ваты сделана броня,
и борода, как на иконе,
лежит, монетами звеня.
А бедный конь руками машет,
то вытянется, как налим,
то снова восемь ног сверкают
в его блестящем животе.
(Движение. 1927)
Сравнения здесь как бы несуразны и нелепы («бедный конь руками машет», «то вытянется, как налим»), они кажутся «неприглажеными» и спонтанными, если бы это написал ребенок. Вся свежесть и новаторство языка Заболоцкого, призывавшего посмотреть на мир «голыми глазами», в этой детскости поэтического зрения. И не случайным кажется, что в любимом издании на фронтисписе «Столбцов» у Заболоцкого помещалась репродукция картины французского примитивиста Анри Руссо. Примитивизм в живописи А. Руссо, Н. Пиросмани, К. Малевича, М. Шагала был близок поэту зоркостью детского зрения, еще не «испорченного» школой, в которой научат, «как надо». В свое время такими же еретиками от общепринятого искусства были и фламандские примитивисты. Не случайно подмечено сходство многих жанровых зарисовок в «Столбцах» («На рынке», «Пир», «Свадьба», «Пекарня», «Бродячие музыканты», «Игра в снежки», «Рыбная лавка») с многофигурными полотнами Питера Брейгеля Старшего.
Здесь бабы толсты, словно кадки,
их июль — невиданной красы,
и огурцы, как великаны,
прилежно плавают в воде. <...>
и мясо властью топора
лежит, как красная дыра,
и колбаса кишкой кровавой
в жаровне плавает корявой;
и вслед за ней кудрявый пес
несет на воздух красный нос,
и пасть открыта, словно дверь,
и голова — как блюдо,
и ноги точные идут,
сгибаясь медленно посередине.
Но что это?
Он с видом сожаленья
остановился наугад,
и слезы, точно виноград,
из глаз по воздуху летят.
(На рынке. 1927)
Нэповский быт Заболоцкий рисует с жестокостью патологоанатома (пригодился опыт недолгой учебы в 1920 году на медицинском факультете Московского университета). Картины уродливого мещанства так же, как и у Брейгеля, полны грубой силы и красочного контраста, гоголевского размаха гиперболы порой напоминают живопись И. Босха. «Детское видение» работает и здесь: гротесковые сравнения слишком буквальны, в них сопрягаются, выражаясь словами Ломоносова, «далековатые понятия». Так и ребенку, любующемуся облаками, кажется, что по небу плывут не продукты конденсации, а мишка, жираф, голова дяди с большим носом... Однако надо иметь в виду, что эта «спонтанность» образов и сравнений у автора «Столбцов» нарочита, здесь нет примитива в чистом виде, в каком она существует в архаичной культуре, но есть «постановка на сделанность» в духе П. Филонова (известно, как долго Заболоцкий мог править свои стихи, чтобы добиться нужного неожиданного эффекта). Он, как человек по натуре рациональный и трезвый, своей внешностью и манерой поведения напоминавший многим современникам бухгалтера, ищет и нащупывает этот новый «очищенный» язык.
Еще в 1922 году, в связи с символистами, Заболоцкий писал: «Теория наивного реализма — теория ленивого обывателя, не склонного к критическому анализу познания, — не может быть принята поэтом... »3. Ранний Заболоцкий изображает не людей, но их функции, и поэтому весь мир «Городских столбцов» — раздроблен, как в калейдоскопе стереоскопичен. Это россыпь отдельных вещей, между которыми, кажется, нарушена всякая смысловая связь. В пространстве стихотворения движутся не живые люди, а фигурки из картона, «мертвые души», оторопелые истуканы, способные только на примитивные механистические жесты. Они условны, как на детском рисунке. Образы мещанского быта построены из простейших фигур, как на полотнах кубистов: «Прямые лысые мужья / сидят, как выстрел из ружья»; «...тут девки сели на отлет — /упали ручки вертикальные»] «...апельсины аккуратные лежат./ Как будто циркулем очерченные круги,/ они волнисты и упруги»; «Вот — в щели каменные плит / мышиные просунулися лица,/ похожие на треугольники из мела»; «Она летит — моя телега,/ гремя квадратами колес»; «Идут граненые деревья»; «Младенец кашку составляет/ из манных зерен голубых;/ зерно, как кубик, вылетает/ из легких пальчиков двойных» и т.д. Из невероятного нагромождения отдельных деталей, поз, положений, жестов, предметов возникает «мешанина», «всякая всячина», «смесь» (таково, кстати, было первоначальное значение слова «сатира») образов, все настойчивее напоминающая эпическую брейгелевскую манеру. При этом каждая строка — отдельный, самодостаточный микросюжет (особенность поэтики, унаследованная Заболоцким от Хлебникова). Мир «Столбцов» так же, как у великого голландского примитивиста, хаотичен, сумбурен, избыточен и уплотнен в своей материальности. Он словно перевернут с ног на голову и запечатлен в таком виде. Конечно, если вспомнить М. Бахтина и его размышления о народной смеховой культуре, многое можно объяснить карнавальной традицией, в рамках которой любой объект становится амбивалентен, «верх» меняется с «низом» и т.д. Действительно, сопоставляя несопоставимое, используя парадоксальные неожиданные сочетания слов («витиеватыя речи», по Ломоносову) в качестве пружины стихотворения, Заболоцкий добивается нужного ему эффекта нелепости происходящего с персонажами его «Столбцов»:
И поп — свидетель всех ночей,-
Раскинув бороду забралом,
Сидит, как башня, перед балом,
С большой гитарой на плече.
(Свадьба)
Наряду со смысловой мешаниной поэт изобретательно использует в «Столбцах» и мешанину стилевую: рядом с псевдоторжественной одой а la Державин соседствует графоманство капитана Лебядкина, мещанский романс переплетается с балаганным стихом; автор сознательно «витийствует», громоздя друг на друга кудрявые обороты речи и вырывая их из контекста. Из голых вещей-понятий, бытовых реалий, из фразеологических единиц «внелитературной» речи рождается своеобразная материальная фактура иронического эпоса, в которой нет положительного идеала и нет четко заявленной личной оценки, нет авторского «Я», что часто ставили в вину молодому Заболоцкому. «В «Столбцах» мир антиценностей (курсив мой. — К.М.) — это мир мещанского понимания жизни, отраженный в словах умышленно скомпрометированных, будь то слова грубо бытовые или подчеркнуто книжные, «красивые»»4. Автор находится внутри описываемого, смотрит на происходящее из гущи событий, при этом сохраняя бесстрастность аналитического взгляда исследователя, созерцателя человеческой жизни. Он не морален, он вкеморален. Таково и детское сознание, не сформировавшее пока твердых представлений о добре и зле. Эту особенность восприятия детей отмечала М. Цветаева: «Только детская слепость, глядящая в руку, утверждает: «Он дал мне сахару, он хороший». Сахар хороший, да. Но оценивать сущность человека по сахарам и «чаям», от него полученным, простительно только детям и прислугам: инстинкту...»5. Мораль — категория взрослого мира, непонятная и чуждая ребенку. Отсюда — жесткость и жестокость, которые часто отмечают у детей психологи. Находясь вне критериев морали, можно посмеяться и над смертью, как, например, в стихотворении «Искушение»: «И течет, течет бедняжка / В виде маленьких кишок. <...> Была дева — стали щи».
Слепота и, как вариант, близорукость (которой в жизни страдал Заболоцкий) — еще один образ, через который можно понять «Столбцы». Очень верно отметил Л.С. Липавский: «Поэзия Заболоцкого — усилие слепого человека, открывающего глаза. В этом его тема и величие»6. Д. Хармс, однако, считал, что величие поэта должно проявиться не только в этом первом, близоруком детском взгляде на мир, когда прекрасны «солнце, и трава, и камень, и вода, и птица, и жук, и муха, и человек», равно как и «рюмка, и ножик, и ключ, и гребешок»7 — все те мелкие земные приметы, к которым поэт так пристально пытается присмотреться и которыми кишат «Столбцы». Так же и платоновские герои проявляют неподдельный интерес малолетнего ребенка ко всяким мелочам и «отвергнутым предметам», придавая им свой, уже взрослый смысл.
Детское видение — характерная черта платоновской прозы не в меньшей степени, нежели в поэзии Заболоцкого. Л. Карасев справедливо отмечает, что в основании мира Платонова «царит прозрачная логика детского мироощущения»8. Его художественный мир — это мир перевертышей: его взрослые герои мыслят и чувствуют, плачут и тоскуют, боятся и радуются, как дети. Взрослые нередко ведут себя «как маленькие». Так, Фро из одноименного рассказа (1936), не в силах больше ждать приезда мужа, пускается на совершенно ребяческую хитрость и посылает ему телеграмму, что она смертельно больна и просит поскорее приехать, чтобы тот успел на ее похороны. Никита Фирсов из повести «Река Потудань», чувствуя свою беспомощность перед своей любовью к Любе, слишком сильной, чтобы терпеть эту муку рядом с любимой, вообще уходит из дома от юной жены, от семейного счастья — с точки зрения взрослого это придурь, ребяческая блажь.
Иногда детское начало, являющееся в текстах Платонова смыслообразующим, стержневым, проникает в область «ужасного», «страшного», например, в отношения героев со смертью. Таков эпизод из романа «Чевенгур»: «Восьмеро большевиков уперлись руками в бак и покатили его прочь... Все время движения бака внутри его каталась какая-то мягкая начинка, но большевики специально давали баку ускорение и не прислушивались к замолкшей полоумной буржуйке». Взрослые люди напоминают детей, играющих с консервной банкой, только очень большой. Л. Карасев верно подмечает в этом эпизоде совершенно детскую природу жестокой бессмысленной игры большевиков с баком. Так же и расстрел чевенгурских буржуев больше напоминает игру в расстрел, чем трагедию. Убийцами руководит даже не жажда мести, а ребячий азарт и обида на то, что правила игры нарушаются: «Ах, вы так, — сказал Пиюся и выстроил чекистов, не ожидая часа полуночи. — Коцай их, ребята». Здесь налицо «игра понарошку», «невсамделишность», условность происходящего. Поэтому и убивать живых людей чевенгурским чекистам не страшно.
Наоборот, маленькие жители платоновских пустых пространств зачастую примеряют на себя роль взрослых, как Наташа из «Июльской грозы» или мальчик из «Возвращения». А маленький Семен в одно- именном рассказе 1936 года буквально становится матерью своим осиротевшим братишкам и сестренкам, одеваясь в ее платье. Да и сам мир у Платонова часто переворачивается с ног на голову: боязнь не удержаться на земной поверхности и сорваться в нависшую над головой бездну — совершенно детская фантазия, как бы пришедшая из прошлой, утробной жизни человека, когда он видел окружающий его мир перевернутым. Так видит мир и играющий ребенок, вставший на руки. Или вставший на руки, как средневековый жонглер, Святой Франциск Ассизский, увидевший свой город перевернутым. «Он благодарил за то, что вся Вселенная не оборвалась, словно огромная сосулька, и не рассыпалась мириадами звезд. Быть может, так видел и Петр, когда висел на кресте вниз головой». В любом случае «тот, кто видел свой город перевернутым, видел его правильно»9, скорее всего, потому, что «все мироздания с виду прочны, и сами на волосках держатся. Никто волоски не рвет, они и целы...» (Эфирный тракт. 1926).
«Поэт прежде всего — созерцатель, — писал Заболоцкий в своей ранней статье «О сущности символизма».— Созерцание, как некое активное общение субъекта с окружающим его миром (курсив мой. — К.М.), всегда ставит ряд вопросов о сущности всякого явления. Вещи спрашивают о своем существовании, и поэт спрашивает о существовании вещей»10. Эта творческая установка роднит Заболоцкого с Платоновым, который не случайно в одном из своих писем жене назвал свой писательский труд не иначе как «художественным созерцанием», в свою очередь, отразившимся на характере всех платоновских «задумчивых» персонажей, чья душа словно остановилась в своем развитии на уровне гибкого и открытого к восприятию мира ребенка, который видит естественные вещи в сверхъестественном свете. Часто — это сами дети, маленькие созерцатели жизни. Для малолетнего Егора из «Железной старухи» (1941) мир полон необъяснимых загадок: ни дерево, ни ползущий по земле жук, ни червяк — «небольшой, чистый и кроткий, — наверно, детеныш еще, а может быть, уже худой маленький старик» — никто не хочет сказать, кто он есть «на самом деле». Для Наташи и Антошки из «Июльской грозы» (1938) прогулка в соседнюю деревню к бабушке становится целой одиссеей: «дорога была длиною всего четыре километра, но велик мир в детстве...».
Поле ржи то прикидывается лесной чащей, «где обязательно кто-нибудь живет и таится», то становится бушующим морем во время грозы. И таких «естествоиспытателей» среди платоновских персонажей очень много, не только среди детей, но и среди взрослых.
Мир вокруг героев Платонова нецелокупен, разъят. Платоновские люди «неизвестного назначения», словно малые дети, описывают все, что видят и чувствуют, — все подробности мира (Л. Карасев), но не все целое. Зеркало истины разбито на осколки, и люди вынуждены собирать эти фрагменты мироздания, чтобы получить его целую картину. Безымянные одинокие вещи лежат в грязных полях, вечно прикованные к одному месту. «Все живет и терпит на свете, ничего не осознавая», — говорит Вощев из «Котлована» (1930). Он, как малый ребенок, испытывает жгучий интерес ко всему, что валяется в пыли и грязи, собирая в свой мешок «все нищие, отвергнутые предметы, всю мелочь безвестности и всякое беспамятство — для социалистического отмщения. Эта истершаяся терпеливая ветхость некогда касалась батрацкой, кровной плоти, в этих вещах запечатлена навеки тягость согбенной жизни, истраченной без сознательного смысла...».
В 20-х годах и Платонов нащупывает свой неповторимый стиль. Язык Платонова рождается из лубка, яркости «примитива», из самобытной замысловатой притчеобразной мужицкой речи, из вагонных разговоров, в которые вслушиваются его вечно путешествующие герои, из вывернутого наизнанку «шершавого языка плакатов» (Маяковский) и агиток. Пухов, желая понять революцию, «исчитал все плакаты и тащил газеты из агитпункта для своего осведомления», где были напечатаны такие по-маяковски «твердые слова», «чтоб все дураки заочно поумнели»: «Каждый прожитый нами день — гвоздь в голову буржуазии. Будем же вечно жить — пускай терпит ее голова!». В повести 1930 года «Котлован» язык плаката и газетных передовиц, канцелярских формулировок и косноязычных агитаторов предстанет «в полный рост», часто доходя до абсурда. Так, у председателя окрпрофсовета товарища Пашкина это бюрократское косноязычие внедряется даже в сферу его личной, интимной жизни: «Ольгуша, лягушечка, ведь ты гигантски чуешь массы! Дай я к тебе за это приорганизуюсь!». Пока еще не герои говорят на языке Платонова, но Платонов учится языку своих героев.
Молодой Платонов, как и Заболоцкий периода «Столбцов», мучительно ищет свой уникальный язык, угловатый, шершавый, застревающий в мозгу, как костлявая рыба в горле. «Как мне охота художественно писать, ясно, чувственно, классово верно!»11 — делает запись Платонов в 1930 году. В этих словах — вся горечь и весь драматизм писателя, рожденного революцией, который постоянно, искренне и безнадежно ломал свой взгляд на мир, крамольный даже для большевиков.
Язык платоновского «самодельного» героя — это язык пробуждающегося человека, который выходит к свету мысли из темноты смутного чувства, «это переход от чувствования мира к его осознанию, пониманию, которое требует напряжения, сопоставимого с созданием самого мира»12. Речь персонажей еще только нарождается, пробует себя в своем становлении. Как речь ребенка, познающего мир и себя в этом мире, она искренно идет от сердца и поэтому может «ошибиться, но не солгать». «Мы разговариваем друг с другом языком нечленораздельным, но истинным»13. Отсюда — всякого рода корявости, несуразности, природное косноязычие метонимического языка Платонова: вещи и явления фиксируются с помощью слова, как в первый раз, они схватываются сразу зрением и чувством. Аналог подобному типу описания и выражению своей мысли можно увидеть в детской речи, не вполне уверенной в себе. Ребенок неуклюже и строго фиксирует то, что видят, но не понимают его глаза. Это начало речи, и вместе с тем нарождение нового сознания и знания о мире. Предметы ни с чем не сравниваются, а лишь описываются и называются. Телесно-вещественный символизм этого способа описания мира приводит к особенностям как бы вывернутой наизнанку платоновской фразы: опускаются логические связки между исходным предметом и тем, что человек увидел своим детским взглядом; в итоге получается словосочетание, несущее в себе совершенно незнакомое ощущение уже известного: Соне «не спалось от молодости»; Чиклин двигался, «склонившись корпусом от доверчивой надежды»] инвалид «простонал звук», вернувшись с войны «не полностью»; родители зачали своих детей «не избытком тела, а своею ночною тоской и слабостью грустных тел» и т.д. (ср. у Заболоцкого: «припухли люди от дыханья»] «они тут в молодости побывали»] «зерно, как кубик, вылетает из легких пальчиков двойных», т.е. из пальцев, сложенных щепотью).
Герои «Чевенгура», «Котлована» и многих других произведений Платонова только пробуют слово, обкатывают его во рту, как волна камешек, вечно бормочут себе под нос смутные фразы, помогая мысли родится на свет и учась думать «при революции» (пока «слово не скажешь, то умным не станешь», — говорит Яков Титыч из романа «Чевенгур»). Умственные и познавательные возможности этих героев еще очень слабы, формулировка каждой мысли дается им с трудом, они бродят в потемках и сумерках своего нарождающегося коммунистического сознания. «Темнота» и «немота» в платоновском контексте становятся равны друг другу.
Основная задача, которая стоит перед платоновскими «самодельными» героями — прозреть, увидеть свет истины, озарить светом сознания собственную темноту незнания. Кстати, с этим связана и другая важная деталь. Платонов никогда не прописывает лица своих персонажей. Они напоминают людей на картинах Казимира Малевича: тела есть, а вместо лиц — однотонные пятна. Только глаза, в которых отражается человеческая душа, могут стать метонимичным описанием человека. Причина этого кроется в том, что Платонову совершенно неинтересны внешние различия между людьми, он хочет заглянуть внутрь человека, в его нутро, и описать пространство не снаружи, а внутри человека. (Можно здесь вспомнить и действующий в иконописи закон «обратной перспективы», когда вроде бы плоскостное изображение фигур дает возможность лучше проникнуть вглубь изображаемого.) Самопознание для Платонова — существеннейший вопрос, ведь вся разгадка мира «лежит в сознании человека, в его мысли — в этом новом молодом чувстве человека»; «мысль еще не твердо стоит в мире, мысль, так сказать, не сбалансирована с природой, и от этого происходит всякая мука, отрава и порча жизни»14 — пишет Платонов в очерке «О любви».
К схожим выводам в своих поэтических сочинениях приходит и Заболоцкий. Человек живет умно, но некрасиво. «Справляя жизнь, рождаясь от людей, мы забываем о деревьях», которые прячут в своих кронах глаза, а в ветвях — изломанную прелесть детских рук. Их плоды нам «удобны», мы пользуемся ими, не постигая таинства их завязи и созревания, мы не слышим, что плодоносящее дерево стонет, как роженица. «Нам непонятна эта глубина — деревьев влажное дыханье». Но если мы почувствуем себя деревьями, мы постигнем и вдохнем в себя этот огромный мир, стоящий над нами.
Природа напоминает необъятный храм, построенный по законам вселенской архитектуры: «Дерево растет, напоминая естественную, деревянную колонну»; тело тучной коровы напоминает храм, поставленный на четыре столпа; строение тела голубя представляется «странным селеньем» — «дудочки, ветви, мешочки»; «осенних рощ большие помещения / стоят на воздухе, как чистые дома».
Архитектура природы прекрасна и непостижима. Но это не только красота величественного храма, полного таинств, но и темница, не озаренная светом сознания. «Нелегкая задача — разбить синонимы: природа и тюрьма», — пишет в стихотворении «Осень» Заболоцкий. Органический мир предстает царством несвободы, в котором нет места индивидуальному. «У животных нет названья — кто им зваться повелел?» — вопрошает поэт, перекликаясь с платоновским персонажем: « — Корова, корова, — говорил он [мальчик Вася. — К.М.], потому что у коровы не было своего имени, и он называл ее, как было написано в книге для чтения». «Равномерное страданье — их невидимый удел», — продолжает сокрушаться Заболоцкий. Все животные «Смешанных столбцов» лишь механистически исполняют свои заранее предопределенные функции, напоминая этим людей-манекенов из «Городских столбцов»: бык, страдающий от бессилия рассказать о своей беседе с природой, «удаляется в луга» и «седые слезы точит»; речка как заболевшая девочка, то смеясь, то рыдая, притаилась между трав; птица «горлышком трудится»... А природа, как «высокая тюрьма», как «каменная стена», стоит над человеком, не открывая ему своих тайн.
В этом порабощенном сонном царстве есть свои избранные:
Лицо коня прекрасней и умней.
Он слышит говор листьев и камней.
Внимательный! Он знает крик звериный
и в ветхой роще рокот соловьиный.
И, зная все, кому расскажет он
свои чудесные виденья?
Ночь глубока. На темный небосклон
восходят звезд соединенья.
И если б человек увидел
лицо волшебное коня,
он вырвал бы язык бессильный свой
и отдал бы коню...
(Лицо коня)
Страдающие животные к тому же обречены на немоту. Человек не в силах услышать слова коня, «которые не умирают и о которых песни мы поем...». Конь остается «в клетке из оглобель» и покорно глядит «в таинственный и неподвижный мир».
У Платонова мы тоже находим трогательный образ дремлющей у плетня и отощавшей лошади, которая терпит и не ропщет, страдая не меньше, чем человек: «Милая моя, ты чище и грустнее человека: голодная почти до смерти, а стоишь, мужик бы бабу начал колотить, ребят пороть и сейчас же выдумал бы небесного бога — спасителя, а ты молчишь. Спасибо тебе, лошадь, ты одна не имеешь богов, а без богов живут только сами боги», — делает заключение писатель («Заметки. В полях. Бог человека», 1921). А молчаливая, неосознанная, кроткая жизнь крестьян воспринимается лирическим героем Платонова как способ идиллического сосуществования человека с природой: «Хорошие они, в сущности, люди — живут по-лошадиному».
Чтобы освоить язык природы, лирический герой Заболоцкого вглядывается в лица цветов, коня, птиц, деревьев. Он хочет узнать в них «своих отцов, и братьев, и сестер», хочет породниться с природой. Прекрасной иллюстрацией к этой идее может послужить картина П. Филонова, очень уважаемого обэриутами, под названием «Крестьянская семья (Святое семейство)» (1914). На этом семейном портрете изображены одинаковые на лицо отец и мать с младенцем на руках в окружении лошади, собаки, курицы и петуха, с такими же «продолговатыми», выражаясь языком Заболоцкого, лицами. В замыкающей «Смешанные столбцы» поэме «Деревья» Бомбеев спрашивает растения, облака, насекомых: «Кто вы?». Так, в знаменитом рассказе Платонова «Железная старуха» (1941) малолетний Егор спрашивает у ветра, поющего в листве: «Ты кто? Что ты мне говоришь?»; глядя в «маленькое неподвижное лицо» жука, он понимает, что «жук знает что-то, чего не знает сам Егор, но только он притворяется маленьким, он стал нарочно жуком и молчит, а сам не жук, а еще кто- то — неизвестно кто». Молчат и упавший с дерева лист, и выползший на него червяк. «Кто же это такой? — озадачился Егор перед червем. — Он без глаз и без головы, о чем он думает?». Каждое живое существо таинственно и непонятно, и именно поэтому его так хочется постичь.
Так в общих чертах можно обрисовать принцип детского видения, ставший стержневым в поэтике Заболоцкого и Платонова, особенно в ранний период художественных исканий, легший в основу их миро- восприятия и мирочувствия, и, как поэтико-стилистический метод, дававший о себе знать на протяжении всей их творческой эволюции.
ПРИМЕЧАНИЯ
1 Гинзбург Л. Заболоцкий двадцатых годов. // Воспоминания о Заболоцком. М.: Советский писатель, 1984. С.147.
2 Заболоцкий Н. Из декларации обэриутов. // Заболоцкий Н. «Огонь, мерцающий в сосуде...». М.: Педагогика-Пресс, 1995. С.185.
3 Заболоцкий Н. О сущности символизма. // Заболоцкий Н. «Огонь, мерцающий в сосуде...». М.: Педагогика-Пресс, 1995. С. 53.
4 Гинзбург Л. Заболоцкий в двадцатые годы. // Воспоминания о Заболоцком. М.: Советск ий писатель, 1984. С. 150.
5 Цветаева М. О благодарности. // Собр. соч.: В 7-ми тт. — Т.4. Воспоминания о современниках. Дневниковая проза. М.: Эллис Лак, 1994. С. 509-510.
6 Заболоцкий Н.Н. Жизнеописание. Ленинградские тридцатые. 1930-1937. // Заболоцкий Н. «Огонь, мерцающий в сосуде...». М.: Педагогика-Пресс, 1995. С. 194.
7 Там же.
8 Карасев Л. Знаки покинутого детства. «Постоянное» у А. Платонова. // Карасев. Л.В. Движение по склону. О сочинениях А. Платонова. М.: Российский гос. гуманит. ун-т, 2002. С.12.
9 Честертон. Г.К. Святой Франциск Ассизский. // Цветочки Святого Франциска Ассизского. СПб.: Азбука, 2000. С. 387, 390.
10 Заболоцкий Н. О сущности символизма. // Заболоцкий Н. «Огонь, мерцающий в сосуде...». М.: Педагогика-Пресс, 1995. С. 52-53.
11 Платонов А. Записные книжки. М.: Наследие, 2000. С. 64.
12 Карасев Л. Знаки покинутого детства. «Постоянное» у А.Платонова. С.31.
13 Платонов А. Записные книжки. М.: Наследие, 2000. С.176.
14 Платонов А. О любви. // Платонов А. Государственный житель. М.: Мн.: Мает, лгг., 1990. С.651.
ЛИТЕРАТУРА
1. Заболоцкий Н.А. «Огонь, мерцающий в сосуде...»: Стихотворения и поэмы. Переводы. Письма и статьи. Жизнеописание. Воспоминания современников. Анализ творчества. М.: Педагогика-Пресс, 1995.
2. Платонов А. Записные книжки. Материалы к биографии. М.: Наследие, 2000.
3. Платонов А.П. Государственный житель: Проза, ранние соч., письма. Мн.: Мастацкая лггаратура, 1990.
4. Платонов А. Повести и рассказы. Л.: Лениздат, 1985. — (Мастера русской прозы XX века).
5. Платонов А.П. Собрание сочинений в 5-ти тт. Тт. 1,2. М.: Информпечать, 1998.
6. Воспоминания о Заболоцком: Сборник. М.: Советский писатель. 1984.
7. Карасев Л. В. Движение по склону. О сочинениях А. Платонова. М.: Рос-
сийский государственный гуманитарный университет, 2002.
8. Цветаева М.И. Собр. соч. в 7-ми тт. Т.4. Воспоминания о современниках. Дневниковая проза. М.: Эллис Лак, 1994.
9. Цветочки Святого Франциска Ассизского. СПб.: Амфора, 2000.