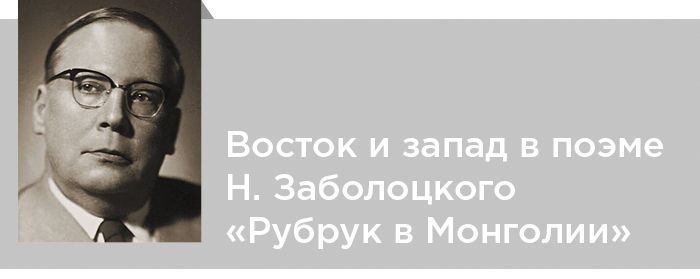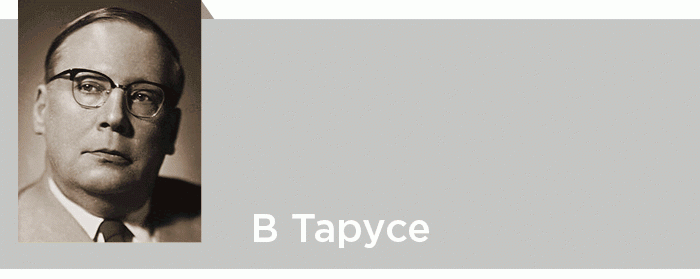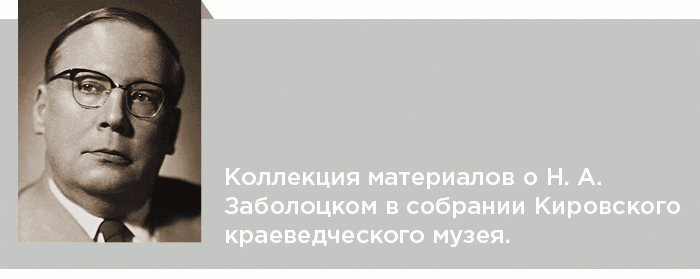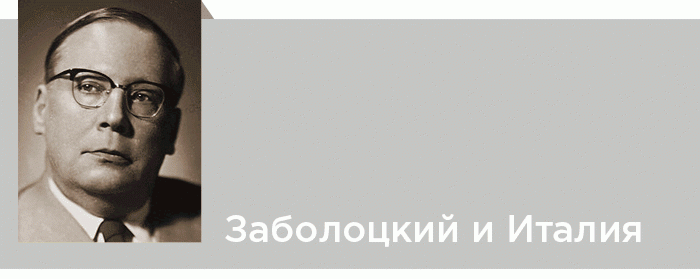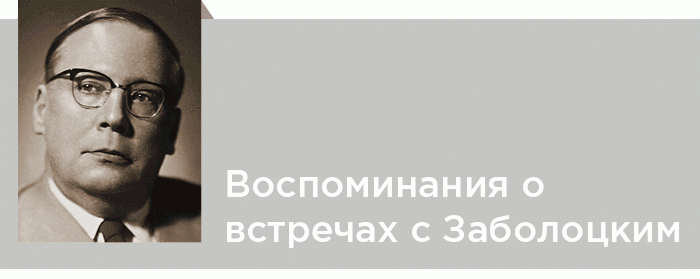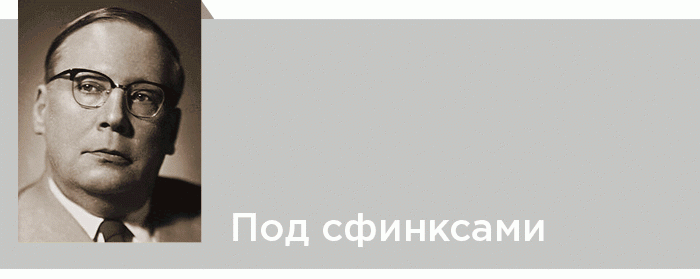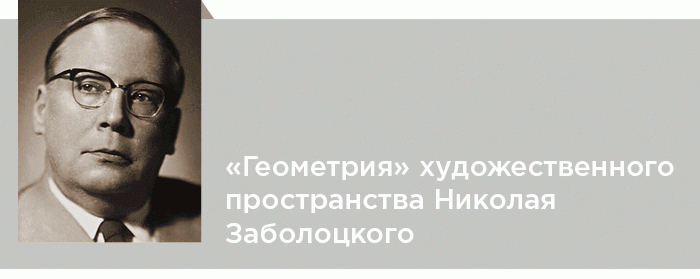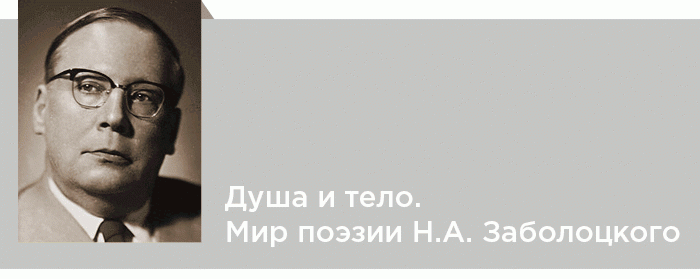Н. Заболоцкий и Б. Поплавский

Алексей Чагин
(Москва)
Н. ЗАБОЛОЦКИЙ И Б. ПОПЛАВСКИЙ
Тема моего выступления неизбежно связана с проблемой «Заболоцкий и русское зарубежье», поэтому разговор о двух поэтах — о Николае Заболоцком и Борисе Поплавском я бы хотел начать с обращения к третьему имени — к Владиславу Ходасевичу. Дело в том, что он был, пожалуй, единственным критиком в русском зарубежье, публично (т.е. в печати) откликнувшимся в 1930-е годы на поэзию Заболоцкого. Отклик этот был убийственным, прозвучал он в статье с примечательным названием «Ниже нуля», где Ходасевич «любовно» отобрал и продемонстрировал вопиющие примеры графоманства в поэзии, образцы, как он писал, гениальности «с другой стороны». Обращаясь в этих размышлениях к опыту поэзии Советской России, Ходасевич заметил: «За все время существования советской власти не- что разительное было напечатано только один раз — я имею в виду цикл стихов Заболоцкого, из которого отрывки приводились в «Возрождении»... При этом все же еще не выяснено, не были ли эти стихи сознательною насмешкой над редакцией журнала, в котором они появились»1.
Есть некий парадокс в том, что Ходасевич, воспринявший стихи из «Столбцов» Заболоцкого как курьез, как одну из тех «отрицательных ценностей», что коллекционировались участниками опекаемой им группы «Перекресток» и тщательно записывались в «перекресточную» тетрадь, одобрительно отзывался о поэзии Бориса Поплавского, признавая его «самым талантливым» среди молодых эмигрантских поэтов. Парадокс заключался, в частности, в том, что в отклике Ходасевича на вышедший в 1938 г. сборник Поплавского «В венке из воска» вполне сочувственно прокомментированы стихотворения, сюрреалистическая природа которых была внутренне очень близка многому из того, что возникало в отвергнутых критиком «Столбцах» Заболоцкого. Вот лишь один пример. В 1927 г. Заболоцкий пишет стихотворение «Офорт», где возникает фантасмагорическая картина, движение которой не объяснить никакой логической мотивацией — в ней живет сюрреалистическая стихия грезы, сновидения: «Покойник по улицам гордо идет, / Его постояльцы ведут под уздцы, / Он голосом трубным молитву поет / И руки вздымает наверх. / Он в медных очках, перепончатых рамах, / Переполнен до горла подземной водой. / Над ним деревянные птицы со стуком / Смыкают на створках крыла...... А вот созданное по тем же законам стихотворение Поплавского из сборника «В венке из воска»: «Священная луна в душе / Взойдет, взойдет. / Зеленая жена в воде / Пройдет, пройдет. / И будет на пус- том морозе / Кровь кипеть, / На тяжкой деревянной розе / Птица петь. /... /А с неба льется черный жар, / Мертвец сопит, / И падает на нос ножа / Актер, и спит. /... / Прозрачный, нежный стук костей; / Там игроки. / Скелеты с лицами гостей, / Там дно реки....» (и т.д.). Именно к таким стихотворениям обращены размышления Ходасевича, заметившего, что поэзия Поплавского «управляется не логикой, а чистой эйдолологией», т.е. что «Поплавский идет не от идеи к идее, но от образа к образу, от словосочетания к словосочетанию, — и тут именно, и только тут, проявляется вся стройность его воззрений, не общих,... но художественных, чисто поэтических...»2. Критик объясняет таким образом, избегая дефиниций, сюрреалистическую природу поэтических фантасмагорий Поплавского, и при этом не замечает, что его комментарий прямо обращен и к отвергаемым им «внелогичным» стихотворениям молодого Заболоцкого.
Позднее и в понимании критиков, поэтов русского зарубежья имена Заболоцкого и Поплавского стали сближаться. Более того, в размышлениях ряда авторов о поэзии Поплавского рядом с именем этого поэта почти неизбежно возникает имя Заболоцкого. С. Карлинский, например, в статье с характерным названием — «Сюрреализм в русской поэзии XX века: Чурилин, Заболоцкий, Поплавский» — пишет о Заболоцком как об одном из наиболее ярких и последовательных сюрреалистов в русской поэзии 20—30-х годов3. О близости двух поэтов пишет в своих воспоминаниях о Поплавском Э. Райе4. Знаменательно и то, что у обоих этих авторов при сближении имен Поплавского и Заболоцкого возникает еще одно имя — Хлебников. С. Карлинский намечает поэтическую генеалогию Заболоцкого, ведущую к Хлебникову5. Э. Райе прямо говорит о традиции русской поэзии, объединившей несколько поэтических имен: Хлебников, Заболоцкий, Мандельштам, Поплавский6.
Действительно, опыт Хлебникова был необычайно важен для мо-
лодого Заболоцкого, был для него в те годы наиболее значительным поэтическим ориентиром, что признавал он и сам7. Видимо, пути Заболоцкого и Поплавского сближались именно здесь — в общности истоков, восходивших к тем открытиям русской поэзии XX века (во многом связанным с именем Хлебникова), где футуризм оказывался одним из предшественников сюрреалистического творчества. И здесь связующим для двух поэтов звеном был художественный опыт Хлебникова, которому, помимо прочего, были свойственны и причастность к рецептам автоматического письма, и обращение к поэтике «ошеломляющего образа», соединяющего несоединимое, вызванного к жизни стихией сюрреалистического видения — при той оговорке, что с понятием «сюрреализм» эти черты поэтики стали ассоциироваться позднее. Именно здесь, на пути создания сюрреалистической образности, сближались поэтические миры Поплавского и Заболоцкого. Два поэта с разными биографиями, с разным духовным опытом создавали фантастические картины мира, образы которого поражают своей не- вероятностью, сочетанием несочетаемого, верой во «всемогущество грезы», соединяющей поэтический образ с глубинами подсознания. Мы видели это в приведенных уже стихотворениях, подобные примеры можно множить и множить.
Обратим внимание и на то, что бросается в глаза и в «Офорте», и в других стихотворениях раннего Заболоцкого: при всей своей фантастичности, невероятности образы, возникающие в его поэтическом мире, вполне конкретны, выпукло зрелищны. Та же зрелищность, предметность фантастического открывается и в стихотворениях Поплавского — от «Армейских стансов», где «летит солдат на белых крылах, / Хвостиком помахивает...», до «Возвращения в ад», где у дверей дома стоит ангел-привратник, где эльфы вытряхивают пыльные гардины, где слышен звон «кубистических гитар».
В связи с этим интересно заметить, что Заболоцкого сближает с Поплавским сам характер зрелищности создаваемых ими поэтических картин. Что касается автора «Столбцов», то он не принимал раздробленности мира, часто весьма характерной для сюрреалистического письма; сюрреалистический образ всегда оказывался у него частью целостной, неразделимой поэтической картины, где реальность и над-реальное существовали на равных (эта целостность замысла очевидна в «Часовом», «Свадьбе» и во многих других стихотворениях).
Вопрос о характере зрелищности, об изобразительной природе сюрреалистических картин, возникающих в стихотворениях Заболоцкого и Поплавского, связан с большой темой соотнесенности творчества двух поэтов с открытиями русского и мирового изобразительного искусства 20—30-х годов.
Заболоцкий называл себя «поэтом голых конкретных фигур, придвинутых вплотную к глазам зрителя»8. Поэзия его в период «Столбцов» была тесно связана с поисками художников-авангардистов тех лет — но не с опытом художественного супрематизма, бывшего изобразительным аналогом поэтической зауми, а с такими художниками, как Филонов, Гончарова, Ларионов, уходящими от раздробленности мира в создании своей художественной над-реальности. Возникающие в поэзии Заболоцкого «конкретные фигуры» были зачастую совершенно фантастичны, но в самой невероятности сюрреалистического образа через изобразительную его природу открывалась общая идея произведения — скажем, идея движения в стихотворении «Движение», где в сюрреалистическом образе, появляющемся во второй части стихотворения, живет энергия движения на фоне предшествующего «реального» и совершенно статичного образа:
Сидит извозчик, как на троне,
Из ваты сделана броня,
И борода, как на иконе,
Лежит, монетами звеня.
А бедный конь руками машет,
То вытянется, как налим,
То снова восемь ног сверкают
В его блестящем животе.
Не случайно соратник Заболоцкого по ОБЭРИУ И. Бахтерев вспоминал, что думал о Филонове, слушая это стихотворение9.
Эта черта сюрреализма Заболоцкого опять-таки объединяла его с Поплавским, поэтический мир которого, оживляющий грезы, населенный видениями, не раздроблен, напротив — неизменно сохраняет свою целостность (это очевидно и в «Возвращении в ад», и в стихотворениях о Морелле, и в «Сентиментальной демонологии» — этот ряд можно продолжать). Вполне закономерным представляется в связи с этим замечание С. Карлинского, подчеркнувшего, что литературное развитие Поплавского «отражает не столько развитие русской эмигрантской поэзии, сколько эволюцию парижских школ живописи в конце 1920-х годов и в начале 30-х — особенно школ сюрреалистов и неоромантиков»10. И если Заболоцкому близок был Филонов, то для Поплавского немало значили такие художники, как Шагал, Сутин, Минчин, создававшие свой волшебный и внутренне целостный мир.
Как и у Поплавского, сюрреалистические образы в стихотворениях Заболоцкого соединяют в себе бытовое, повседневное с фантастическим, невероятным. И если Поплавский мог написать: «Под фонарем вечернюю газету / Душа читает в мокрых башмаках» или «Шагают храбро лысые скелеты, / На них висят, как раки, ордена», то и у Заболоцкого мы читаем: «Он палец вывихнул, урод, / И визгнул палец, словно крот»; или: «Там примус выстроен, как дыба, / На нем, от ужаса треща, / Чахоточная воет рыба / В зеленых масляных прыщах». Если у Поплавского (в «Hommage a Pabblo Picasso») мы видим, как вполне земные «акробат и танцовщица в зори ушли без возврата», — тону Заболоцкого (в стихотворении «Футбол») футбольный мяч «вертится между стен, / Дымится, пучится, хохочет, / Глазок сожмет: «Спокойной ночи»! / Глазок откроет: «Добрый день! »
Вместе с тем, при всей близости сюрреалистических образов Поплавского и Заболоцкого, есть между ними и разница — и немаловажная. Вспомним два известных стихотворения: «Свадьбу» Заболоцкого и «Возвращение в ад» Поплавского. Стихотворения эти очень напоминают друг друга: возникающие в них картины создаются во многом силою сюрреалистических образов (в стихотворении Заболоцкого — в финале), в каждом из них возникает мотив дома и его гибели. Однако можно заметить, что сюрреализм Заболоцкого «опрокинут» во внешний (социальный) мир. В завершающих строках его стихотворения, после того, как «огромный дом», по всем законам сюрреалистического действа, «летит в пространство бытия», — перед нами открывается картина этого социального бытия: «А там — молчанья грозный сон, / Седые полчища заводов, / И над становьями народов — / Труда и творчества закон». Кстати говоря, и предпосылка сюрреалистической картины в этом стихотворении тоже оказывается образом внешнего мира — сатирическим, гротескным изображением мещанской (нэпманской, как можно понять) свадьбы. В этой обращенности поэзии в мир внешний, социальный (воплощенный во многих стихотворениях Заболоцкого 20-х — начала 30-х годов в сюрреалистических образах) ясно сказались и особенность поэтического развития в новой России, и позиция наследника русских футуристов, усвоившего поэтические уроки Хлебникова. Именно открытость во внешний мир дала возможность сюрреализму Заболоцкого подчас «черпать — как заметил С. Карлинский — «из зощенковского мира коммунальных кухонь, сомнительной еды и черных рынков времен нэпа»»11.
В стихотворении же Поплавского мы видим иное: происходящее здесь сюрреалистическое действо — в частности, сцена адского бала — развертывается в «стеклянном доме» — воплощении внутреннего мира героя, его изуродованной, населенной демонами души. То же самое происходит во многих других стихотворениях Поплавского. Здесь со всей очевидностью дают знать о себе традиции русской поэзии, обращенной к духовному миру человека (Тютчев, Блок), и, конечно, традиции французских сюрреалистов и их предвестников.
Порою, правда, в поэзии Поплавского открывается выход за пределы внутреннего мира героя — и тогда происходит еще большее сближение его с поэтическим миром Заболоцкого. Так случилось в стихотворении «Жизнеописание писаря», сатирическая окрашенность которого (обращенная к образу «писца» — воплощению обывателя) сближает его со многими стихотворениями «Столбцов», а сквозящие в нем гоголевские мотивы (об этом писал в своих воспоминаниях Э. Райе12) заставляют вспомнить стихотворение Заболоцкого «Поприщин», в сюрреалистической фантасмагории которого оживают образы «Записок сумасшедшего».
Во многом схожими путями шла и внутренняя эволюция творчества двух поэтов, и в этом тоже была своя закономерность. С. Карпинский замечает, что и Поплавский, и Заболоцкий практически одновременно, в начале 30-х годов решают расстаться с сюрреализмом: Поплавский — «из уважения к парижской школе,... которая становилась доминирующей в эмигрантской литературе того времени», Заболоцкий — в результате травли в партийной прессе, осудившей его обращение к сюрреалистической образности (в частности, в «Торжестве Земледелия»). В результате оба поэта пытались в те годы (часто безуспешно) перейти на традиционные пути в поэзии. С. Карпинский приходит при этом к достаточно интересному выводу о «сходстве идеологического давления, так похоже осуществляемого в таких разных обстоятельствах»13.
Вывод этот, безусловно, заслуживает внимания, — но с оговорками. Заметим прежде всего, что моменты различия здесь не менее значимы, чем моменты сходства, и есть немалая дистанция между травлей в прессе (с дальнейшими, как известно, последствиями), которой подвергся Заболоцкий, и тем давлением акмеистического воздуха русского Парижа, которое ощущал Поплавский. И все же — вспомним и о том, что сюрреалистический роман Поплавского «Аполлон Безобразов» (1932) был дружно отвергнут эмигрантскими издательствами и опубликован целиком только в 90-е годы в России; и о том, что при жизни Поплавскому удалось издать лишь один поэтический сборник «Флаги»; вспомним и о найденном в конце 90-х в архиве поэта полностью им подготовленном сборнике «Автоматические стихи», содержащем почти 200 неизвестных ранее сюрреалистических стихотворений, написанных «в стол» — что дало возможность французской исследовательнице Е. Менегальдо назвать Поплавского «внутренним эмигрантом» зарубежной России14.
Кроме того — и это, пожалуй, важнее — помимо «идеологического давления» на обоих путях русской поэзии были и внутренние, собственно литературные основания для возможного поворота каждого из поэтов к традиции. Для Поплавского это было во многом связано с усилением мистических настроений; с другой стороны, с поворотом к жизни, рожденным встречей с Н. Столяровой и приведшим к созданию цикла «Над солнечною музыкой воды», где поэт обратился к любовной лирике, разгонявшей «душевный сумрак» сюрреалистических видений. У Заболоцкого черты традиционной поэтики, предпосылки обращения к классической традиции возникали, как известно, еще в обэриутский период, в 20-е годы. Вот, скажем, стихотворение 1929 года «Меркнут знаки Зодиака». Начинается оно типичной сюрреалистической картиной: «Толстозадые русалки / Улетают прямо в небо, / Руки крепкие, как палки, / Груди круглые, как репа. / Ведьма, сев на треугольник, / Превращается в дымок. / С лешачихами покойник / Стройно пляшет кекуок». Но дальше, ближе к концу стихотворения поэтическая мысль идет уже в противоположном направлении: «Разум мой! Уродцы эти — / Только вымысел и бред. / Только вымысел, мечтанье, / Сонной мысли колыханье, / Безутешное страданье, — / То, чего на свете нет».
Как бы то ни было, внимания заслуживает прежде всего тот факт, что в 20-е — начале 30-х годов сближаются пути двух русских поэтов, живших по разные стороны границы, воспринявших и развивших художественный опыт русского футуризма, давших ему новую жизнь в стихии сюрреалистического творчества и естественно соединивших эти поиски с традиционными путями поэзии. Творчество Заболоцкого и Поплавского, направленность эволюции этих поэтов в 1920—1930-е годы оказывается и вполне наглядным свидетельством условности, прозрачности литературных перегородок, не только между Россией и зарубежьем, но и глубже — между тем или иным поэтическим направлением, убедительно демонстрируя, что развитие русской поэзии (и шире — литературы) в XX веке шло на началах не противостояния и борьбы художественных течений, а их взаимодействия, взаимопроникновения, что и было одним из надежных оснований целостности русской литературы минувшего столетия.
ПРИМЕЧАНИЯ
1 Ходасевич В. Ниже нуля // Колеблемый треножник. М., 1991. С. 597.
2 Ходасевич В. Б. Поплавский. «В венке из воска» // Борис Поплавский в оценках и воспоминаниях современников. СПб — Дюссельдорф, 1993. С. 178-179.
3 Karlinsky, Simon. Surrealism in Twentieth-Century Russian Poetry: Churilin, Zabolotskii, Poplavskii // Slavic Review. 1967. № 4. P. 610.
4 Райс Э. О Борисе Поплавском // Грани. 1979. № 114. С. 175-177.
5 Karlinsky S. Surrealism in Twentieth-Century Russian Poetry: Churilin, Zabolotskii, Poplavskii // Slavic Review. 1967. № 4. P. 612.
6 Райс Э. О Борисе Поплавском. // Грани, 1979, № 114. С. 175.
7 См. Гинзбург Л. Заболоцкий двадцатых годов / Воспоминания о Заболоцком. M., 1984.С.147.
8 См. Бахтерев И. Когда мы были молодыми... / Воспоминания о Заболоцком. С. 94.
9 Там же. С. 105.
10 Karlinsky S. In Search of Popiavsky: a collage // Triquarterly. 1973. № 27. P. 359.
11 Karlinsky, Simon. Surrealism in Twentieth-Century Russian Poetry: Churilin, Zabolotskii, Poplavskii // Slavic Review. 1967. № 4. P. 615.
12 Райе Э. О Борисе Поплавском // Грани, 1979, № 114. С. 176.
13 Karlinsky, Simon. Surrealism in Twentieth-Century Russian Poetry: Churilin, Zabolotskii, Poplavskii // Slavic Review. 1967, № 4. P. 616-617.
14 Менегальдо E. Борис Поплавский — от футуризма к сюрреализму / Поплавский Б. Автоматические стихи. М., 1999. С. 16-17.