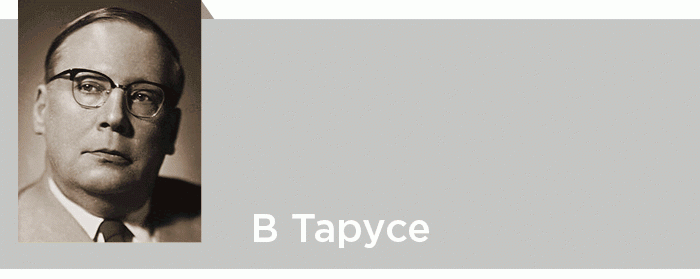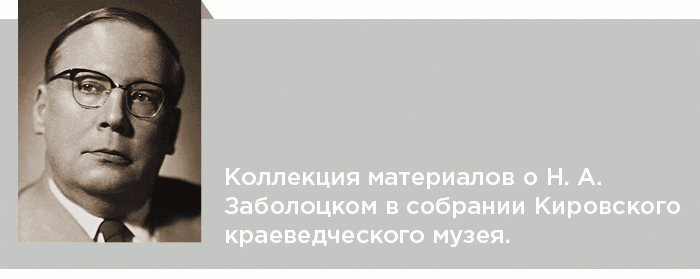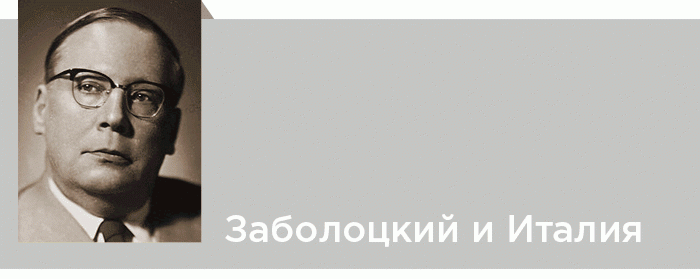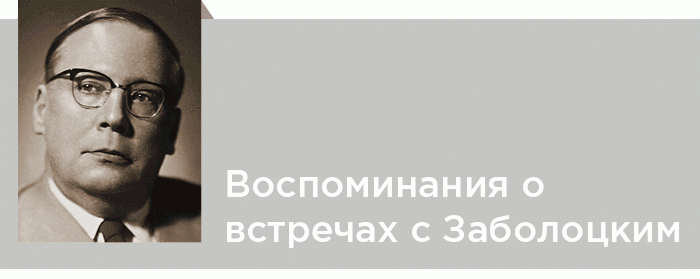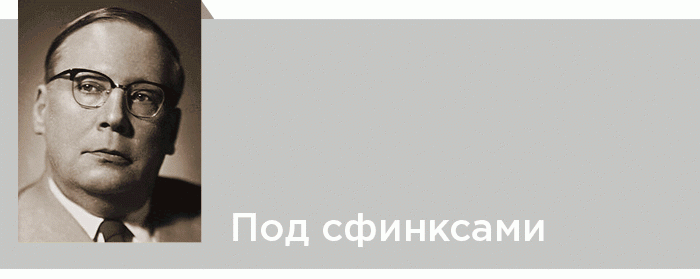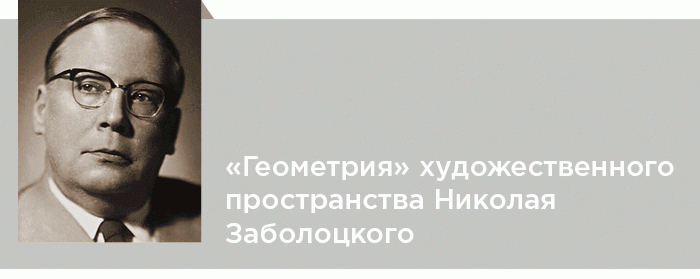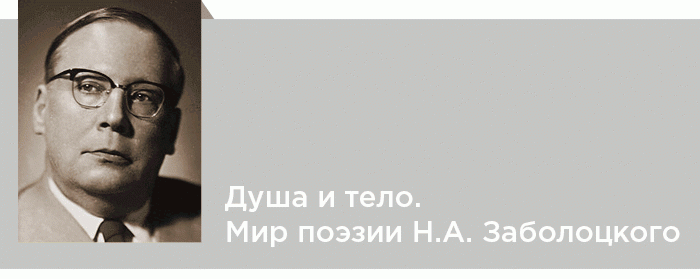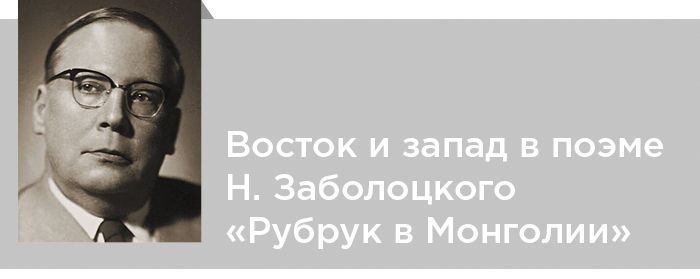Н. Заболоцкий и Е. Замятин: отношения человека и природы

Анастасия Строкина
(Москва)
Н. ЗАБОЛОЦКИЙ И Е. ЗАМЯТИН: ОТНОШЕНИЯ ЧЕЛОВЕКА И ПРИРОДЫ
Наверное, любое повествование о Заболоцком можно было бы начать словами Блока: «Первым и главным признаком того, что данный писатель не есть величина случайная и временная, — является чувство пути... Писатель — растение многолетнее. Как у ириса или у лии росту стеблей и листьев сопутствует периодическое развитие корневых клубней, — так душа писателя расширяется и развивается периодами, а творения его — только внешние результаты подземного роста души. Поэтому путь развития может представляться прямым только в перспективе, следуя же за писателем по всем этапам пути, не ощущаешь этой прямизны и неуклонности, вследствие постоянных остановок и искривлений... Только наличностью пути определяется внутренний такт писателя, его ритм» (Душа писателя).
Николай Алексеевич Заболоцкий — поистине поэт сложного, с многочисленными «остановками и искривлениями» пути, который представляется мне как длительный переход от рационального к интуитивному. Но на каждом из этапов творческого развития поэта связующим звеном была, как мне кажется, неугасающая, неутомимая жажда познания бытия.
Борьба разумного и чувственного начал, желание подчинить законы природы законам человеческого общества и истории, колебание между верой в бессмертие и полным его отрицанием — круг этих тем сближает художественные миры Заболоцкого и Замятина. Герои произведений этих авторов, хотя и по-разному, пытались вывести формулу счастья, определить форму идеального состояния общества и природы. Даже приходят они, в сущности, к одному и тому же — всеспасительному соединению двух начал (разума и интуиции). И хотя герой замятинского романа уверенно восклицает в конце, что «разум должен победить», слова эти звучат неубедительно, потому что есть в мире гармония мысли и чувства, и сам Замятин, и Заболоцкий доказали это своим творчеством.
До конца своих дней Заболоцкий, как уже говорилось, искал путь к познанию устройства бытия. Апофеоз этих исканий пришелся на последний этап творчества поэта — 40—50-е годы.
Но если в раннем творчестве поэта наблюдалось полное единство человека и природы, например в «Школе жуков»:
Время кузнечика и пространство жука —
Вот младенчество мира,
то в поздних его стихах, написанных после длительного перерыва, наблюдаются изменения в отношениях человека и природы: они будто отделились друг от друга, будто единый атом расщепился под действием некой силы, и теперь человек, как написано в «Слепом» (1946), — «не любимец солнцу и природе не родственник». Нить, связывавшая людской и природный миры, ныне разорвана.
Это же чувство разъединенности природы и человека пронизывает весь роман Замятина «Мы». Основной образ этого отъединения — Стена, разделяющая два мира — чувственный природный и рациональный, выверенный, распределенный по минутам мир нумеров: «О, великая, божественно-ограничивающая мудрость стен, преград! Это, может быть, величайшее из всех изобретений. Человек перестал быть диким животным только тогда, когда мы построили Зеленую Стену, когда мы этой стеной изолировали свой машинный, совершенный мир — от неразумного, безобразного мира деревьев, птиц, животных...».
Однако же Природа у Заболоцкого, перестав быть «родственницей» человеку, стала для него своеобразной тайной, которую он теперь «пытается постичь», и мудрость природная, хотя и «несовершенна», но гармонична в своей сущности; и даже хаос, даже беспорядок ее в какой-то степени желанны:
И такой на полях кавардак,
И такая ручьев околесица,
Что попробуй, покинув чердак,
Сломя голову в рощу не броситься!
(«Уступи мне, скворец, уголок...», 1946)
С другой стороны, и у Замятина ярким контрастом идеи стены вы- ступает идея ее разрушения: «Мы разрушим эту стену — все стены, — чтобы зеленый ветер из конца в конец — по всей земле».
Вспоминается мысль, которую высказал еще Шеллинг: «Новый мир начинается с того, что человек отрывается от природы». У Заболоцкого, как мне кажется, идет борьба между желанием отъединиться от природы и — наоборот, попыткой приблизиться к ней, восстановить цепь, связывающую человека и окружающий его живой мир. Что же значит отъединение от природы? Это, вероятно, отдаление от ее необузданно интуитивной основы и стремление подчинить природу чуждым ей законам, стремление образумить ее:
Мы, люди, — хозяева этого мира,
Его мудрецы и его педагоги,
Затем и поет Оссианова лира
Над чащею леса, у края берлоги.
От моря до моря, от края до края
Мы учим и пестуем младшего брата...
(«Читайте, деревья, стихи Гезиода», 1946)
В этом новом мире «грузинские юноши..., словно зодчие мира, под звуки пандури /Заключили в трубу завывание бури /И в бетон заковали кипенье волны», здесь «напев винтов с их тяжестью мгновенной /Нанес по воздуху стремительный удар». Лирический герой «к музыке винтов прислушивался, /согласный хор распределял на части, / изучил их песнь, понимал их страсти, /сам изнемогал от счастья бытия». Похожей музыкой механизмов восхищается и Д-503, герой замятинского романа: «С каким наслаждением я слушал...нашу теперешнюю музыку. Хрустальные хроматические ступени сходящихся и расходящихся бесконечных рядов — и суммирующие аккорды формул Тэйлора, Маклоренса; целотонные, квадратно-грузные ходы Пифагоровых штанов; грустные мелодии затухающе-колебательного движения... Какое величие! Какая незыблемая закономерность!»
В это же время (40-е годы) вырисовывается в лирике Заболоцкого и образ поколения (Творцы дорог, Храмгэс, Завещание, Журавли); с этим, по всей видимости, связано и особое для данного периода отношение к теме смерти, теме конечности человеческого бытия, ведь поколение — ограничено, оно вне бесконечности. Здесь можно провести параллель с одной из ключевых, на мой взгляд, фраз знаменитого романа: «...бесконечности нет». А если нет бесконечности, то в чем смысл человеческого существования, куда движется история и как (Д-503, например, писал: «человеческая история идет вверх кругами»); что в конце концов есть та сила, творящая ее и ведущая к конечной цели, неведомой, но непременно конечной, потому что и бесконечность (в какой бы форме она ни была — круга или прямой) — имеет предел?
Поколение, нарисованное Заболоцким, скорее безликое, чем обладающее индивидуальными признаками. Это — не разношерстный ряд совершенно разных людей, но некое общее собрание архетипов («полный сил народ», «грузинские юноши, дети страны», «молодой сталевар»; все они могут составить единое «Мы» из «Творцов дорог»). Невозможно не вспомнить тут о нумерах Замятина: «Мы идем — одно миллионоголовое тело, и в каждом из нас — та смиренная радость, какою, вероятно, живут молекулы, атомы, фагоциты».
И вот подобное поколение Заболоцкого пытается преобразовать природу, включить ее в социально-исторический процесс:
Здесь История пела, как дева, вчера,
Но сегодня от грохота дрогнули горы,
Титанических взрывов взвились веера,
И взметнулись ракет голубых метеоры.
(Храмгэс. 1947)
И снится ей блестящий вал турбины,
И мерный звук разумного труда,
И пенье труб, и зарево плотины,
И налитые током провода.
(«Я не ищу гармонии в природе...», 1947)
Не о таком ли преобразовании бессмысленной природной энергии в четко выверенную, полезную для человеческого общества, говорит поэт Единого Государства К-13: «.. .смешно и нелепо,.. .что море у древних круглые сутки тупо билось о берег и заключенные в волнах миллионы килограммометров — уходили только на подогревание чувств у влюбленных. Мы из влюбленного шепота волн — добыли электричество, из брызжущего бешеной пеной зверя — мы сделали домашнее животное...»
К тому же словно эхом отзываются в замятинском романе на звуки «разумного труда» механические мелодии такого же — продуманного, четкого, полезного: «...к вам мы придем, чтобы сделать вашу жизнь торжественно разумной и точной, как наша...»
Здесь снова хочется вернуться к очень важному для Заболоцкого вопросу смерти и бессмертия. Продолжается ли человек, умерев, происходит ли та излюбленная «метаморфоза» — превращение одной энергии в другую, одного живого существа — в новое? Вот записи Д-503: «Верите ли в то, что вы умрете?... А я спрашиваю: случалось ли вам поверить в это, поверить окончательно, поверить не умом, а телом, почувствовать, что однажды пальцы, которые держат вот эту самую страницу, — будут желтые, ледяные... Нет: конечно не верите». И Заболоцкий тоже не верит, не хочет верить, даже понимая, что история, творимая человеком, возьмет с собой лишь избранных, в то время как природа перетекает из одного состояния в другое: ведь у «растительного мира бессмертная душа», а «природы вековечная давильня соединяет смерть и бытие». Такая идея метаморфоз очень сходна с мыслью Д-503 о том, что «растворение во вселенной, взятое в пределе, есть смерть. Потому что смерть — именно полнейшее растворение меня во вселенной». Но если вселенная — это бесконечность, а бесконечности, как мы узнали ранее, нет, значит ли это, что и смерти нет? К тому же как быть с заявлением Д-503: «Я — вселенная». Получается, что если смерть — это растворение человека во вселенной, то оно идентично растворению человека в самом себе, а энергия, выделяемая в ходе этого процесса, переходит в иную форму, так или иначе вливаясь в исторический поток. Наверно, именно здесь, осознавая бесконечность жизни, человек вновь соединяется с природой, с новой силой ощущая родство, ведь не есть ли она та самая, выражаясь словами Д-503, «половина, которую мы потеряли. Н2и О — чтобы получилось Н20 — ручьи, моря, водопады, волны, бури — нужно, чтобы половины соединились...» И они соединяются: Человек принимает природу такой, какой она всегда была и будет: иррациональной, стихийной, свободной, а ведь именно свободы боялись в Едином Государстве, где считали, что «свобода и преступление неразрывно связаны между собой...»
В то же время сила свободы несокрушима, она рвется «к разрушению равновесия, к мучительному, бесконечному движению». У поэта возникает ощущение наличия в мире некой жизненной единой силы:
И все яснее чувствуется связь
Души моей с холодным этим утром.
«...Мы все одно, мы прочно связаны какими-то жилками, и по жилкам — одна общая, буйная, великолепная кровь...» — отметил Д-503 в своем конспекте-дневнике.
Механическую музыку машин сменяет у Заболоцкого иная — полнокровная, живая, полифонически объемная:
Поднялся ты по облачным ступеням
И прикоснулся к музыке миров.
Живую чувственную музыку описал и Замятин: «...Дикое, судорожное, пестрое... — ни тени разумной механичности».