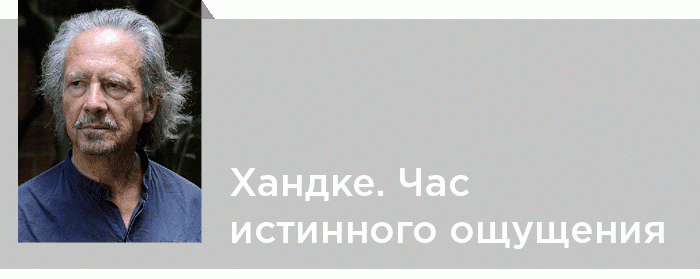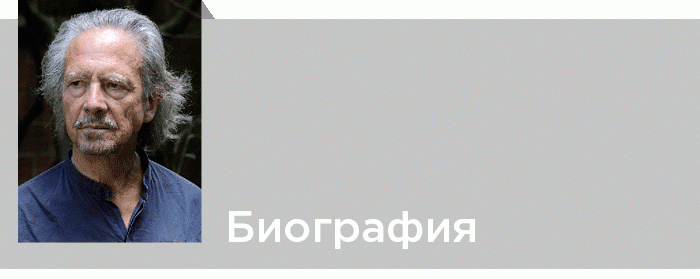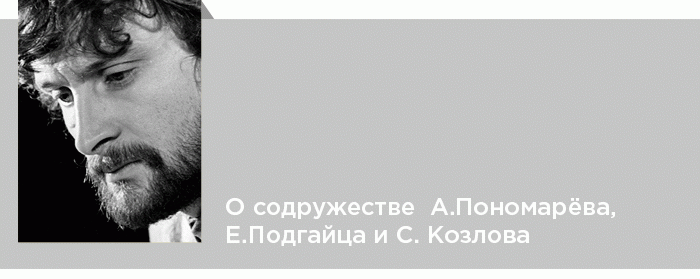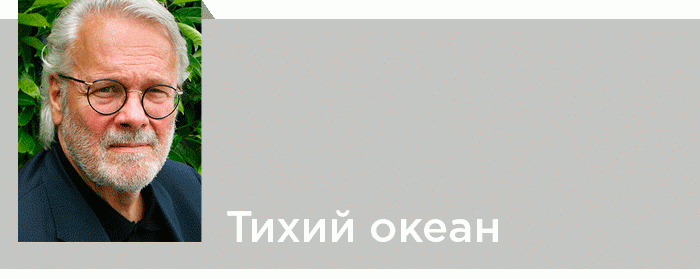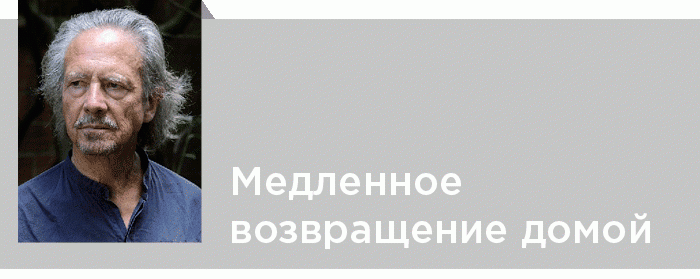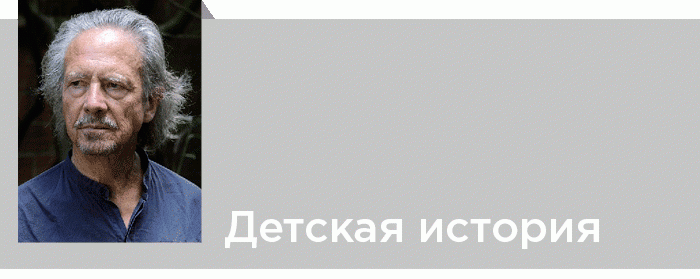Петер Хандке. Писатель после полудня
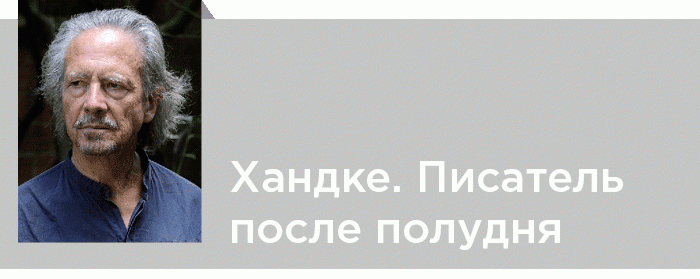
В. Махлин
«Людям 20-х годов досталась тяжелая смерть, потому что век умер раньше их». Эти слова из романа Ю. Тынянова «Смерть Вазир-Мухтара» невольно вспоминаются при чтении новой повести П. Хандке (род. в 1942 г.) «Писатель после полудня». Не потому, что в произведении австрийского автора изображается смена эпох, как в тыняновском романе; в этом отношении повесть Хандке может показаться непритязательной: несколько часов из жизни писателя, оторвавшегося от письменного стола и мучительно пытающегося рассеяться в одинокой прогулке по городу (такие прогулки для него — время медитации, самопознания и самооправдания). Откуда же возникает сравнение с романом Тынянова, написанным в 20-е годы? Сравнение оправдано опытом XX века: «сильная необратимость» времени (по выражению современного философа Б. Кузнецова) снова и снова выносит нас за пределы определенного, «нашего» времени; поколение 60-х годов, к которому принадлежит Хандке, оказывается сегодня в сложной ситуации изменяющегося культурного контекста, в котором, казалось бы, имеющие сложившуюся репутацию авторы бурных 60-х испытывают растерянность. Хандке — писатель, по-своему остро чувствующий «шум времени»; в новой повести он улавливает, пожалуй, отсутствие звуков. Послеполуденное время для героя повести — момент самопознания; для автора повести это скорее обозначение периода жизни. «Писатель после полудня» — писатель в расцвете творческих сил. Но конкретное содержание повести придает такому представлению достаточно иронический и даже драматический смысл. Произведение Хандке можно назвать кризисным: речь идет о кризисе личности. И о кризисе деятельности — всякой деятельности, в том числе и творческой, писательской.
Повесть начинается пассажем, который стоит процитировать, ибо в нем — главная мотивировка изображаемого события, точнее, интересующей Хандке внутренней ситуации: «С тех пор как однажды в течение почти целого года он прожил с ощущением, что потерял язык, писатель воспринимал каждое предложение, заносимое им на бумагу и служившее ему толчком к следующему предложению, как событие». Психологический казус, перерастающий, по замыслу Хандке, в более общую тему разрыва в общении с миром, а отсюда — внутреннего кризиса.
Потеря «коммуникабельности» — обычная тема современной литературы. Хандке она интересует применительно к профессиональной деятельности писателя, и это придает повести известную остроту — ироническую и драматическую. Ведь писатель — это тот, чья деятельность сама по себе утверждает реальность «языка» человеческого общения. Потеря языка общения в смысле общего пространства и коммуникативной связи между людьми, замещение этого языка внутренней речью, профессиональным письмом — это как бы гротескная изнанка литературы, проблематизирующая одновременно и существо литературы, и существо писательской деятельности. Так, судя по всему, и следует рассматривать замысел повести «Писатель после полудня».
Сэлинджеровский Холден Колфилд, как помнится, хорошему писателю хотел обычно позвонить по телефону. Мы не знаем, хороший ли писатель, избранный Хандке в качестве героя, но мы видим другое: автор повести настолько внутренне прикован к своему герою-автору, что взглянуть на этого героя извне ему не удается. Не в том, однако, дело, что герой автобиографичен; замысел повести в жанровые рамки автобиографии явно не укладывается, это и не исповедь, конечно, а нечто другое. И не в «лирике» здесь дело: лирическая проза изолирует лирический голос, как бы отодвигает его; Хандке же, по всей вероятности, остается в границах условного прозаического рассказа, для того чтобы показать неадекватность этой формы изображаемому событию. И тем самым событие размыкает свои «объективные» границы, раскрывается в своем объективном социальном контексте и значении.
Что есть человек вне своей работы, как вот этот, единственный человек? И кем является писатель, как такой единственный человек, вне своего творчества? Конечно, если мы привыкли думать, что «сам» человек — ничто вне труда, вне своей деятельности, а то, что он в широком смысле слова «производит», и есть он сам, то вопросы подобного рода становятся бессмысленными. Но П. Хандке, очевидно, думает иначе. Его повесть — реплика в современных спорах о культуре, реплика тем более ценная и уместная, что дается она «изнутри», то есть не на риторическом, а на художественном языке. Пожалуй, это не совсем уже язык искусства, но ведь в этом-то и замысел описанного в повести, по сути, диалогизированного монолога героя-автора.
Да, мы не знаем героя Хандке как писателя, но если вообразить себе нечто обратное желанию Холдена Колфилда позвонить понравившемуся автору по телефону: чтобы встреча с писателем «в жизни» побудила нас разыскивать его книги, прежде неизвестные, то в данном случае такое желание едва ли может возникнуть. Но и это, по-видимому, входит в замысел автора повести: его произведение — как бы на пороге литературы, этим оно интересно, этим оно и значительно уже вне пределов литературы, как культурологический симптом.
В приведенной первой фразе повести выделяется слово «событие». Событие! Вот что делает героя повести еще живым, еще общающимся с миром — хотя бы в своем собственном внутреннем мире. И в этом он, при всем своеобразии психологического казуса (скажем так), изображенного Хандке, понятен каждому другому человеку, какой бы профессиональной деятельностью он ни занимался. Вот парадокс: все, что делает специфическим опыт изображаемого в повести П. Хандке лица, в то же время интерсубъективно, понятно каждому, это относится и к тому, как формулируется в ней устами рефлектирующего героя проблема самопознания. «Итак, — размышляет «писатель после полудня» в косвенной речи, — не «я как писатель», а скорее „писатель как я“. Социальная роль как бы вывернута наизнанку, и вопрос ставится не о роли, а о том, что за ней, — вопрос о личности.
П. Хандке как бы экспериментирует с образом писателя «на публику»: то, что условно можно назвать героем повести, — это именно человек в его экзистенциальном измерении: не «я-для-другого», а скорее «я-для-себя». То, чем я сам являюсь для себя самого, вне моей работы, вне «текста» и «за кадром», — таково внутреннее пространство повести. П. Хандке, в сущности, показывает своего героя в ситуации внутренне убедительного слова: оно-то, это слово, и есть «язык», который, как казалось герою долгое время, он потерял.
Когда человек искусства делает предметом изображения человека искусства — это всегда симптом кризиса социальности. Причем не внешней только, а внутренней социальности. Потеря «языка» обозначает, собственно, этот внутренний кризис. Повесть Хандке стоит в ряду определенной традиции — традиции рефлектирующей самокритики искусства и человека искусства в художественной и интеллектуальной культуре XX века: достаточно вспомнить «Доктора Фаустуса» Т. Манна. Но вместе с тем повесть выходит из традиционного ряда. Выходит в том смысле, что разрыв в системе общения становится таким глубоким, что искусство может продолжать себя, лишь «обнажая прием», раскрывая свои собственные коммуникативные, культурно-речевые детерминации, самую структуру того, что поэт О. Мандельштам в 20-е же годы называл «речевым сознанием». Речевое сознание автора «после полудня», «писателя как „я"» и является предметом изображения в повести.
Какое «событие» согревает, оживляет жизнь героя Хандке? Мы никогда не узнаем об этом. Потому, что, в отличие от героя-писателя, автора интересует другое событие, то есть поиск внутреннего самоопределения, некий нравственный суд героя над собой. Писатель после полудня слоняется по городу, он хочет уйти от себя — «писателя», потому что потерял себя — человека. И все впечатления, редкие случайные встречи, и в особенности «деловая» встреча со своим собственным переводчиком, — все это обращено к внутреннему миру героя, является как бы репликами его непрестанного внутреннего монолога, то замещенного внешними реалиями, то вводимого в текст в косвенной или прямой речи.
Особенно показателен разговор с переводчиком, который когда-то и сам был писателем, но потом отказался от этой «муки». Переводчик говорит не столько о пресловутых муках творчества, сколько о другом. «Я переводчик, и ничего больше, — объясняет он герою повести, — без всяких задних мыслей, я совершенно совпадаю с самим собой... Переводя, я испытываю глубокое спокойствие. Нет, в самом деле, дружище: чудесные впечатления, которые я переживаю, — настоящие, но только вне моей единственности». Иначе говоря, чужой текст, работа с ним — это «чудесная» встреча с другим сознанием, но не всем своим сознанием, а в отвлечении от его центра, от «я-для-себя». «Таким образом, — резюмирует переводчик, — изображая по возможности выразительно твои душевные раны, я скрываю мои собственные».
Возникает впечатление подмены: можно подумать, это переводчик является писателем, а сам писатель — его героем. Кем же тогда оказывается автор? Может быть, героем, которого «пишет» сама жизнь и с которым автор уже не может совладать? Во всяком случае, герой Хандке рассуждает в подобном духе. «Уже потому, что я — сколько лет? — отделялся сам от себя и откладывал свою жизнь на будущее, чтобы писать, я признал свое поражение как общественный человек; я исключил себя из круга других на всю жизнь».
Это — суд над собой, но не только. Повесть Хандке свидетельствует, что пошатнулись и сдвинулись какие-то глубинные, антропологические основания «языка», объединяющего людей, что привычные представления о человеке и его деятельности теряют свою убедительность; в этом отношении «казус» с потерей языка у писателя говорит о многом, отнюдь не только о литературе. Не случайно в тексте повести часто возникает слово «неописуемое». Хандке в этой, как и в предшествующих своих повестях делает предметом описания «неописуемое»: осознание человеком своего несовпадения с самим собой, со своей судьбой, со своим образом «для другого». Та же тема была, скажем, в повести 1972 г. «Нет желаний — нет счастья» (1972), где рассказано, как мать писателя, движением времени выброшенная из собственной судьбы и собственного образа, не вынесла встречи со своею «единственностью», с недоумением перед своей жизнью, уже прожитой, но не оправданной, не вынесла сознания возможности какой-то иной жизни — уже невозможной... Писателю Хандке и легче и труднее: он сознательнее; но его исповедальный герой, похоже, тоже не может оправдать себя, тоже в «неописуемом» кризисе. Сам автор — в кризисе, потому что в кризисе, судя по многим признакам, писательство как таковое. Человеческое содержание взрывает художественные формы, потерявшие внутреннюю убедительность. И убедительно рассказать об этом может и должен сам писатель — он в первую очередь. В этом смысле повесть «Писатель после полудня» — ценное свидетельство. Ценное потому, что кризис искусства, сегодня более чем заметный, в сущности оказывается плодотворным; он подготавливает какие-то новые формы реализации «общественного» человека, следовательно, новые формы «языка», в котором «единственность» человеческого «я» преодолеет свое отчуждение. Что касается самого Хандке, то, пожалуй, повесть его дает основание сделать парадоксальный вывод: чем решительнее писатель отходит от своего «образа на публику», тем убедительнее утверждает свою единственность в качестве общественного человека.
Л-ра: Современная художественная литература за рубежом. – 1989. – № 1. – С. 5-7.
Критика