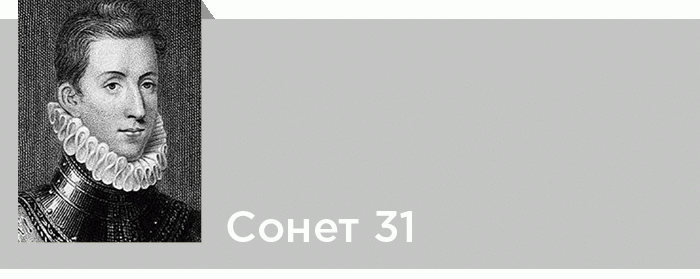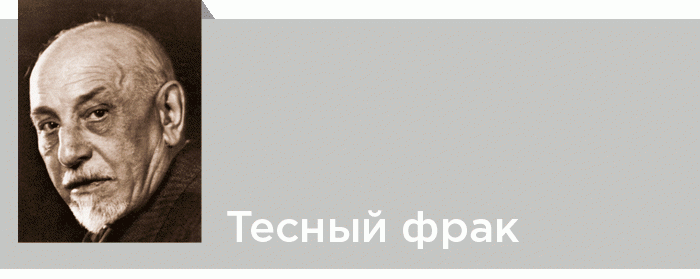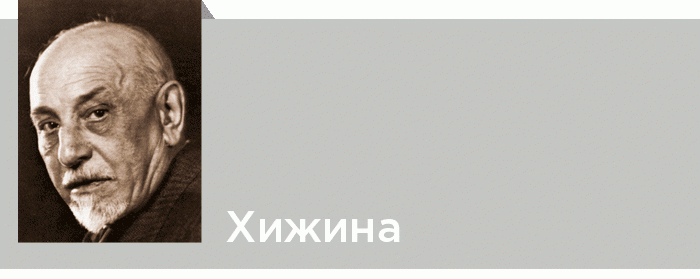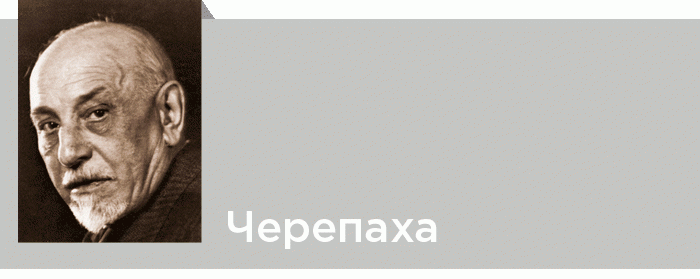Поиск «предъязыка» и идея «молчания» у Луиджи Пиранделло
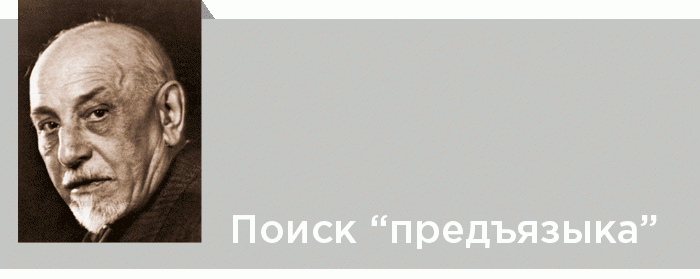
А. В. Хлебников
Поэтика Л. Пиранделло, одного из крупнейших писателей XX в., лауреата Нобелевской премии по литературе 1934 г., настолько необычна и интересна, что продолжает привлекать внимание исследователей и сегодня, так как она связана с глубинным философским постижением мира, изучением сознания человека в эпоху кризиса, с поиском общечеловеческих ценностей, не подверженных изменениям.
Среди основных проблем его поэтики, осознание которых необходимо для понимания языка, выделяется проблема соотношения формы и содержания. Он понимал жизнь как «постоянное течение, которое мы пытаемся остановить, зафиксировать в устойчивых и определенных формах», которые все равно рушатся под неудержимым потоком жизни [Pirandello, 1908: 151-152].
Для Л. Пиранделло искусство неотделимо от жизни, ибо в нем действуют те же законы, поэтому он создает собственную концепцию искусства, которую называет «юмористской», используя для этого древнее значение слова «юмор» ‘характер’. Столкновения характеров неизбежны, что создает конфликты, диссонансы, разные точки зрения на одни и те же факты. Исходя из этого юмористские произведения разбиты постоянными прерываниями действия, обращениями к анониму и вторжениями автора. «Юморизм в своем глубинном, основном процессе неизбежно разлагает, расчленяет, диссонирует, когда, обычно, искусство вообще, как оно преподавалось школой риторики, было над всей внешней композицией, порядком логически выстроенным» [Pirandello, 1908: 49]. Так, юмористское искусство — единственное способное представлять жизнь, как она есть.
Итак, сама аналитическая сущность юморизма обеспечивает необходимое разложение формы произведения, разложение как освобождение. Л. Пиранделло требует свободы для творчества: «искусство в любой своей форме... не имитация, или воспроизведение, но “создание”... Только искусство, когда это настоящее искусство, творит свободно, оно реальность, которая имеет только в самой себе свои необходимости, свои законы, свою цель» [Pirandello, 1918: 305-318]. Отсюда и стремление Л. Пиранделло к естественности в искусстве, которое не должно в этом смысле отличаться от жизни, а, скорее, должно быть ее реконструкцией. Он заявлял, что произведение искусства создается свободным движением внутренней жизни, которая сливает идеи и образы в одну гармоничную форму. Здесь становится ясно, что размышление играло для писателя лишь вспомогательную роль. У него исчезает «всеведающий» автор-«Создатель» и появляется автор-«зритель», «читатель», который будто рассматривает жизнь. Он мало пытается объяснять, ибо в жизни никто ее не объясняет. И Л. Пиранделло не создает подобие жизни, а воссоздает ее саму, какая она есть, со всей ее необъясненностью. Делает он это с помощью полифонии, основанной на контрапунктировании различных языковых средств и приемов.
Итак, основная черта письма Л. Пиранделло — это спонтанность, теоретически обоснованная, нашедшая опору в психических процессах человека. «Невозможно не заметить, как новеллы превращаются в некий тип “состояния рождения”, в котором формирование поэтического ядра предстает в процессе свершения и еще не заключено в строгие рамки...» [Corrado Simeoni, 1991: XXI-XXXVI],
Отсюда и истина выявляется для Л. Пиранделло «чувством жизни», которое разлагает «факт», делает его подвижным, зависящим от множества интерпретаций. Жизнь отныне рассматривается как игра, в которой принимают участие различные варианты возможной истины, а статичность прежнего европейского натурализма заменяется постоянным движением, в котором не может найти опоры никакая устоявшаяся система взглядов, ибо они несовершенны. Это ощущение постоянного противоречия как основы жизни является причиной множества контрастов, пронизывающих его произведения. Нужно помнить, что провозглашенный им «юморизм» заявлялся именно как «искусство контрастов», когда «смех и слезы» сосуществуют одновременно, и зачастую очень трудно понять, какая из сторон этого контраста истинна, скорее — они истинны одновременно. Писатель поставил смысловой акцент на восприятии событий сначала читателями, затем — самим персонажем рассказа. Отсюда юморизм — воплощение субъективизма как системы «чувственно-ощутимых образов» и «качество выразительности», но не какие-либо правила. Л. Пиранделло делал «объективной» саму субъективность, придавал ей значение иной философской категории, чем в корне менял сложившееся в европейском сознании позитивистское, «научное» отношение к действительности, находившееся к концу XIX в. в глубочайшем кризисе.
Этим кризисом был продиктован поиск Л. Пиранделло собственного языка выражения. И в поисках этого языка, способного быть жизненно значащим, писатель приходит к осознанию того, что во всеобщем потоке движения мысленных форм и само слово становится неустойчивым, малозначащим и многозначительным
в одно и то же время. Таким образом, движение Л. Пиранделло в языке становится противоположным общепринятому до него — от несказанного к сказанному, у него же оно — от сказанного к несказанному явно, возможному, скрытому, но и более значимому.
Одной из черт языка Л. Пиранделло, создающей особую пиранделловскою атмосферу, когда сообщенное располагается как будто «между» словами, создавая глубокий подтекст произведения, является убежденность писателя в том, что, говоря, человек только приближается к возможности настоящего высказывания. «Несказанное», ускользающее от слова у Л. Пиранделло — это одержимое его движение к «жизни», к тому, что скрывается за различными субъективными видениями персонажей новелл и пьес в его мире «слов», заменившем прежний натуралистский прочный мир неподвижных «вещей», тяжеловесно описываемых старой риторикой. «Не удовлетворяясь больше фактом, Пиранделло восходит к до-факту» [Cornelia Van der Voort, 1993: 237-243], т. e. несотворенному, невыраженному.
Особенность коммуникативного воздействия Л. Пиранделло — это выход за «предел» сказанного. Если ранее в литературе основой произведения была какая-либо «история», то у него она остается зачастую за гранью действия. Маринелла Кантелмо отмечает, что «диалог Пиранделло... ее (историю) не излагает, но ограничивается намеками посредством двусмысленных фраз, взаимного сведения счетов персонажей, или посредством головокружительного фейерверка... получатель (читатель, зритель)... воссоздает в собственном сознании эмоциональное очарование, внушение, предложенное “несказанным” посланием, которое приглашает проследить последний смысл вещей, неописуемую тайну, сокрытую позади ощущаемых видимостей» [Marinella Cantelmo, 1993: 120].
И именно этот «последний смысл вещей» удерживает произведение от растворения в бесконечной последовательности интерпретаций. Но дело в том, что «смысл», по Л. Пиранделло, — не определенность, а возможность.
Это тяготение к менее формальному письму становится очевидным при сравнении новеллы и atto unico («пьесы в одном акте», которые он переделывал из новелл для театра), там, где это очевидно в изменениях текста, в переводе языковых средств в положение, вещи, мизансцены, жесты. Так «язык» становился «предъязыком», более истинным. Вербальное становилось невербальным, ускользающим, но и более верным. При этом вносимые языковые изменения были не случайны. У Л. Пиранделло наблюдается как понижение регистра в речи, так и повышение регистра коммуникации — ее выход за «предел» общения. К первому факту относится изменение пунктуации, придание ей большей «разговорности» для того, чтобы определенные выражения были выделены, услышаны. При этом пунктуация идет по пути усиления с целью большего разделения речи, делания ее прерывистой, как при естественном разговоре. Так, запятые, многоточия в новеллах заменяются черточками, дефисами и двоеточиями или восклицательными знаками, например: «Lo so, e guarda, puoi anche aggiungere...» / «Lo so io! E guarda, puoi anche aggiungere...» («Знаю, и смотри, ты можешь также добавить... / Я это знаю! И смотри, ты можешь также добавить...») [Biagi, 1980: 162-221]. Это позволяет преодолеть монолитность текста, ставшего более раздробленным, живым, что придает ему разговорный ритм, выстроить диалог, обеспечивающий двойственность позиций, интерпретаций происходящего.
Но самое важное — это цель пиранделловского «послания», уходящего за предел сюжетного действия, особая функция пиранделловского языка — приоткрыть скрываемое, невыразимое ни языком, ни «театральным» представлением. Интересно использовать здесь подборку, сделанную Марией Биаджи в «La Sagra del signore della Nave» («Праздник синьора с Корабля»), собравшей усиливающие формулы, отсылающие вовне происходящего: «un шаге blu [...] che non potrebbe essere più blu di cosi» («море такое синее [...] что не могло бы быть еще синей, чем сейчас»), «chi lo fece, più Cristo di cosi non lo poteva fare» («кто это сделал, так сам Христос не мог бы сделать больше»), «un pianto vero, che più vero di cosi non potrebbe essere» («настоящий плач, который не мог бы быть более настоящим»), «E vuole una tragedia più tragedia di questa?» («И хотите трагедию более трагическую, чем эта?») [Biagi, 1980: 162-221]. Здесь Л. Пиранделло следует своему мироощущению, в котором язык — это только начало постижения мира, и в этом втором его выборе в языке, онтологическом, регистр повышается.
Особая тема — живописность пиранделловского мира, способного говорить как бы за себя, где молчание природы полно напряженного внутреннего значения «говорящей» вещи, существующей автономно от субъекта. Это создается дистанцией, на которой находится воспринимающий субъект, стоящий как бы извне. Это особое ощущение наблюдения за жизнью возникает из позиции автора-зрителя.
Особую сторону «живописи» Л. Пиранделло составляет пейзаж, который всегда философски-поэтичен. Описательные пейзажные места у него обладают некоей схематизацией, они как бы отличительные знаки, налагаемые художником на картину — подобие «пароля» для посвященных в тайну жизни, способных проникать в нее. Эта сдержанная простота, почти лаконичность образов обладает огромной силой. «Fili d’erba» («стебли травы») и «stelle» («звезды») — вполне самодостаточны. «Не нужно сада... хватит и стебелька травы; не нужно экзотической фауны: хватит насекомого, упавшего в стакан и пытающегося спастись, не нужно дыма ладана, хватит “аромата шалфея” или запаха травы; хватает слов повседневных, которые вылавливаются в море аналогий», и нужно сделать, как судья д’Андреа из новеллы «La patente» («Патент»), который, «прикрывая веки за очками, ловил между ресницами свет одной из тех звезд, и между глазом и звездой устанавливал связь в виде тончайшей сияющей нити, и посылал по ней душу путешествовать, как затерявшегося паучка» [Biagi, 1980: 162-221]. О своем рождении Л. Пиранделло писал: «...однажды июньской ночью я упал, как светлячок, под огромную уединенную сосну на поле масличных деревьев, выходящее к обрывам плоскогорья голубых глин над африканским морем. Известно, какие они, светлячки. Ночь, свою черноту, кажется, она ее делает для них, которые, летя неизвестно откуда, то тут, то там открывают на мгновение свой слабый зеленый лучик. Кто-нибудь из них то и дело падает, и виднеется тогда, то угасая, то вспыхивая, тот вздох зеленого света на земле, которая кажется отчаянно далекой. Так упал туда и я в ту июньскую ночь...» [Camilleri, 2001: 19-20].
Большой интерес представляют теоретические высказывания Л. Пиранделло на тему о возможности коммуникации, представляющие довольно стройную систему, хотя и по-юмористски противоречивую.
С одной стороны, по его мнению, мы никогда не понимаем друг друга до конца, т.е. полноценное общение невозможно. Этот постулат он излагает устами Москарды в романе «Uno. Nessuno. Cento mila» («Один. Никто. Сто тысяч»): «Беда в том, что вы, дорогой мой, не узнаете никогда, ни я не смогу вам никогда рассказать, как переводится во мне то, что вы мне говорите... Мы используем, я и вы, тот же язык. Но разве наша вина, моя и ваша, если слова сами по себе пусты? Пусты, дорогой мой. И вы их наполняете вашим смыслом, говоря мне их; и я, принимая их, неизбежно их наполняю моим смыслом. Мы думаем, что понимаем друг друга, но мы не поняты совершенно». Л. Пиранделло был убежден, что люди не могут никогда достигнуть истинного понимания реальности, так как не имеют в окружающем мире «точки отсчета», из-за того, что мир полон кажимостей. Неосновательность, нелепость речи, не совпадающей с намерениями человека, проявляется в произведениях Л. Пиранделло постоянно. Общение между людьми возможно лишь до какой-то степени, так как образы одного человека не совпадают с образами других людей. Человек может лишь взаимодействовать с окружающим миром, собеседником, языком, по их изменениям понимая, что он как-то услышан, причем «как» он услышан, будет оставаться для него неразгаданным. Так, в новелле «Свет и тьма» задумавший утопиться Чунна вынужден поддерживать никчемную беседу со случайно встреченным им знакомым, ничего не подозревающим, и так длится целый день, пока Чунна не уезжает обратно от моря в свой городок, не осуществив своего намерения. Эта ситуация трагикомична.
И все же коммуникация возможна благодаря третьей, независимой, ее стороне — языку. В произведениях Л. Пиранделло он начинает существовать как «вещь в себе», полная собственных значений, способная к воспроизводству. При этом писатель полагал ошибочным считать, что коммуникативные средства — внешнее по отношению к внутреннему эстетическому, по его мнению, они «сами по себе — эстетический факт», измеряемый только собственным и неповторимым бытием [Pirandello, «Saggi», 1908]. Здесь нашла воплощение его эстетика «жизненности», выразившаяся в языке как «вещи в себе». Итак, истинное общение возможно только на основании этого «языка вещей», так как есть «писатели вещей» и «писатели слов», хотя и те и другие пользуются словами, но «создатели, строители» — только те, кто выражают вещи в их «голой девственности», а остальные — лишь «приспособители, подгоняющие» [Pirandello, 1960]. В речи в честь Дж. Верги он так завершает свою мысль о слове: «между вещью и тем, кто должен ее видеть, оно как слово исчезает, и пусть оно будет там, но не как слово, а сама вещь». Писатель полагает это возможным и для театрального действа: «автор должен находить слово, которое будет и самим сказанным действием... выражением, рожденным вместе с действием, единственным выражением, которое не может быть иным, то есть именно с этим персонажем и в этой ситуации» [Pirandello, 1960]. «Чтобы с написанных страниц персонажи прыгали живые и самодвижущиеся, драматург находил слово, которое было бы самим говорящим действием, живым словом, которое движется, немедленным выражением, сроднившимся с действием» [Pirandello, «Saggi», 1908]. Нужно также учитывать, что в этом поиске «языка вещей» он отвергал неестественность прежних литературных приемов, вынуждающих автора постоянно использовать глагол, носящий описательную функцию, которая выглядит слабой в сравнении с функцией существительного — называющей, как бы творящей мир. Любое утверждение у Л. Пиранделло, опирающееся на глагол, носит неустойчивый характер, тут же опротестовывается другим утверждением. Тогда как мир номинативный, только что названный и сотворенный, новый, немой (потому что отказался от риторики) и потому радостный — мир лучший, чем предыдущий. И здесь нет противоречия с тем, что этот новый мир — мир «говорения», ибо оно — называние вновь и вновь, а значит — постоянное пересоздание мира.
Можно заключить отсюда, что слово для Л. Пиранделло — двусторонне, с одной стороны оно близко означаемому, практически совпадает с ним, способно «раствориться» в вещи, действии, другой же стороной, противоположной, оно лживо и не способно к выражению. В поисках стиля он преодолевает эту дилемму, стремясь избегать крайностей как возвышенного цветистого письма, так и плохого, низкого, характерного для авторов, профессионально пишущих для театра. Для Л. Пиранделло нет языка как чистой «объективности», которую можно «скопировать». Проникая «в нас», слова из общепризнанной «объективности» становятся «символами вещей» и «призраками», которые «наша воля должна заставить двигаться» [Pirandello, 1960]. Итак, собственный язык — это творение индивидуальное, извлеченное из общего. Этот стиль Мария Гриньяни определяет как «новую риторику», как «технику, пригодную к деланию осязаемым незавершенности мира» [Grignani, 1986: 65-72]. Это четко описывал сам писатель в «L’umorismo» («Юморизме»), где образы должны «представать в контрасте, где одна группа образов противостоит другой, и в то же время требует ее... Юморизм требует живое... и немедленное движение языка, движение, которого можно достигнуть, если только форма время от времени создается заново».
То что слово может выступать как «призрак», ведет к тому, что оно обладает способностью смутно сообщать о несказанном, включать цепь ассоциаций. Отсюда — символизм языка Л. Пиранделло, так как символ содержит послание, скрытый смысл. Часто предметы у него играют роль «знаков», например «золотые колечки» в ушах дона Лолло («La giara») («Джара») символизируют его крестьянское происхождение, или его жилетка, говорящая об озабоченности хозяйственного человека, вынужденного приглядывать за всем и оттого разгорячившегося. В новелле «Lumie di Sicilia» («Сицилийские лимоны») лимоны — явный символ юга, тепла, добрых человеческих отношений, они выражают насыщенность чувствами, надеждами. Самый же известный символ у писателя — это «olivo saraceno» («оливковое дерево») в финале «I giganti della montagna» («Гиганты гор») — «говорящий» символ мироздания.
Стоит вспомнить и символизм жестов у Л. Пиранделло, это не случайные движения, а своеобразный язык тела. Например, частые взгляды на манжеты рубашки говорят о робости, неуверенности людей «тощих», не чувствующих своего тела. Еще один «вспомогательный» язык Л. Пиранделло — это язык сна, открывающий первичные связи вещей. Им буквально пронизаны многие его новеллы, особенно сборник «Il vecchio Dio» («Старый Бог»). Бессознательным наполнена и новелла «Lumie di Sicilia» («Сицилийские лимоны»), где лимоны — знак счастья и любви в деревне противостоят городу, т.е. голоду чувств, тоске, смерти былого. В итоге город забирает лимоны, они исчезнут, им не победить. В этом языке бессознательного — скрытая игра на потаенных струнах души читателя, сочувствии отвергнутому дару, униженному знаку любви, превращенному в простой предмет для потребления, с которым гибнет и овеянное счастьем прошлое.
Среди общих характеристик языка Л. Пиранделло можно выделить его раздвоение на «язык жизни» и «язык рефлексии, обдумывания».
Первый язык — не рассказывающий, а создающий, в нем суть оказывается зачастую между словами, в невысказанном персонажами, участвующими в особого рода коллективной информации, когда общая картина создается самим зрителем из разрозненных деталей, намеков и воспоминаний. Используется и «зона умалчивания», из-за чего можно догадаться о скрытом, ибо то, о чем не говорят, — наиболее важно. Это язык создания «мифа». Для него характерен лиризм, выразительные метафоры.
Второй же язык — рассуждений. Ценность его — в вариативности интерпретаций. Отличительная черта этого языка — «неспособность к заключению» [Calvino, 1988: 108], стремление к самопродолжению в цепи бесконечных препирательств.
Тем не менее оба этих языка объединены особой архитектоникой речи. Основа ее — юмористская рефлексия, «создающая чувство противоположного, когда неизвестно какую из сторон больше поддерживать, смущенность, нерешительное состояние сознания» [Pirandello, 1908].
Эта рефлексия и дестабилизирует какую-либо уверенность, устойчивость ситуации и одновременно стягивает ее, удерживает от распада, давая возможность действию двигаться вперед. Она — постоянный камертон пиранделловского стиля, определяющий противоречия между сутью и формой, явью и грезой, создающий диалектические взаимоотношения между разными полюсами. Это постоянство создает повторяемость, места, в которых встречаются раз за разом сходные темы, навязчивые идеи, уже знакомые состояния. Но именно эта повторяемость и создает устойчивость конструкций, соответствующих упорству персонажей, не готовых ни на пядь поступиться тем, что они выстрадали, ведь это — единственное, что у них есть.
Используемые Л. Пиранделло описания ритуальны, они создают во многих местах ситуацию, когда предметы, всего лишь «называемые», начинают излучать смысл бытия, скрытую в них жизнь. Эти вечные «звезды», «луна», «стебли травы» и «сверчки» словно «персонажи» переходят из одного произведения в другое, создавая ощущение скрытого ритма, повторяемости, гармонизирующей Вселенную, удерживающую ее от Хаоса. Эти частые долгие перечисления, многочленные структуры, являются ритмическими заклинаниями, очаровывающими и погружающими в текст, убаюкивающими покачиваниями:
Gli occhi soli ancora vivi. Poveri, cari, santi occhi belli («Notte»), (Только глаза еще живые. Бедные, дорогие, святые, прекрасные глаза. («Ночь»)).
При этом создается особое ощущение фиксации на объекте, становящемся центром внимания, центром художественного мира. Из описания в «Requem aetemam dona eis, Domine!» («Вечный покой даруй нам, Господи!» (лат.)) звезд, травы, горящих факелов и приготовленного фоба, папистской шапочки и так далее возникает идея единства неподвижного мира, единства верха (неба) и низа (земли). Особое значение имеют перечисления предметов, как бы творящие материальный мир. Но одновременно эти хаотические, многочисленные «наваливания» описательных слов подчеркивают и их девальвацию, неспособность к полноте выражения. Они — только подобия того, что «есть на самом деле», они могут лишь натолкнуть сознание на смысл того, к чему они только прикасаются, к значимой вибрирующей зоне молчания.
Тема молчания играет у Л. Пиранделло особую роль. Связано это прежде всего с неспособностью слова, грамматики к выражению. Слово не решает вопросов, не преодолевает пропастей непонимания. Оттого существует особое напряжение между рациональностью грамматики и скрытыми возможностями риторики, включающей в себя в качестве одного из аспектов — молчание как отсутствие коммуникации. Но тут существует дилемма, ибо молчание — пассивно, оно несет в себе экзистенциальный стресс и является одной из важнейших проблем коммуникации. Ибо молчание, т.е. непроявленное, страдает от своей неосуществленности. Отсюда: слово — бесполезно, а молчание — бесплодно! Недоверие к слову выражает также Отец из «Sei personaggi in cerca d’autore» («Шесть персонажей в поисках автора»), говоря о том, что каждый вкладывает в слова собственный смысл. Для Москарды из «Uno. Nessuno. Cento mila» («Один. Никто. Сто тысяч») «слова, которые каждый понимает и повторяет по-своему» — пригвождают к видимости, зафиксированности. Его путь уклониться от этой опасности — отказаться от социальной жизни и бежать в природу, ибо «безмолвие природы» — вот то, что наполнено смыслом! Природа не дает названий, поэтому — свободна. Движение к молчанию неизбежно, так как «словесный знак, претендующий на однозначность, универсальное согласие, абсолютную ценность, это тот знак, против которою устремляется Пиранделло» [Bini, 1993: 134].
Необходимость, но неосновательность языка для него несомненна, ибо язык — сфера возможности, мнения. Если доказательства согласуются между собой, то факты не имеют к ним отношения. Только факт обладает силой свершения, опрокидывающей рассуждения, которые затем вновь будут пытаться «подстроиться» под него. Слово иногда скорее является помехой, мешающей установить состояние мира и покоя, гармонии с другими. Оно или навязывает само себя, или беспомощно проваливается в молчание, открывая возможность для совершенно различного своего понимания.
Вот что об этом пишет сам Л. Пиранделло: «В некие моменты “внутреннего молчания”, в котором наша душа разоблачается от всех привычных лицемерий и наши глаза становятся более острыми и более проницательными, мы видим нас самих в жизни, и жизнь в себе самой, почти в сухой обнаженности, беспокоящей... как будто бы мгновенно для нас прояснилась реальность, отличная от той, что мы обычно постигаем, живущая за пределом человеческого видения, вне форм человеческого рассуждения. Ярчайшим становится тогда повседневное существование, почти подвешенное в пустыне этого нашего «внутреннего молчания», оно (существование) кажется лишенным смысла, лишенным цели» [Pirandello, 1908].
Столкнувшись с этой реальностью, он увидел то, что не способна решать литература, то, что находится за гранью ее компетенции. Отсюда его стремление к молчанию, свободному, по его мнению, от неопределенности слова, как к идеальному средству выражения.
Характерны ремарки Л. Пиранделло перед III актом «Amica delle mogli» («Подруга жен»): «Весь акт мало слов и много пауз медленнейших и печальных... между паузами — слова...» Паузы, молчание вызывают у персонажей растущее удивление, тревогу, растерянность, они пытаются утвердиться, говоря, но их попытки не имеют положительного для них, ощущаемого результата. Снова молчание, и все возвращается в неопределенность, несказанностъ. Так молчание текста как особый выразительный метод является проявлением «внутреннего молчания».
«Глубинный смысл письма Пиранделло может быть... как раз в этой попытке обращаться по ту сторону словаря к невыразимому... Подготовленное и предваряемое ловким расположением лексического материала, молчание текста является языком в общем смысле, который передает получателю текста нагрузку невидимой экспрессивной энергии, особенно напряженной. Молчание... выполняет функцию коммуникации между текстом и получателем...» [Syska-Lamparska, 1993: 155]. Важнейшим у Л. Пиранделло является присвоение молчанию роли коммуникации.
Помимо «внутреннего молчания» Л. Пиранделло использует молчание как риторический прием — aposiopesi. «Это риторическая фигура, которая... состоит в прерывании более или менее резком фразы с целью произвести впечатление, оставляя слушателю задачу закончить ее смысл... В других случаях сдержанность, умолчание служит “вызыванию” сомнений, подразумеванию намеков или угроз» [Marchese, 1984: 262]. «Aposiopesi» так же, как и «внутреннее молчание», стремится вовлечь собеседника в дискурс и закончить прерванное выражение. Важная черта aposiopesi — изменение ритма речи, прерывание ее монотонности через кажущееся еще большее замедление, «зависание», с последующим ощущением ее неожиданного ускорения прорвавшегося на свободу речевого потока.
Таким образом, суть письма Л. Пиранделло — это балансирование на грани сказанного и оставшегося непроизнесенным, где молчание — способ постигнуть «иную» реальность, остающуюся обычно за пределом повседневного человеческого взгляда, ту реальность, которая является единственно важной, потому что она и есть жизнь.
Л-ра: Вестник МГУ. Сер. 9. Филология. – 2005. – № 2. – С. 117-127.
Произведения
Критика