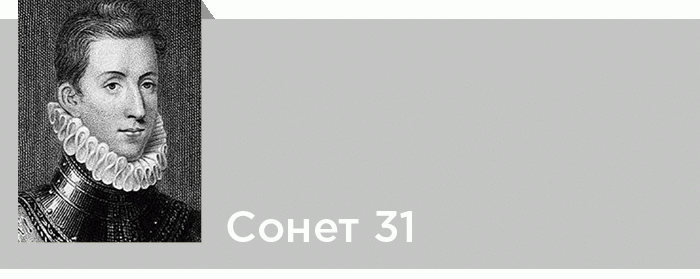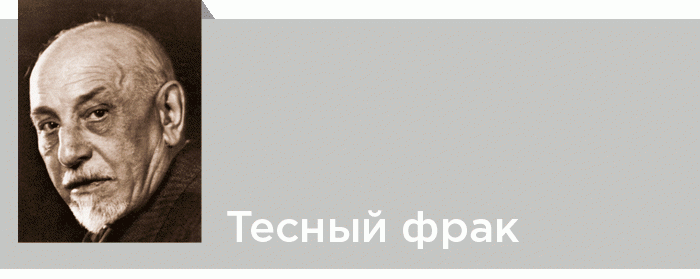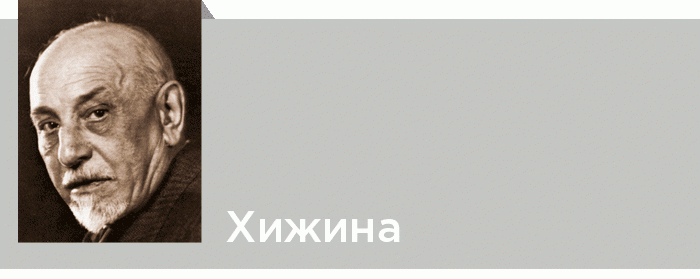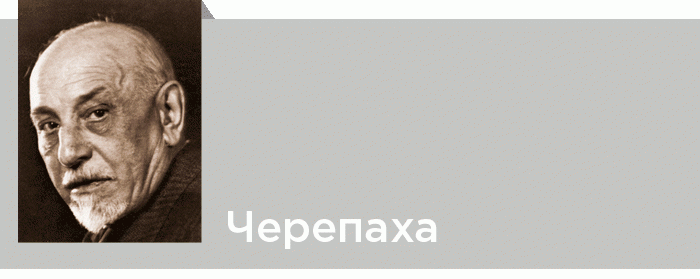О драматургии Пиранделло
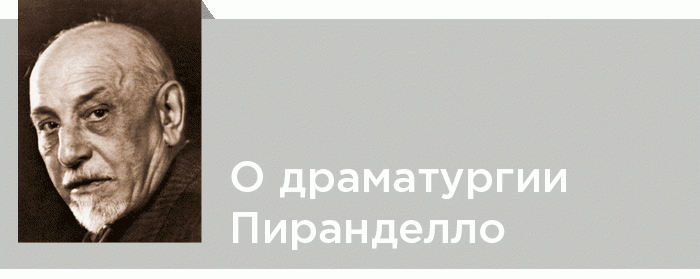
С. Бушуева
Имя Пиранделло принадлежит у нас к числу имен скорее знаменитых, чем близких уму или сердцу. И самое главное состоит в том, что пьесы его, которые переводились у нас вполне достаточно и вполне квалифицированно, невозможно сейчас читать, не делая над собой усилия. Даже лучшие из них — «Генрих IV» и «Шесть персонажей в поисках автора».
Чтобы избежать обвинений в излишней категоричности, подкрепим нашу позицию размышлениями авторитетных, к тому же итальянских авторов: «Отмечу также, что и «Шесть персонажей» и «Генрих IV», несмотря на свой огромный успех, разочаровывают, если возьмешься их перечитывать» Это написал Эудженио Монтале — крупнейший современный итальянский поэт. В сущности, того же мнения придерживался Грамши, для которого огромное значение Пиранделло было несомненным: «Значение Пиранделло, на мой взгляд, скорее моральное и интеллектуальное, чем художественное». А вот так хвалит Пиранделло Альберто Моравиа: «так... называемый пиранделлизм, то есть то яростное и трезвое отчаяние, которое побуждало Пиранделло раздевать своих персонажей, доискиваясь до их истинной сути — пусть даже этой сутью оказывался всего лишь крик радости или боли, — этот пиранделлизм является одной из крупнейших гигиенических операций, которые способствовали здоровью нашей эпохи. Это и есть урок, который дал нам Пиранделло и который годится для всех эпох и для всех обстоятельств. Именно это, а не собственно художественные результаты составляют его величие».
Итак, перед нами курьезный случай, когда автор, который может похвастать «собственно художественными результатами», тем не менее нашел свой способ говорить как бы «поверх» традиционных средств общения между художником и его аудиторией и был услышан ею. Способ этот, суть которого состоит в том, что художник на глазах зрителя снимает с изображаемого явления оболочку за оболочкой, доискиваясь до его истинной сути, сам Пиранделло назвал «юмористским». Создав этот своеобразный инструмент для «вскрытия» действительности, Пиранделло оказался на магистральной линии развития европейского театра XX века. Дело не в том, что все последующее «вышло» из него: дело в том, что на эту дорогу он вышел первым. Так, например, несомненно, что весь французский «вербальный» театр, театр Ануя и Сартра, испытал прямое и непосредственное влияние Пиранделло. Но вот, скажем, Брехт вышел на дорогу, в самом начале которой стоит итальянский драматург, совершенно самостоятельно, хотя существует несомненная объективная связь между установкой Пиранделло на аналитическое разложение образа и брехтовским приемом очуждения. Одним словом, сам способ, сам метод, открытый Пиранделло, доказал свою удивительную живучесть и плодотворность, и в этом смысле историческую роль Пиранделло как первооткрывателя «новой технологии» трудно переоценить.
Однако значение Пиранделло этой ролью не исчерпывается. Создатели «новых технологий» никогда не имеют успеха такого живого и непосредственного, какой имел у современников Пиранделло — в этом, разумеется, еще не весь Пиранделло, но именно этот Пиранделло должен был более всего отвечать потребностям итальянца 20-х годов, замороченного тоталитарной мифологией. Той же актуальностью объясняется и второй взрыв популярности Пиранделло в конце 40-х — начале 50-х годов, когда новейшая западная интеллектуальная драматургия вершила свой суд над недавним прошлым.
Обнаруживается весьма специфическая театральная система Пиранделло, в рамках которой драматург и добивается подлинного художественного эффекта, ускользающего от чисто литературоведческого анализа. Художественный эффект возникает в тот момент, когда театральная система Пиранделло замыкается на зрителе, а замыкается она потому, что в этом, таком нетрадиционном, таком, казалось бы, новаторском театре продолжала жить психологическая традиция, только уже не как традиция психологического образа, а как традиция психологического контакта со зрителем.
Стремление Пиранделло к провокации зрителя, к тому, что мы сейчас назвали бы хеппенингом, его настойчивое стремление разрушить четвертую стену (Пиранделло первым в итальянском театре вывел актера в зрительный зал) — это и есть те элементы режиссерской разработки, которые придают драматургии Пиранделло специфически театральный смысл. Именно тут, на этой грани, где сценическая фикция как бы переливается в реальное измерение зрительного зала, и заключен самый живой элемент театральности Пиранделло, который неотразимо воздействовал на современников и который остается действенным и доныне.
Вербальный театр, ориентированный не на рассудочное, а на непосредственное восприятие, — вот, собственно, театральная система Пиранделло во всей ее внутренней противоречивости. И в этой противоречивости, как в капле воды, заключена вся многосложность творческого облика Пиранделло, колеблющегося между рациональным и иррациональным. В этом отношении Пиранделло был верным сыном своей эпохи. Но если у других художников, например, у Томаса Манна, этими метаниями отмечены разные этапы художественного творчества, то у Пиранделло названная антиномия живет в каждом атоме его искусства.
Начало более чем сорокалетнего творческого пути Пиранделло восходит к середине 1890-х годов — времени расцвета итальянского натурализма. И вполне естественно, что начинающий писатель в первых своих произведениях (рассказы, роман «Отверженные», пьеса «Сицилийские лимоны») придерживался этого общего русла. «Поворот к себе» Пиранделло совершил в 1903 году — к тому времени он уже покинул родную Сицилию, женился, стал отцом троих детей и поселился в Риме, заняв должность преподавателя логики в одном из женских лицеев. Сидя по ночам у постели тяжело больной жены (в этом году началось ее острое психическое заболевание, которое спустя несколько лет превратило жизнь писателя в настоящий ад) и стараясь уйти от мыслей о катастрофическом финансовом положении (к этому времени отец Пиранделло разорился, потеряв при этом вложенные вдело деньги сына и приданое невестки), он сочинял фантастическую историю о том, как некий Маттиа Паскаль, обремененный жизнью почти так же, как он сам, неожиданно получил возможность порвать со своим прежним существованием и начать новое, не отягощенное грузом прежних ответственностей. Пиранделло словно бы «вымечтал» здесь для себя выход из положения, которым сам он — при его остром «сицилийском» чувстве ответственности — никогда не решился бы воспользоваться на деле. Но тем большую радость доставляла ему разработка этой недоступной ему ситуации на бумаге: весь роман, который так и называется «Покойный Маттиа Паскаль», отличает счастливая стилистическая легкость, которой и в помине нет в его первых веристских сочинениях. Роман писался легко, для самого себя, без расчетов на публикацию, и когда он был окончен, Пиранделло записал в дневнике, что создал вещь «прекрасную навсегда».
Уже в этом своем романе Пиранделло выдвинул тему, разработке которой посвятил всю свою остальную жизнь, однако в «Паскале» она была решена добротно реалистически: то, что позднее в его пьесах предстанет в виде алгебраического уравнения, где персонажи будут не более чем условными обозначениями, здесь подано как житейский казус, «подпертый» вполне правдоподобными житейскими обоснованиями. И в самом деле — если б не роковое совпадение, если б не выловили в мельничной запруде труп человека, похожего на Маттиа Паскаля, разве герой обнаружил бы в себе способность трансформироваться в
другую личность? К тому же, став Андриано Мейсом, герой Пиранделло для себя остается Маттиа Паскалем, ему трудно в чужой коже, и в конце концов он с облегчением возвращается в собственную. При всех трансформациях, которые претерпевает Паскаль, и он сам и, главное, автор знают, где он подлинен, где есть истина: существует точка отсчета, которая держит все повествование в одной плоскости, не позволяя ему отклоняться в те головокружительные парадоксы о тотальной относительности, которые станут содержанием почти всего театра Пиранделло.
Таким образом, пусть робко, но тема заявлена. Пиранделло выходит из толпы веристов и становится отдельно, особняком. Впрочем, особняком он стоит не только от веристов. В 1900-е годы, в эпоху яростной политической борьбы Пиранделло уже занял свойственную ему и позднее позицию полнейшего нигилизма. Казалось, само его сицилийское происхождение должно было сделать из него непримиримого островного патриота. Но нет: он, в детстве бывший свидетелем Рисорджименто, а в юные и зрелые годы сочувствовавший антифеодальной борьбе и зарождавшемуся на острове социалистическому движению, не примкнул ни к «старым», ни к «молодым». В появившемся в 1909 году эссе «Юморизм» Пиранделло как будто бы сосредоточен на чисто эстетических категориях. Он пытается объяснить свой метод, метод аналитического разложения образа, при котором выявляются и демонстрируются противоположные тенденции его развития, обнаруживающие свою принципиальную несоединимость, невозможность синтеза. Однако эта попытка «опрокинуть» собственное трагическое мироощущение на почву эстетических категорий себя не оправдала: как эстетическая система пиранделловский юморизм не убеждает абсолютно, но зато тут, на страницах этого программного сочинения, мы, как нигде более, ясно видим трагическую погоню художника за ускользающим от него миром. Как проницательно заметил исследователь творчества Пиранделло Салинари, юморизм — «это не столько эстетическая категория, сколько характеристика психологического состояния человека, который всегда вне игры».
Итак, и «Паскаль» и «Юморизм» — это первая догадка писателя о том, что человек и мир не только не монолитны, но рассыпаются под руками на тысячи вариантов, и каждое вбитое клином «если» поворачивает сущее в сторону новой возможности. В мире-хаосе, где каждый не может понять даже себя, и речи не может быть о том, чтобы понять друг друга. А потому все виды общественных договоров заведомая ложь. Поиски выхода осуществляются в рамках каждой отдельной личности, и это должно стать содержанием жизни, хотя, по Пиранделло, заведомо известно, что поиски эти не могут увенчаться успехом.
В последующие годы мироощущение Пиранделло принципиально уже не менялось — оно только углублялось. Этому очень способствовало не только его типично сицилийское обостренно-драматическое восприятие действительности, но и обстоятельства его жизни. В течение почти двадцати лет Пиранделло прожил рядом с женой, больной паранойей. Она страдала брендом ревности, и, чтобы успокоить ее, Пиранделло стал добровольным узником своей семьи. Он не ходил даже на премьеры собственных пьес. Все это не только рождало мысль о бегстве в искусство как во вторую действительность (компенсация страсти непрожитой жизни — так скажет он об этом позднее), но и невольно укрепляло его в убеждении об относительности всякой истины и вытекающей отсюда принципиальной некоммуникабельности. Ибо то лицо, каким он представал в воображении жены, не умело ничего общего с личностью, какой ощущал себя он сам. Однако параноический бред был так логичен, так последователен, так обстоятелен, что Пиранделло порой начинал видеть себя глазами жены. В одном доме, под одной крышей обитало — так это часто бывает в рассказах и пьесах Пиранделло — два разных лица, отзывающихся на одно и то же имя.
И вот с 1910 года и до конца войны, сидя дома, в своем кабинете, в дверь которого ногами, руками, головой билась жена, которая не хотела оставить его одного даже там, он сочинял свои мрачные новеллы и вспоминал Сицилию, переделывая по заказу актера Анджело Муско написанные ранее рассказы в пьесы для театра: «Лиола», «Подумай, Джакомино», «Колпак с бубенчиками». И уже в этот период им была написана первая его «странная» пьеса «Это так, если вам это так кажется». За ней последовали другие — столь же странные: «Наслаждение в добродетели», «Все как у порядочных людей», «Как прежде, но лучше, чем прежде» и другие. Поневоле кажется, что параноический бред жены не прошел даром и для самого Пиранделло, который с такой болезненной методичностью разрабатывал тему «Если вам так кажется, значит, это так и есть».
Рационалистическая мания, снедающая Пиранделло, к 20-м годам опустошила его самого. Тотальный нигилизм, отрицание всякого абсолюта, бесплодность рационалистического самоанализа доказали свою практическую непригодность для жизни. Человек, который всегда стоял вне игры, почувствовал необходимость в игру включиться. Чтобы выгородить себе в ледяной пустыне безверия небольшой пригодный для жизни угол, нужно было поверить хоть во что-то. Однако, когда вопрос о вере ставится таким образом, можно считать, что попытка обречена. С 1920 по 1936 год (год его смерти) Пиранделло мечется в поисках выхода. Он делает попытку уверовать в социальную демагогию фашизма. Он пытается обратиться к богу и создает «программные», но абсолютно неубедительные художественно пьесы «Лазарь» и «Новая колония». Однако, не находя ничего ни на земле, ни на небе, Пиранделло то и дело возвращается на свою прежнюю стезю: он ищет внутри себя. Только теперь он изменяет богине Разума. Этот рационалист, который истинно человеческим свойством считал лишь способность мыслить (хотя и признавал, что разуму открывается лишь поверхность глубокого колодца), взбаламутил спокойные воды и обеими руками черпает из глубины источника. Новеллы, написанные им в этот период, и лучший его роман «Один, ни одного, сто тысяч» разрабатывали тему жизни как последовательности ощущений. Острота ощущения, глубина подчувства, все, что делает человека сопричастным природе, становится для Пиранделло важнейшим. «Насколько же жизнь принадлежит земле и как ни к чему ей небо!» — это вопль души, отказывающейся не столько от бога, сколько от «божественного» в человеке — способности мыслить.
В прозе творчество Пиранделло явно распадается на два периода: рассудочный и импрессионистический. Не то в театре: здесь он остался «юмористом», то есть художником-аналитиком. Правда, в большей части драматического наследия Пиранделло его «юмористские» претензии так и остались неосуществленными. Возьмем ли мы самые ранние пьесы Пиранделло, где антиномия жизни как вечной изменчивости и формы как застывшего, лишенного содержания слепка рассматривается на примере противоречий между окостеневшими формами буржуазной морали и требованиями живой жизни («Колпак с бубенчиками», «Подумай, Джакомино») или те, где философский тезис об относительности всякой истины «разыгрывается в лицах» («Такая, как ты хочешь», «Это так, если вам это так кажется»), или поздние его пьесы-мифы «Лазарь» и «Новая колония», в которых распадающаяся, расползающаяся ткань жизни как бы фиксируется жестким стержнем нравственного абсолюта, — все эти пьесы, в сущности, представляют собою изжитый жанр драмы «a tesi».
Многословие, прямолинейная логика хотя и служат тут доказательству парадокса, тем не менее остаются многословием и прямолинейностью. И пусть самому Пиранделло казалось, что насыщенность философской проблематикой составляет как бы новое качество его художественного творчества, — на самом деле это было просто нехудожественное творчество. Бесконечное насилие над собой, которое он совершал во имя формально понятого долга, недоверие к естественным жизненным проявлениям (характерно, что он никогда не мерил температуру, не позволял врачу щупать пульс) — в общем, вся эта жизнебоязнь, которая вытесняла его из житейской сферы в сферу творчества, одновременно лишала его художественной непосредственности и полноты мироощущения.
И эволюция, которая в нем совершалась и которая превращала его в художника, сказалась не в том, что Пиранделло изменил своей философии, а в том, что он обрел художественное видение мира. И если Пиранделло-прозаик дал победить себя очарованию «объективности», о чем свидетельствует его поздняя импрессионистическая проза, то в театре он, в конце концов, стал «юмористом», то есть художником, который достигает результата именно посредством рационалистического разложения объективной картины мира. И в самом деле — в лучших своих пьесах, написанных в начале 20-х годов («Генрих IV», «Шесть персонажей в поисках автора»), Пиранделло по-прежнему стоит на позициях анализирующего искусства, он вносит анализ в самую художественную ткань, но при этом она рвется так, что разрушение это рассказывает о мире, открывшемся современному человеку, больше, чем обстоятельное объективное его описание.
Эволюция драматургии Пиранделло внешне выглядит как эволюция от литературного текста к тексту театральному. Вербальный рассудочный театр Пиранделло стал театром «юмористским» именно потому, что включил в себя еще и сценическое измерение. В чисто театральных приемах выразительности Пиранделло искал ту силу непосредственного воздействия, которой обладало описание в его зрелой прозе. На этом пути Пиранделло совершил множество открытий, буквально революционизировавших итальянскую сцену. Итальянский театровед Дж. Календоли перечисляет эти открытия в таком порядке: «конструирование персонажа вне органических и психологических схем натурализма», отказ от сцены как натуралистически охарактеризованного единства («сцена — это аморфное пространство, в котором драматург может создать сразу несколько мест, лишенных всякого натуралистического соотношения»), «театральное время и пространство подчиняются у него закону хронологической последовательности» и т. д.
Однако все эти открытия, как всегда бывает с открытиями, «носившимися в воздухе», вошли в историю итальянской сцены анонимно. Названные средства выразительности тут же были использованы представителями абсолютно всех художественных направлений — от футуристов до экспрессионистов. Так что, хотя Пиранделло и стоял в начале нового театрального пути, его сценические приемы не несут на себе печати его личности и именно поэтому так легко изымаются и приспосабливаются к какой угодно системе. Поэтому, хотя рождение этих приемов и является свидетельством эволюции Пиранделло, по-настоящему его развитие выразилось в эволюции «Персонажа» — самой специфической категории эстетической системы Пиранделло.
Итак, что же такое персонаж у Пиранделло?
Поначалу персонаж — это реалистически точно выписанный герой веристской новеллы, характеризующийся системой координат, в которую он заключен. Он, во-первых, итальянец, во-вторых, сицилиец, в-третьих, чиновник, в-четвертых, ревнивый муж, в-пятых, нежный отец и т. д. И все это — первая и последняя о нем правда. Возьмем, к примеру, героя новеллы «Тарара» — прототипа Чампы из более поздней комедии «Колпак с бубенчиками». В новелле «Тарара» дело кончалось тем, что чиновник, обнаружив измену своей жены, убивал ее. Он вел себя сообразно тому, каким он себя ощущал. В пьесе «Колпак с бубенчиками» Чампа не так прост: одно дело, что он такое в действительности, другое дело — каким он представляется окружающим, какую роль он играет в общей игре. Так вот: на самом деле он знает, что женщина ему изменяет, но делает вид, что не знает, — до тех пор, пока его позор не станет явным. Когда жена его начальника, обнаружив измену мужа, устраивает скандал, Чампа выходит из своего образа и заявляет, что на самом деле он давно обо всем знает, но позора терпеть не хочет: он согласен оставить все как есть, если жену любовника его супруги объявят сумасшедшей, сведя, таким образом, на нет ее разоблачения. Выйдя из образа, Чампа снова в него возвращается.
Итак, персонаж развинчивается, выясняется его истинная сущность, а затем он снова натягивает на себя свой привычный и, главное, необходимый для существования лик.
Заметим при этом, что подлинная сущность, так сказать «абсолютная истина», еще есть: персонаж может быть с двойным и тройным дном, но самое последнее дно все-таки наличествует.
Этот мотив — мотив демонтирования персонажа — прослеживается во множестве пьес Пиранделло, но шедевром в этом роде является, конечно, «Генрих IV».
В первой сцене перед нами безумец. Двадцать лет назад, во время карнавальной кавалькады он упал с лошади и, ударившись головой, сошел с ума: вообразил себя Генрихом IV, в костюм которого был одет в тот роковой день. Он живет в своем замке, и двадцать лет окружающие поддерживают в нем иллюзию: все в его доме происходит как бы при дворе Генриха IV.
Но вот доктор решил предпринять кардинальную попытку вернуть пациенту разум: он привозит в дом к мнимому Генриху IV женщину, которую тот любил двадцать лет назад, и ее юную дочь. Доктор собирается показать «Генриху» обеих женщин, чтобы тот ощутил двадцать прошедших лет. Первый визит ему наносит дама без дочери, но в сопровождении врача и любовника. Когда они уходят, больной, раздраженный этой встречей, открывается «придворным»: он уже восемь лет как здоров и просто морочит им головы. Он предпочитает жить честной и логичной — пусть чужой — жизнью, чем той подлой и суетной, которой живут все окружающие его люди. Особенно его возмутило, что дама привезла с собой любовника, который вошел в его жизнь уже двадцать лет назад. Оставшись наедине с соперником, он говорит ему все, что о нем думает, и добавляет, что с лошади он в тот день упал неслучайно: кто-то уколол его лошадь до крови, и она понесла. Тем не менее он желает продолжать разыгрывать комедию. Но тут уже возмущается любовник: «Ты не сумасшедший!» — кричит он. «Я не сумасшедший? — отвечает «Генрих». — Так вот же тебе!» — и ранит его шпагой в живот. Соперника уносят, а больной говорит, что теперь он уже просто вынужден до конца своих дней оставаться сумасшедшим.
Как видим, это одна из тех «ловко закрученных» пьес, исходная посылка которых всегда выглядит у Пиранделло удивительно надуманной. Это все та же игра в демонтирование характера — только операция здесь проделывается с невиданным ранее мастерством и блеском. Во-первых, поражает экстравагантностью облик персонажа: обычно персонаж у Пиранделло выглядит более или менее заурядно — ведь он должен «притираться» к окружающим, и лишь по мере демонтирования обнаруживаются его настоящие странности. Здесь же истинная сущность героя как раз здоровая: игра вывернута наизнанку. Во-вторых, момент перехода из одной личины в другую, который обычно фиксируется у Пиранделло в словах,— он вообще склонен считать, что персонаж создается словами, — этот момент здесь зафиксирован в «жесте»: «Генрих» убивает соперника именно потому, что здоров и все понимает, а затем, чтобы избежать ответственности, снова прячется в безумие. «Генрих» как бы вышел из одного пласта действительности, в котором он благодаря своему мнимому безумию недоступен для окружающих и не контактируется с ними, и вошел в пласт «контактирующийся»; удар — и он снова недосягаем.
И все-таки если «Генрих IV» и представляет собой вершину, то эта вершина не в лучшем ряду пьес Пиранделло. Она как бы исчерпывает, доводя до возможно формального совершенства, игру в раздевание персонажа: в конце концов, как и везде, за всеми одеждами обнаруживается голая суть. Настоящее лицо у «Генриха» есть: только он не хочет, а под конец и не может его показать.
Однако история персонажа на этом не кончается. До сих пор на всех стадиях развития пиранделловского героя мы имели дело, в сущности, с открытой социальной трагедией: вначале то был прямой конфликт личности и общества («Тарара»), потом драма персонажа, вынужденного прятать свое истинное лицо во имя сосуществования с тем же обществом (Чампа и все остальные, включая «Генриха»); и наконец, беспощадный взгляд аналитика проник еще глубже — он показал, как общество разрушает индивидуальность безо всякого остатка. Выяснилось, что за масками, надетыми одна на другую, ничего нет — нет пресловутой истинной сути, нет лица, нет личности. Как справедливо пишет исследователь творчества Пиранделло Луньяни, «в сущности, характер персонажа — это его драма, проистекающая из сознания того, что характер потерян».
При этом мы не можем согласиться с Луньяни, когда он утверждает, что социальная трагедия в результате превратилась у Пиранделло в «трагедию сознания», потому что само это тотальное распадение личности является симптомом состояния общества, характеризующегося полным распадом человеческих связей. Нам даже кажется, что только вот эта последняя догадка вывела Пиранделло в сферу настоящей трагедии, только тут Пиранделло сумел точно и глубоко выразить главную антиномию своего времени.
Другое дело, что выражена она была опосредованно, так же, скажем, как в блоковском «Балаганчике» выражалась «крайняя степень душевного распада» (П. Громов), характеризующего эпоху. Пиранделловским «Балаганчиком» были «Шесть персонажей в поисках автора».
Вспомним, что происходит в этой странной пьесе.
Когда зрители входят в зрительный зал, занавес уже поднят и сцена готова для репетиции. Репетируется пьеса Пиранделло «Игра интересов». Постепенно собираются актеры, из глубины зрительного зала появляется режиссер и, пройдя по центральному проходу между креслами, взбирается по боковой лесенке на сцену. После небольшого препирательства с премьершей, которая, как всегда, опоздала, начинается репетиция. Режиссер объясняет актерам их задачу, разражаясь филиппиками по поводу «этого Пиранделло, которого понять — нужно пуд соли съесть», и актеры занимают свое место на сцене. В этот момент внимание зрителей переносится со сцены в зрительный зал, ибо по центральному проходу следует театральный швейцар, возглавляя группу из шести человек, которые имеют какое-то дело к режиссеру.
Это и есть Персонажи — по мысли Пиранделло, актеры, их играющие, должны были носить маски, раз навсегда зафиксировавшие главный «мотив» (Отец — раскаяние, Падчерица — месть, Мать — скорбь и т. д.). Персонажи мучаются мукой невоплощения, тщетно разыскивая автора, который придал бы им реальность. Они и в театр-то пришли, надеясь воплотить свою драму на сцене.
Сначала режиссер возражает против их странного предложения, но затем, увлеченный содержанием их драмы, соглашается. Содержание драмы сводится к следующему. Перед нами супружеская пара (Мать, Отец). Он — властный, деспотичный; она — робкая и забитая. Единственный сын, которого Отец отнимает у Матери и отправляет в деревню, чтобы тот рос в «здоровой атмосфере». Забитая мать и жена встречает сочувствие в бедном чиновнике, подчиненном мужу. Он так же робок и так же обижен жизнью, как и она, и между ними возникает невысказанная симпатия. Муж замечает ее и, пользуясь случаем придраться, уходит от жены, мотивируя свое решение ее же благом: он дает двум любящим возможность соединиться. Новая супружеская пара начинает совместную жизнь, полную лишений; за этой жизнью издали следит бывший муж. В новом браке рождаются еще трое детей, затем отец семейства умирает, а бывший муж теряет свою бывшую жену из виду. Между тем бедность там достигла грани нищеты, и старшая дочь, для того чтобы прокормить мать, подростка-брата и маленькую сестру, вынуждена идти на панель. Ей предлагает оказать содействие некая мадам Паче, которая под вывеской модной мастерской держит дом терпимости для «приличных господ». Девушка, наконец, решается. Роковое свидание назначено, приличный господин приходит — это ее отчим. Они не узнают друг друга, и непоправимое должно уже вот-вот совершиться, как вдруг врывается Мать, узнавшая в последний момент о ремесле мадам Паче. Происходит узнавание, раскаявшийся Отец берет на себя заботу о семье, пытается помочь ей, но возникшего глубокого отчуждения между Матерью и Старшим сыном, а главное, между отчимом и Падчерицей не преодолеть. Они бесплодно выясняют сделавшиеся невыносимыми отношения, а тем временем с оставшимися без присмотра младшими детьми происходит несчастье; четырехлетняя девочка тонет в фонтане, а ее подросток брат стреляется.
Сюжет этот не разыгрывается целиком, а выясняется постепенно, прерываемый рассуждениями и действиями персонажей, режиссера и актеров.
Под конец совершенно запутавшийся режиссер — где здесь игра, где действительность? — с раздражением отказывается от мысли разыгрывать пьесу и уходит со сцены, заявив, что он попусту потерял день.
И это все. Однако, в отличие от прочих драм Пиранделло, в которых пересказать фабулу значит рассказать о них все, пьеса о шести персонажах такому переложению не поддается. Потому что главное в ней не то, что происходит с персонажами или с актерами, которым предстоит разыграть их драму, — главное, «как» это происходит.
И в самом деле, если взглянуть отдельно на историю Персонажей, взятую в целом, то мы увидим расхожую мелодраматическую ситуацию, в литературном отношении разработанную достаточно традиционно. Интересны здесь лишь невольные (а может быть, и намеренные) реминисценции Достоевского. Эти реминисценции прочитываются в ситуациях (скажем, отношения Матери и Отца напоминают исходную ситуацию «Кроткой», Отца и Падчерицы — Свидригайлова и его девочки-невесты), характерах (сходство Падчерицы с властными героинями Достоевского) и даже в лексике и синтаксисе (речь Отца вызывает в памяти патетический синтаксис Мармеладова). И даже, наконец, «мораль» этой мелодраматической истории — мысль о том, что за все платят невинные, — тоже восходит к навязчивой идее Достоевского.
Итак, взятая сама по себе в своей сюжетной последовательности, эта драма не представляет большого интереса. Равно как не интересен и живо написанный пласт реальности, в котором существуют режиссер и актеры. И даже излюбленная, сотни раз разрабатывавшаяся мысль о том, что всякая истина относительна (истории, которые по очереди излагают нам Падчерица и Отец, прямо противоположны: она видит события по-одному, он совершенно иначе), в данном случае лежит не в фокусе драмы, а сдвинута на ее периферию. Эффект «странности» в этой пьесе рождается в результате смешения плана фантастического и реального, при котором создания искусства — Персонажи — становятся реальнее и живее якобы реально существующих актеров. Само их появление — из глубины зрительного зала (не забудем, что в то время это еще не было избитым приемом) — сразу, рывком приближало их к зрителям, в то время как между «актерами» и зрителями существовала традиционная дистанция.
В тексте Отца есть множество пассажей, в которых эта мысль Пиранделло (о подлинном существовании Персонажей и неподлинном — людей) выражена впрямую, но по- настоящему она звучит лишь в постоянном сопоставлении двух планов и в движении одного плана в другой.
Как этого достигает Пиранделло?
Поначалу он старательно разделяет рассказ Персонажей о прошлом и настоящем. Персонажи говорят, а жизнь тем временем течет, как текла, премьерша ревнует премьера к Падчерице, режиссер оценивает текст со своей точки зрения, замечая, в частности, «как чертовски мешают на сцене дети!». Отец его успокаивает: это ничего, они не будут «вам долго морочить голову». Потом в рамках той же сценической иллюзии происходит антракт — машинист нечаянно дает занавес, и режиссер уходит, уводя с собой Отца, чтобы просмотреть вместе с ним застенографированную драму. За ними потянулись актеры, и зрители; сидящие в зале, таким образом, получили двадцать минут перерыва.
Во втором акте пласт прошлого Персонажей постепенно становится все более зримым. Он начинается с того, что все Персонажи утверждают единственность и неповторимость того, что с ними произошло. Падчерица отвергает предложенный директором зеленый диван на том основании, что в действительности, то есть в доме у мадам Паче, он был «желтый, плюшевый, в цветах, просторный и на редкость удобный». Отец на том же основании отвергает актрису, которая должна играть его жену Амалию. «Ведь для меня Амалия только она и никто другой». Их драма единственная, и сыграть — то есть прожить ее — могут только они сами, Персонажи.
И, наконец, кульминация: общими усилиями сцена все-таки подготовлена. Падчерица на сцене — она ждет прихода клиента, еще не зная, что это будет ее отчим. И вот дверь распахивается, и входит мадам Паче, которой не было в числе персонажей, которая фигурировала лишь в рассказе. Это как бы материализовавшееся чудо искусства, чудо, которое реальнее якобы реальной жизни.
Появление мадам Паче сразу же влечет за собой появление Матери, которая, как тигрица, бросается на совратительницу дочери. Та ретируется, как это и было в тот роковой день, и Отец объясняет: «Вместе они не могут оставаться». И добавляет: «Если они будут вместе, развязка, как вы понимаете, наступает моментально, и все действие полетит к черту». Этими словами он как бы подтверждает непреходящую, длящуюся реальность их драмы, которая, как и реальная жизнь, чревата самыми разными возможностями развития.
Наконец, действие, которое с появлением мадам Паче и Матери как бы перешло из разряда повествования в разряд непосредственного существования, снова возвращается к «рассказу о...», точнее — показу: Отец и Падчерица по-разному рассказывают сцену «совращения».
В третьем действии Персонажи опять рассказывают о том, как развивалась их драма дальше. Падчерица вспоминает свою маленькую сестренку, как они с ней гуляли и как та не замечала больших цветов, а собирала только «махонькие, махонькие». Она берет девочку на руки и подходит к фонтану. Тут же около фонтана стоит ее брат-подросток, которого она не любит. «Если девочка утонет, — говорит она ему, — то помни: ты будешь виноват... Что у тебя там? Что ты прячешь? Дай сюда руку!» — и, потянув мальчика за рукав, она обнаруживает у него револьвер.
Затем она опускает девочку в фонтан — так, что ту становится не видно, сама опускается на колени и, опершись локтями о барьер, смотрит на дно.
Несмотря на всю реальность происходящих здесь чисто физических действий (берет девочку, опускает в фонтан, смотрит на дно), это все-таки не материализованное воспоминание, а рассказ о нем, рассказ, который своей жуткой наглядностью (еще одна формальная находка Пиранделло), как бы курсивом выделил чудовищность происшедшего.
Но вот в повествование вступает молчавший до сих пор Старший сын: поссорившись с Матерью, он вышел в сад. В саду стоял мальчик «с сумасшедшими глазами» и смотрел на фонтан. «Я подошел к нему». — Сын действительно подходит к кустам, возле которых Падчерица оставила мальчика, и... В этот момент из кустов слышен выстрел. На сцену выбегает Мать крича: «Сын, сын мой!» Мальчика уносят со сцены.
Для зрителей, для актеров и директора мальчик убит сейчас, только что. Это эпизод того же порядка, что и появление мадам Паче. Реальность искусства, властно вторгающегося в жизнь и сокрушающего на своем пути все оговорки здравого смысла. «Он что, в самом деле ранен?» — спрашивает недоумевающий директор. «Умер! Бедный ребенок!» — отвечает премьерша. «Да не думал он умирать! Это же игра!» — возражает премьер. «Какая там игра! Сама реальность...» — говорит Отец.
Персонажи уходят. На заднике «по вине осветителя» возникает зеленая подсветка, и на этом зеленом фоне появляются огромные тени уходящих: их четверо; детей нет, они умерли, зрители видели это своими глазами. Персонажи спускаются со сцены и проходят через зал. Падчерица отстает, потом догоняет, у дверей оборачивается и, глядя на ошеломленных зрителей — в зале и на сцене, — смеется резким скрежещущим смешком.
На этой царапающей ноте кончается пьеса.
Пьеса, необычная для Пиранделло, пьеса, в которой ничего не демонтируется, ничего не развенчивается. Именно здесь Пиранделло обнаруживает бессмысленность демонтирования Персонажа, самая суть которого состоит в маске, и обращается к искусству как единственной области, где личность может осуществить себя. Настойчивое подчеркивание Персонажами своей подлинности в сравнении с эфемерным, не личным, существованием живых людей — это, собственно, признание за искусством черт подлинного существования, черт, которых, по мнению Пиранделло, роковым образом не хватает действительной жизни.
«Шесть персонажей в поисках автора» была написана и поставлена в 1921 году. Ей предшествовало более десятка пьес и за ней последовало примерно столько же. Однако ничего подобного Пиранделло больше не создал. История искусства знает авторов одного произведения, но случай Пиранделло — особый.
Как известно, писал Пиранделло очень много: кончив одну пьесу, сразу же начинал другую. Но именно потому, что писал он вместо того, чтобы жить, получалось, что писал он, как жил, — вполсилы. Какая-то странная анемичность отличает его творчество, в котором так мало настоящих удач, полнокровных счастливых свершений. О биографических истоках этого явления, о жизнебоязни Пиранделло мы уже говорили. Однако начиная с «Шести персонажей» можно считать, что эта разновидность эскапизма — бегство от действительности в искусство — стала принципиально осознанной жизненной установкой. Но жизнебоязнь, какой бы вид она ни принимала — инстинктивного ли чувства или сознательной установки, не может не сказаться в искусстве изъяном. Пастернак был прав, призывая художника быть «живым и только до конца». Пиранделло же не был достаточно «живым», и если вначале он был склонен ощущать это как свою слабость, то под конец жизни, оказавшись в условиях тоталитарного режима, он увидел в своем бегстве от действительности единственный достойный свободного человека выход.
Пиранделло умер в 1936 году, то есть прожив в условиях фашистского режима четырнадцать лет, и внешне его отношения с режимом складывались довольно спокойно. Он даже вступил в партию: в ту пору, когда вступали в партию «все». Основанный им театр получил от Муссолини субсидию в размере немалой тогда суммы — 50 тысяч лир. Глава государства и его свита изредка удостаивали театр своим посещением. Пиранделло деньги принимал, но лично про Муссолини, как это было тогда модно, в печати не высказывался.
Признавая режим Муссолини внешне, внутренне он был глубоко чужд ему и избрал выход, который ему в тех условиях казался оптимальным. Пиранделло повернулся к жизни спиной и бежал в искусство.
И хотя он полагал, что таким образом трагический конфликт «свободный человек - общество» благополучно разрешается, ущербный характер его творчества говорит о том, что это совсем не так. Вытеснение искусства из сферы жизни оборачивается для художника трагедией. Именно к такому выводу приводит анализ его последней и самой любимой пьесы — сказки «Горные великаны» (1931-1936), от которой остались только два акта и пересказ того, что должно было произойти в третьем, сделанный сыном писателя Пиранделло-Ланди.
...Высоко в горах, вдали от людских поселений, стоит вилла Неудачников. Хозяин виллы Котроне — поэт, удалившийся от людей, после того как он понял, что искусство им не нужно. Он живет среди Неудачников. «Неудачник» — это вариант Персонажа с драмой, которая ждет воплощения, творя с их помощью искусство для себя. Он волшебник и может воплотить в яви не только драму Неудачников, но и сны, мысли и желания всех людей. То, что у всех остается на уровне подсознательной грезы, у него обретает объективность искусства.
На виллу приезжает бродячая труппа артистов. Это Ильзе со своим мужем, Графом, и их труппа. История этого бродячего театра такова. Когда-то Ильзе была еще не премьершей, а просто графиней, ее любил Поэт. Так как любовь его была отвергнута, Поэт покончил с собой. Ильзе, потрясенная этой смертью, решила служить искусству. Собрав труппу (преданно любящий ее Граф вложил в этот театр все деньги и возглавил его), она кочевала по деревням и городам, показывая пьесу умершего Поэта. Однако везде она встречала холодный, а иногда даже издевательский прием. Актеры, находящиеся на грани нищеты, направились в горы, чтобы в одной из деревень попытаться разыграть пьесу еще раз. Прослышав, что на их пути стоит волшебная вилла, они решили в ней переночевать.
Неудачники, не любящие посторонних, поначалу пытались отпугнуть их всякими ужасами из арсенала волшебств, находящихся в распоряжении Котроне (гром, молния, привидения), но, увидев, что пришельцы не испугались, успокоились, решив, что они с ними одного поля ягоды. Котроне заявил, что вилла большая и они могут жить вместе и вместе творить чудеса для себя. «У нас нет необходимого, но зато множество лишнего», — говорит он Ильзе, подразумевая под необходимым то материальное, без чего не может жить большинство, а под лишним искусство, без которого большинство прекрасно обходится. «Отказавшись от всего, вступаешь во владение всем миром».
Но Ильзе не хочет отказываться от всего: она хочет творить искусство для людей, и завтра же собирается дать спектакль в ближайшей деревне. Котроне объявляет ей, что театра в деревне давно нет, там только кино и стадион, и людям искусства там нечего делать. Однако Ильзе настаивает, и он соглашается помочь ей в завтрашнем представлении, хотя полон дурных предчувствий.
Труппа проводит на вилле целую ночь, в течение которой Котроне демонстрирует им свои магические способности, а на утро (это уже содержание третьего акта, дошедшего до нас в пересказе сына Пиранделло) все едут в деревню.
В деревне — праздник по случаю бракосочетания Горных великанов, повелителей здешних мест. Люди — Слуги гигантов — и есть население той деревни, в которую труппа Ильзе привезла пьесу бедного Поэта. Сами Великаны на представление не явились, ограничившись присылкой денег (как тут не вспомнить субсидии Муссолини театру Пиранделло!), а толпа уже собралась на площади, требуя начинать. О театре зрители не имеют никакого представления и полагают, что перед ними будут выступать эстрадные певцы и танцоры. Потому они были очень разочарованы, когда перед ними появилась Ильзе и начала свой стихотворный монолог. Возмущенные, они перебили ее и потребовали, чтобы она что-нибудь спела. Когда она отказалась, начались свистки и шиканья. Оскорбленная Ильзе обозвала зрителей невеждами, и тогда они в ярости ринулись на сцену. На помощь Ильзе бросились Граф и ее товарищи по труппе, но разъяренная толпа все-таки убила Ильзе.
Погрузив тело Ильзе на телегу, бродячая труппа вновь пускается в путь, а Котроне остается со своими Неудачниками, еще раз убедившись в том, как он был прав, отказавшись нести, поэзию людям.
Такова эта прозрачная аллегория, повествующая о судьбах искусства в современном буржуазном мире. Великаны, которые субсидируют искусство, полагая, что народу необходимо «духовное возвышение», народ, которому искусство не нужно, художник, который надел феску не потому, что «отуречился» (вспомним, что феска была частью фашистской партийной формы), а потому, что «поэзия христианства потерпела крушение», — все это достаточно ясно намекает на положение Пиранделло в фашистской Италии. Пиранделло настолько не скрывал автобиографического мотива сказки, что под видом виллы Неудачников описал свой собственный дом («лужайка, облезший кипарис, фасад с обвалившейся красной штукатуркой, зеленая облупившаяся дверь, четыре ступеньки, ведущие к ней, по бокам двери — два маленьких полукруглых балкончика»).
Если рассматривать пьесу в перспективе всего творчества Пиранделло, то становится ясно, что она продолжает тему Персонажей в том ее виде, в каком она предстает в «Шести персонажах в поисках автора». Если не считать Котроне, который единственный представляет здесь Личность (ибо, во-первых, он свободен ото всяких социальных обязательств и, следовательно, не носит маски, а во-вторых, действительно имеет свое лицо, так как он — художник), а также если учесть, что Ильзе — олицетворение Поэзии, а не вариант художника, как может показаться на первый взгляд, то все остальные действующие лица пьесы — персонажи, подобные тем, которые разыскивали своего автора в знаменитой пьесе 1922 года.
У некоторых из них Пиранделло раскрывает содержание драмы (Граф с его мелодраматической историей). Иногда же на эту драму Пиранделло только намекает: таков Спицци — первый любовник труппы, который, по-видимому, давно и безнадежно любит Ильзе. Но у большинства есть только маски, которые их исчерпывают. Недаром Пиранделло так дотошно их описывает, и недаром они, эти маски, такие броские — Пиранделло словно говорит нам, что самое большее, что мы тут можем увидеть, это не характеры, а характерность. Вот как описаны товарищи Ильзе: Диаманте — вторая дама труппы, сорока лет, роскошный бюст, сильно накрашена, трагические брови, мощный нос, в углах рта две запятые из черных, как уголь, волос, на подбородке тоже несколько волосков; Кромо — характерный актер, большая лысина морковного цвета, волосы остались только в виде двух небольших треугольников по бокам головы, которые соприкасаются своими вершинами на макушке. Бледный, веснушчатый, светло-зеленые глаза, глухой раздраженный голос.
Ильзе в описании мы не видим: мы знаем только, что она рыжая, в лиловом сильно декольтированном платье, длинные широкие рукава которого легко откидываются, обнажая руки. Но Пиранделло, по-видимому, и не задавался целью «написать» свою Ильзе как характер, как маску или как личность. Для него этот образ был просто олицетворением искусства — в отличие от Котроне, она не творит искусства, она сама Искусство — как, должно быть, олицетворением искусства была для Пиранделло актриса его театра Марта Абба — юная рыжая женщина необыкновенной красоты, последняя, поздняя, слишком поздняя любовь драматурга.
Неудачники, которые составляют общество Котроне, это, собственно, тоже Персонажи, должно быть, с драмой, но о ней мы мало чего узнаем. Известно лишь, что они, как и Котроне, отказались «мучиться в миру», чтобы реализовать свою жизнь в искусстве с помощью волшебства Котроне. Кроме того, в пьесе действуют фантомы и привидения, жуткие куклы, которые помогают Котроне творить его наивное волшебство. Это волшебство даже подчеркнуто наивно — Пиранделло — Котроне с готовностью раскрывает нам свою режиссерскую кухню: ресурсы масок, эффекты освещения и т. д. Не важно, из чего делается чудо, — важно, что это чудо. Все волшебство Котроне в его претензиях и его простодушии: переработка жизни в поэзию, жизнь как преджизнь и искусство как жизнь подлинная.
Котроне не удалось уговорить Ильзе, и она, как мы знаем из пересказа Стефано Пиранделло, погибла. Остается неясным — уговорил ли Пиранделло сам себя? Верил ли он, что выход, который нашел Котроне, — это путь спасения? Наверное, скорее хотел верить, чем верил: недаром его Котроне такой неживой. А то, что поверить хотелось, это несомненно. С какой ревнивой категоричностью исключает Котроне Поэта из своего стана, стана художников. Ему говорят, что Поэт покончил с собой из любви к Ильзе. Котроне: «При чем тут поэзия? Поэт — это тот, кто пишет стихи, а не тот, кто кончает с собой!»
Итак, Поэт — это тот, кто пишет стихи, а не тот, кто живет или, напротив, умирает, слишком захваченный жизнью. Поэтому-то Пиранделло — Котроне и не жил. Не хотел и не хочет. С такой утешительной концепцией Пиранделло встретил последний год своей жизни. В ночь перед смертью он обдумывал третий акт «Горных великанов» — тот самый акт, в котором люди убьют Поэзию.
И смерть свою Пиранделло сумел обставить так, что она тоже не вписалась в поток жизни, которого он брезгливо избегал. Он оставил завещание, в котором запрещал какую бы то ни было светскую или религиозную погребальную церемонию. Прах его должен был быть сожжен и развеян. В, этом желании из бытия перейти прямо в «ничто» еще раз обнаружил себя тот почти суеверный ужас, который внушала Пиранделло «плотская» вещественность жизни. Но, кроме того, — и это было уже не инстинктивно, а сознательно — он не хотел, чтобы его имя было поставлено на службу политической коньюнктуре. Муссолини, который предполагал пышными похоронами, устроенными великому драматургу, привязать имя Пиранделло к режиму, был жестоко разочарован. Он даже сказал, что Пиранделло ушел, захлопнув дверь у него перед самым носом.
Так что можно сказать — смерть удалась лучше, чем жизнь. Хотя ему-то хотелось верить, что жизнь удалась тоже — та, что в искусстве. И его прижизненная слава должна была утвердить его в этом мнении. Но трагедия Пиранделло как «недоосуществившего» себя художника говорит о том, каким, в сущности, компромиссом была его концепция жизни и искусства. И лишь потому, что компромисс этот был трагическим, а не волюнтаристским, искусство, которое было создано «взамен» живой жизни, несет в себе при всей своей ущербности трагическую тему своей эпохи.
Л-ра: Театр. – 1976. – № 7. – С. 131-141.
Произведения
Критика