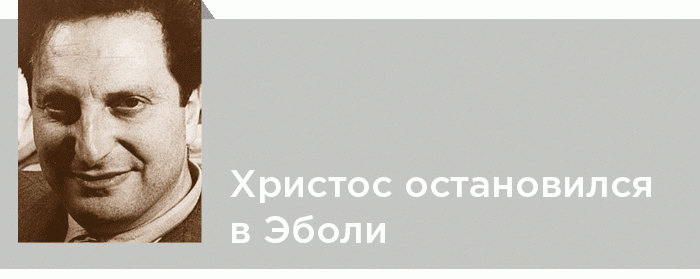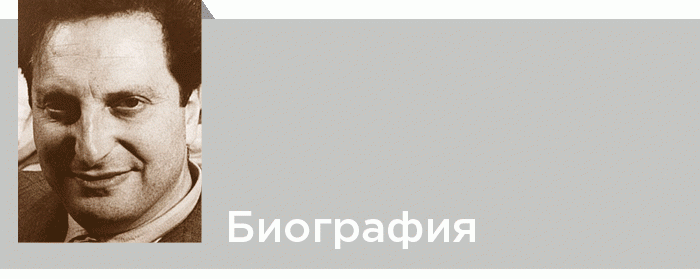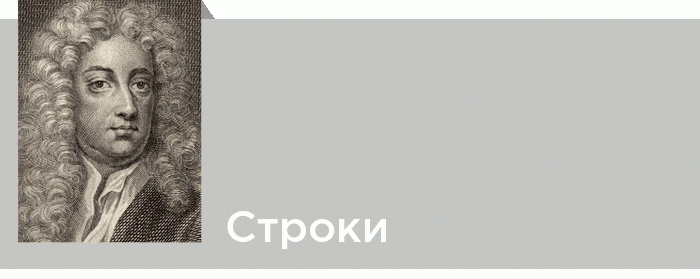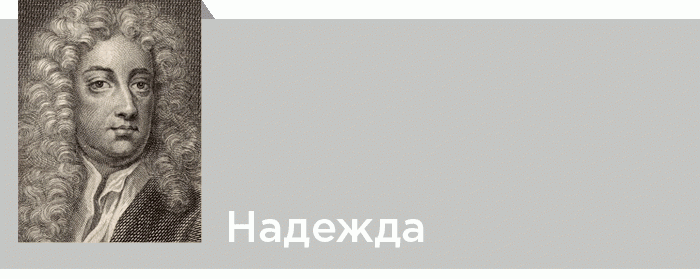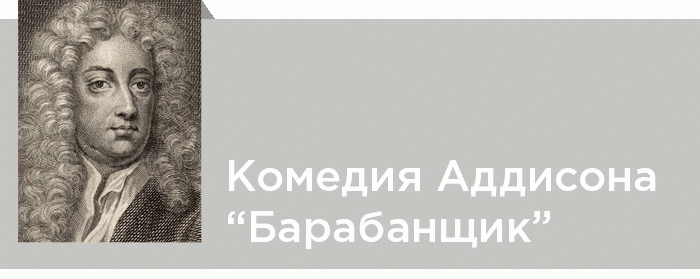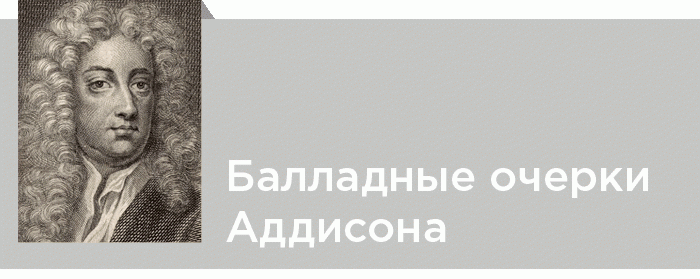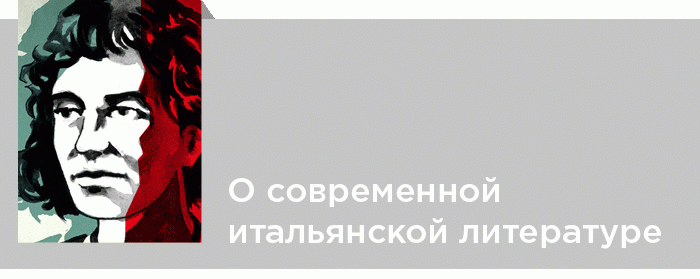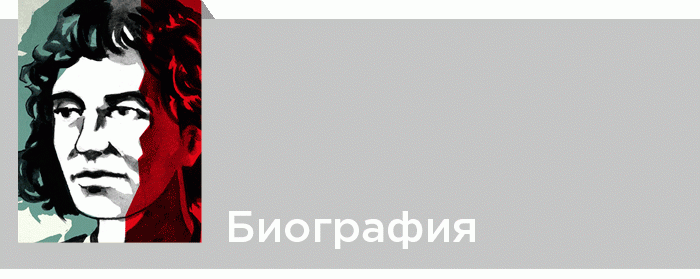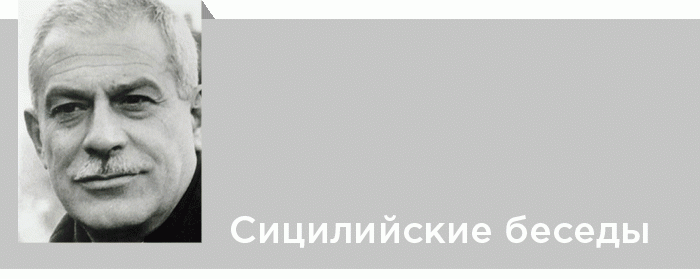Карло Леви. Христос остановился в Эболи
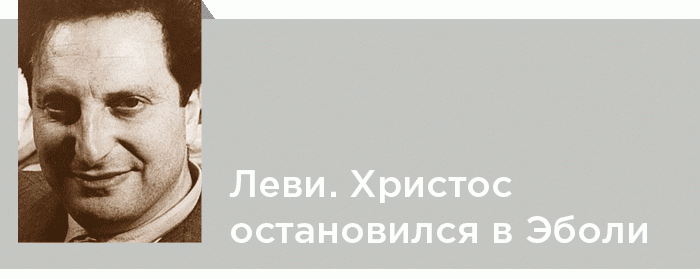
(Отрывок)
Прошло много лет — годы, заполненные войной и всем тем, что принято называть Историей. Гонимый судьбой, я скитался по разным местам и до сих пор не мог выполнить обещания вернуться, которое я дал крестьянам, уезжая от них, и, по правде сказать, не знаю, смогу ли вообще это сделать. Но когда я замкнут в комнате, в этом замкнутом мире, мне приятно возвращаться памятью в тот, другой мир, мир вечного терпения, задавленный скорбью и обычаями, отвергнутый Историей и Государством; к той моей земле, безутешной и суровой, где крестьянин живет в тисках застывшей цивилизации, в нищете и заброшенности, на бесплодной земле, наедине со смертью.
«Мы не христиане, — говорят они. — Христос остановился в Эболи». Христианин на их языке означает человек, а эта поговорка, которую столько раз повторяли при мне, в их устах не более чем безнадежное выражение униженности. Мы не христиане, не люди, нас не считают людьми, мы животные, вьючные животные, и даже хуже чем животные, мы сухие ветки, тростинки, живущие первобытной, бесовской или ангельской жизнью, потому что мы должны подчиняться миру людей, находящихся там, за пределами горизонта, и переносить все-тяготы соприкосновения с ними. Но эта поговорка имеет гораздо более глубокий смысл, как и каждый символический образ, а именно — буквальный. Христос действительно остановился в Эболи, где шоссе и железная дорога отходят от холмов Салерно и моря и углубляются в заброшенные земли Лукании. Христос никогда не заходил сюда, сюда не заходили ни время, ни живая душа, ни надежда, ни разум, ни История, здесь неизвестна связь между причиной и следствием. Христос не заходил сюда, как не заходили римляне, которые укрепляли большие дороги, не углубляясь в горы и леса; не заходили и греки, которые процветали на морях Метапонто и Сибариса; никто из смелых людей Запада не приносил сюда чувства движущегося времени, своей государственной теократии, своей постоянной, вырастающей из самой себя деятельности. Никто не трогал эту землю ни как завоеватель, ни как враг, ни как ничего не понявший гость. Времена года скользят над тяжким трудом крестьянина сегодня так же, как и три тысячи лет назад, никакой человеческий или божественный посланец не обращался к этой безысходной нищете. Мы говорим на разных языках, наш язык здесь непонятен. Великие путешественники не заходили сюда, за границы собственного мира; они прошли дорогами своей души, дорогами добра и зла, нравственности и искупления. Христос спустился однажды в: подземный ад иудейского морализма и отворил врата, чтобы затем закрыть их навечно. Но на эту темную землю без греха и искупления, где зло не в душе людей, а в скорби земной, навсегда запечатленной в вещах, Христос не спускался. Христос остановился в Эболи.
Меня привез в Гальяно августовским полднем маленький расхлябанный автомобиль. У меня были скованы руки, и меня сопровождали два здоровенных представителя власти с красными полосами на брюках и невыразительными лицами. Я приехал сюда неохотно, не надеясь увидеть ничего хорошего, потому что получил неожиданный приказ покинуть Грассано, где я жил прежде и где научился понимать Луканию. Сначала это было трудно. Грассано, как и все здешние селения, белеет на вершине высокого пустынного холма, подобно маленькому призрачному Иерусалиму в одинокой пустыне. Я любил подниматься на самое высокое место поселка, к церкви, разрушенной ветрами, где взгляд охватывает в любом направлении бесконечный, одинаковый на всем своем протяжении горизонт. Кажется, что находишься среди моря беловатой земли, монотонной, без деревьев; белые далекие селения на вершинах холмов — Ирсина, Крако, Монтальбано, Саландра, Пистиччи, Гроттоле, Феррандина, земли и пещеры разбойников, а дальше, возможно, находится море и Метапонто и Таранто. Мне казалось, что я понял темную силу этой обнаженной земли, полюбил ее, и мне не хотелось покидать этот край. Я вообще горестно переживаю разлуки и поэтому был враждебно настроен к новому месту, где мне суждено было жить. Но я с удовольствием думал о путешествии, о возможности увидеть земли по ту сторону гор, замыкавших долину Базенто, о которых слышал столько рассказов и которые так живо рисовались в моем воображении. Мы проезжали над пропастью, куда год тому назад свалились музыканты из оркестра Грассано, возвращавшиеся поздно ночью после концерта на площади Аччетура. С той поры мертвые музыканты пробуждаются в полночь на дне пропасти и играют на трубах; пастухи избегают этих мест, охваченные суеверным страхом. Но когда мы там проезжали, был ясный день, сияло солнце, африканский ветер обжигал землю и из глинистого обрыва не поднималось ни единого звука.
В Сан-Мауро-Форте, немного выше на горе, при въезде в поселок, я еще видел колья, на которых годами торчали головы бандитов, а вскоре мы уже въезжали в рощу Аччетуры, один из немногих остатков старинного леса, покрывавший некогда всю Ауканию. Lucus a non lucendo — это выражение верно и сегодня; Аукания, страна лесов, теперь вся обнажена; увидеть наконец деревья, зеленую траву, почувствовать свежесть лесной тени, услышать запах листьев — это значило для меня совершить путешествие в волшебную страну. Здесь было царство разбойников, и даже теперь от одного только далекого воспоминания пробирает дрожь; но это очень маленькое царство, его скоро оставляешь позади, чтобы подняться в Стильяно, где старый ворон Марк вёками стоит на площади, как местный божок, черным контуром вырисовываясь на камнях. После Стильяно надо спуститься в долину Сауро с ее широким руслом, усеянным белыми камнями, и красивой оливковой рощей князя Колонна на острове, где батальон стрелков был уничтожен разбойниками из Бори, направлявшимися в Потенцу. Здесь, у перекрестка, надо свернуть с дороги, которая ведет к долине Агри, и направиться налево по дорожке, проложенной несколько лет назад.
Прощай, Грассано, прощайте виденные издали или воображаемые земли! Мы — на другом склоне гор и подымаемся по уступам в Гальяно, который до недавнего времени не знал колес. В Гальяно дорога кончается. Все мне не понравилось здесь: поселок на первый взгляд не походил на поселок, он казался скорее небольшой кучкой отдельных белых домиков, в которых сквозь убожество сквозила претенциозность. Он был расположен не на вершине горы, как все другие, а лежал как бы на седле неправильной формы среди высоких живописных обрывов; с первого взгляда он не производил впечатления сурового и страшного, как все другие поселки в этих местах. Со стороны въезда было несколько деревьев, немного зелени; но именно это отсутствие характерных для Лукании черт мне не нравилось. Я уже привык к обнаженной и трагической суровости Грассано, к краскам осыпающейся извести, к его печальной и таинственной задумчивости; и мне казалось, что этот деревенский облик, в котором мне предстал Гальяно, обманчив, что это местечко не имеет ничего общего с деревней. И потом, может быть, это тщеславие, но я воспринимал как некое нарушение гармонии то, что место, где я был принужден жить, не давало чувствовать скованности, а было просторно и почти приветливо, ведь заключенному легче находиться в камере с бросающейся в глаза решеткой, чем в обычной комнате. Но мое первое впечатление оказалось оправданным только частично.
После того как меня выгрузили и вверили местному канцеляристу, сухопарому человеку в охотничьей куртке, тугоухому, с черными, торчащими на желтом лице усами, представили подесте и бригадиру карабинеров, я попрощался с моими стражниками, которые тотчас уехали обратно, и остался один посреди улицы. Тут я понял, что, подъезжая, я видел не весь поселок, так как он тянулся извиваясь, как червяк, вокруг единственной, круто спускающейся по хребту двух обрывов улицы, которая потом подымалась и снова спускалась между двумя другими обрывами и кончалась над бездной. Поля, которые, мне казалось, я заметил, подъезжая, не были больше видны; вокруг были одни только обрывы из белой глины, и стоящие на них дома точно парили в воздухе; и со всех сторон одна только белая глина без деревьев и без травы, ямы, наполненные водой, бугры, косогоры; все это походило на бесплодный лунный ландшафт. Двери почти всех домов, точно висевших над бездной, потрескавшихся, готовых обрушиться, были странным образом обрамлены черными флагами, то новыми, то выцветшими от солнца и дождей, так что весь поселок, казалось, был в трауре или увешан флагами для праздника Смерти. После я узнал, что здесь существует обычай вывешивать эти флаги на домах, где кто-нибудь умер, и не снимать до тех пор, пока время не выбелит их.
В поселке нет ни настоящих магазинов, ни гостиницы. Канцелярист направил меня, пока я не найду квартиры, к своей невестке — вдове, у которой была комната для редких, случайных проезжих; хозяйка могла: меня и накормить. Она жила в нескольких шагах от муниципалитета, в одном из первых домов поселка. Прежде чем бросить более пристальный взгляд на мое новое местожительство, я с собакой Бароном прошел со своими чемоданами через дверь, увешанную траурными флагами, вдове и сел в кухне. Тысячи мух чернели в воздухе и покрывали стены; старая рыжая собака лежала, растянувшись, на полу, точно погруженная в вековую тоску. Та же тоска, отвращение, следы пережитых несправедливостей и ужасов отпечатались на бледном лице вдовы, женщины средних лет; она не носила местной одежды, а была одета, как все городские, только с черной вуалью на голове. Ее муж умер три года назад дурной смертью. Он был околдован с помощью любовного зелья местной ведьмой и стал ее любовником. Родилась девочка; а так как он захотел порвать греховную связь, ведьма дала ему зелье, чтобы извести его. Болезнь была долгой и загадочной, врачи не знали, как назвать ее. Человек потерял силы, лицо потемнело, потом кожа его стала бронзовой, потом все больше чернела и чернела, и он умер. Жена — она была из господ — осталась одна с десятилетним мальчиком со скудными средствами, на которые надо было умудриться жить. Вот почему она и сдает комнату. Ее положение было средним между господами и крестьянами; в ней сочетались манеры одних и бедность других. Мальчик был отдан в церковную школу в Потенце; сейчас он дома, приехал на каникулы — молчаливый, послушный, уже отмеченный религиозным воспитанием. Он был коротко острижен и одет в серый форменный костюм, застегнутый до самой шеи.
Я совсем немного посидел в кухне вдовы, получая от нее первые сведения о поселке, когда постучали в дверь и несколько крестьян робко попросили разрешения войти. Их было семь или восемь, они были в черном, с черными волосами, а в их черных глазах было выражение необычной серьезности.
- Это ты только что приехавший доктор? — спросили они меня. — Идем, одному человеку очень плохо.
Они услышали в муниципалитете о моем приезде и узнали, что я врач. Я подтвердил, что я врач, но много лет не практиковал; и, конечно, в поселке есть же свой врач, пусть его и позовут, а я не пойду. Но мне ответили, что в поселке нет врача, а их товарищ умирает.
- Возможно ли, что в поселке нет врача?
- Нет, нету.
Я был в большом затруднении: по правде сказать, я не был уверен, что смогу принести какую-нибудь пользу после стольких лет перерыва во врачебной практике. Но как устоять перед их просьбами? Один из них, седовласый старик, подошел ко мне, взял мою руку и поднес ее к губам, чтобы поцеловать. Я, кажется, отшатнулся и залился краской от стыда, что, впрочем, случалось со мной и после, когда какой-нибудь крестьянин повторял тот же жест. Что это было? Мольба или остаток феодальных обычаев? Я встал и последовал за ними к больному.
Дом был близко. Больной лежал на полу, недалеко от входа, на каком-то подобии носилок; он был одет, в сапогах и, в шляпе. В комнате было темно, и я с трудом мог различить в полутьме плачущих и стонущих крестьянок; небольшая толпа мужчин, женщин и детей стояла на улице, но с моим приходом все вошли в дом и встали вокруг меня. Я понял из их обрывочных рассказов, что больного внесли в дом несколько минут назад, что его привезли из Стильяно (в двадцати пяти километрах отсюда), куда его возили на осле, чтобы посоветоваться с тамошними врачами; конечно, есть врачи и в Гальяно, но с ними не советуются, потому что это коновалы, а не врачи; доктор из Стильяно сказал ему только, что он должен вернуться, чтобы умереть у себя дома; и вот он дома, и я должен попытаться спасти его. Но делать что-нибудь было уже бесполезно: человек умирал. Напрасны были лекарства, найденные а доме вдовы, — я дал их больному только для очистки совести, без всякой надежды помочь ему. Это был приступ злокачественной малярии, температура поднялась за пределы возможного, и организм уже не мог сопротивляться. С землистым лицом, он лежал навзничь на носилках, дышал с трудом, не произнося ни слова, а кругом все стонали. Вскоре он умер. Передо мной расступились, и я ушел один на площадь, откуда широко открывался вид на обрывы и долины в направлении Сантарканджело. Был час заката, солнце садилось за горами Калабрии, и преследуемые тенью крестьяне, казавшиеся крошечными; издали, спешили по далеким глинистым тропинкам к своим, домам.
Площадь в Гальяно — это, собственно, не площадь, а всего лишь самое широкое место на единственной улице в поселке; она расположена на сравнительно ровном месте, там, где кончается Верхний Гальяно, наиболее высокая его часть. Отсюда улица поднимается еще немного, потом спускается в Нижний Гальяно и выходит на другую маленькую площадь, кончающуюся обрывом. На площади дома стоят только с одной стороны; с другой стороны — над пропастью — поднимается низенькая ограда; пропасть эта называется Обрывом стрелка, потому что туда бросился стрелок из Пьемонта, заблудившийся в этих горах и захваченный разбойниками, хозяйничавшими здесь в те времена.
Наступали сумерки, в небе летали вороны, а на площади собирались для вечерней беседы представители местной знати. Они гуляют здесь каждый вечер. Присаживаются на ограду, спиной к последним лучам солнца, и в ожидании прохлады дымят дешевыми сигаретами. По другую сторону площади, прислонившись к стенам домов, стоят крестьяне, вернувшиеся с полей; но их голосов не слышно.
Подеста узнал меня и позвал. Это был высокий, полный молодой человек с гривой черных напомаженных волос, в беспорядке падающих на лоб, с желтым безбородым лицом, круглым, как полная луна, с черными злыми глазами, лживыми и самодовольными. Он носил высокие сапоги, клетчатые брюки наездника, короткую куртку, в руке он вертел хлыстик. Это профессор Луиджи Магалоне; но он не профессор. Он всего лишь учитель начальной школы в Гальяно, хотя его основная обязанность — вести наблюдение за ссыльными, живущими в поселке. Этому делу он отдает (в чем я имел случай убедиться позже) все свои способности и все рвение.
Ведь его превосходительство префект назвал его самым молодым и самым фашистским из всех подест провинции Матера, как он сам тотчас же сообщил мне скрипучим голосом кастрата, тоненьким и угодливым, вылетающим из огромного тела. Я вынужден быть любезным с профессором. А профессор тотчас же дает мне сведения о поселке и поучает, как мне следует вести себя. Здесь есть несколько ссыльных, около десятка. Я не должен встречаться с ними, это запрещено. Да, в конце концов, это мелкие людишки, рабочие, дрянцо. А ведь я человек из общества, это же сразу видно. Я замечаю, что профессор гордится своей властью, возможностью впервые проявить ее в отношении культурного человека, врача, художника. Он тоже культурный человек, он считает нужным сообщить мне об этом. Он хочет быть внимательным ко мне — мы ведь люди одного уровня. Но как же это я стал ссыльным? И именно в тот самый год, когда родина становится по-настоящему великой. (Впрочем, он утверждает это не без некоторой робости. Война в Африке только начинается. Будем надеяться, что все пойдет хорошо! Будем надеяться!) Во всяком случае, мне здесь будет хорошо! Местность здоровая и богатая. Немного малярии — сущие пустяки. Крестьяне в большинстве мелкие собственники. Почти никого нельзя занести в список бедняков. Это один из самых богатых поселков провинции. Но я должен быть осторожен, потому что здесь много дурных людей. Никому нельзя доверять. Лучше всего ни к кому не ходить. У него много врагов. Он узнал, что я посетил этого больного. Как удачно, что я приехал и могу заняться врачебной практикой. Я предпочитаю не практиковать? Нет, я обязательно должен этим заняться. Он в самом деле будет этому очень рад. Вон в конце площади появился его дядя, старый доктор Милилло, городской врач. Я могу не бояться, он сам позаботится о том, чтобы его дядя не был недоволен конкуренцией. Да, в конце концов, дядя не идет в счет. Что касается другого врача, который прогуливается вон там, в одиночестве, то я должен быть настороже — он способен на все; но если мне удастся отнять у него всю клиентуру, это будет очень хорошо и профессор будет меня защищать.
Доктор Милилло приближался мелкими шажками. Ему лет семьдесят или немногим меньше. У него отвислые щеки и слезящиеся добродушные глаза старой охотничьей собаки. Движения его медленные, затрудненные, но скорее в силу характера, чем возраста. Руки дрожат, он с трудом выговаривает слова, верхняя губа у него невероятно длинна, а нижняя совсем отвисла. На первый взгляд, это незлобивый человек, совершенно выживший из ума. Ясно, что он не очень-то рад моему приезду, но я пытаюсь успокоить его. Я не собираюсь заниматься врачебной практикой. Сегодня я пошел к больному только потому, что это был неотложный случай и я не знал, есть ли врачи в поселке. Доктор очень доволен моим заявлением и, как и его племянник, чувствует себя обязанным показать мне свою культуру: он усиленно ищет в темных закоулках памяти какой-нибудь старинный медицинский термин, задержавшийся там с университетских времен, как трофейное оружие, забытое на чердаке. Но из его бормотанья я понял только, что он теперь ничего не смыслит в медицине, если вообще когда-нибудь что-то смыслил. Великолепные лекции прославленной неаполитанской школы исчезли из его памяти, смешались в однообразии долгого, постоянного безразличия. Обрывки прежних знаний всплывают без всякого смысла в беспросветной тоске из моря хинина, единственного лекарства от всех болезней. Я увел его из опасной научной сферы и стал расспрашивать о поселке, о его обитателях, о здешней жизни.
— Хороший, но очень примитивный народ. Больше всего остерегайтесь женщин. Вы молоды и к тому же красивы. Ничего не принимайте от женщин. Ни вина, ни кофе, никакого питья, никакой пищи. Они обязательно намешают туда какого-нибудь зелья. Вы, конечно, понравитесь здешним женщинам. Все будут готовить для вас зелье. Никогда ничего не берите от крестьянок. И подеста того же мнения. Это зелье очень опасно. Оно неприятное. Даже противное. Хотите знать, из чего они его делают? — И доктор наклоняется к моему уху и бормочет, счастливый тем, что вспомнил наконец один научный термин: — Из крови... кро... крови catameniale. — При этом подеста смеется своим горловым смехом, как курица.— Они кладут туда всякие травы и произносят заклинания, но главное — это кровь. Невежественные люди. Они примешивают это ко всему — в напитки, в шоколад, в кровяную колбасу, пожалуй даже в хлеб. Catameniale! Будьте осторожны!
Сколько зелий, увы, я выпил, сам того не зная, в течение года! Конечно, я не следовал советам дяди и племянника и каждый день с риском для себя пил вино и кофе, даже если мне его приготовляла женщина. Может быть, там и были зелья, но они, видимо, взаимно нейтрализовались. Во всяком случае, вреда они мне не принесли, а может быть, они помогли мне каким-то таинственным образом постичь этот замкнутый мир, окутанный черными вуалями, мир крови и земли, особый мир крестьян, куда нельзя проникнуть без волшебного ключа.
С холма Поллино на нас опускалась вечерняя мгла. Крестьяне теперь уже все вернулись в поселок — в домах зажигаются огни, со всех сторон звучат голоса, крики ослов и блеяние коз. На площади собралась вся местная знать. Враг подеста, доктор, разгуливающий в одиночестве, очевидно, очень хочет познакомиться со мной. Он все ближе кружит вокруг нас, как бесовский черный пудель. Это толстый, пузатый, чванливый пожилой человек с седой остроконечной бородкой, с усами, падающими на широченный рот, из которого торчат желтые неровные зубы. На его лице выражение злобного недоверия и постоянного, плохо сдерживаемого гнева. Он носит очки, нечто вроде черного цилиндра, общипанный черный сюртук, старые, потертые, изношенные черные брюки. Он размахивает большим черным зонтиком из бумажной материи, который, как я наблюдал впоследствии, он всегда с важностью держал раскрытым, совершенно вертикально, зиму и лето, в дождь и в солнечную погоду, как священный балдахин над святыней собственного авторитета. Доктор Джибилиско очень горяч. Его авторитет, к сожалению, кажется довольно шатким.
- Крестьяне нам не доверяют, не зовут нас в случае болезни, — сказал он мне ядовито и раздраженно, с видом первосвященника, клеймящего ересь. — Или же они не желают платить. Они хотят, чтобы их лечили, но платить — ничего подобного! Но они еще одумаются. Вы видели сегодня человека, который не захотел меня позвать. Он отправился в Стильяно. Потом позвали вас. Он умер, и так ему и надо.
Это подтвердил, хотя и в более сдержанных выражениях, и доктор Милилло.
- Они упрямы, как ослы. Да, да! Они хотят все делать по-своему. Им даешь и даешь хинин, а они не желают его принимать. Ничего нельзя поделать!
Я попытался успокоить и Джибилиско — я не намеревался быть их конкурентом; но его глаза полны недоверия и подозрения, а гнев его еще не выкипел.
- Они не доверяют нам, не доверяют лекарствам. Конечно, лекарство не все, но в какой-то мере может оказать помощь. Если нет морфия, можно пользоваться апоморфином.
Джибилиско, как и Милилло, хочет показать мне свою ученость. Но я быстро замечаю, что он куда более невежественнее старика. Он абсолютно ничего не знает и плетет невесть что. Он знает только одно: крестьяне существуют лишь для того, чтобы Джибилиско посещал их, чтобы они платили ему деньгами и продуктами за посещения; и те, кто ему попадаются, должны платить за тех, кто ускользнул. Врачебное искусство в его понимании — это только право, феодальное право распоряжаться жизнью и смертью крестьян; но бедные пациенты всеми способами уклоняются от этого jus necationis, и это приводит его постоянно в бешенство, в нем горит дикая звериная злоба к бедному стаду крестьян. Если последствия не всегда смертельны, то это не потому, что 'у него не было соответствующих намерений, но только потому, что убить человека с помощью науки можно, лишь обладая какими-то знаниями. Ему безразлично, какие применить лекарства; он их не знает и не заботится о том, чтобы знать их, они для него только оружие его права; воин может, чтобы заставить бояться себя, вооружиться по собственному выбору луком, шпагой, или кривой турецкой саблей, пистолетами или даже криссом. Право Джибилиско — наследственное: его отец был врачом, его дед — тоже. Его брат, умерший в прошлом году, был, конечно, аптекарем. У аптекаря не оказалось преемников, и аптека должна была быть закрыта; но с помощью друзей удалось добиться в префектуре Матеры разрешения во имя блага народа не закрывать аптеку, пока не истечет срок аренды, и она продолжает функционировать под наблюдением двух дочерей фармацевта, хотя они не получили образования и, следовательно, по закону не могли быть допущены к продаже ядов. Сроки аренды, само собой, никогда не истекут. Какая разница, что за порошок будет насыпан на донышко склянки, — этим уменьшается опасность ошибок при взвешивании. Но крестьяне упрямы и недоверчивы, они не идут к врачу, не идут в аптеку, не признают его права. Вот их и убивает малярия.
Я прошу дать мне кое-какие сведения о синьорах, которые прогуливаются или молча сидят группами на ограде. Вот проходит блестящий бригадир карабинеров. Это красивый, смуглый молодой человек, апулиец с напомаженными волосами, с злым лицом, в элегантном мундире с щеголевато затянутой талией, в блестящих сапогах, надушенный, вечно куда-то торопящийся, надменный. С ним придется обменяться несколькими словами; он пристально смотрел на меня издали, как на преступника, с которого нельзя спускать глаз. Он здесь три года и уже скопил, говорят, сорок тысяч лир, собранных по грошам с крестьян благодаря хитрому использованию своей власти над ними. Он любовник акушерки — высокой, сухой, чуть сутулой женщины с длинным лошадиным лицом и большими, романтическими, блестящими и томными глазами; она плохо одета, накрашена, ее язык и манеры сентиментальны и чопорны, как у провинциальной кафешантанной дивы. Бригадир останавливается на мгновение и шопотом говорит что-то подесте — ведь это светская власть; потом мне часто приходилось видеть их беседующими подолгу с таинственным видом, может быть, о том, как лучше держать все в порядке и увеличивать престиж власти. Но вот он уже удаляется, не кланяясь, высокомерно оглядев нас, и направляется к дому своей подруги в глубине площади. Или, может быть, он пойдет, как об этом поговаривают втихомолку, к красивой разбойнице — ссыльной сицильянке, которая живет за домом акушерки; это великолепное черно-розовое создание, которого никто никогда не видит, потому что сицильянка, согласно обычаям своей родины, прячет дома тайну своей красоты; она даже получила право, чтобы больше быть в уединении, ходить отмечаться в муниципалитете не каждый день, а только раз в неделю. Бригадир как будто ухаживает за ней столь же галантно, сколь и грозно. Хотя целомудренная сицильянка слывет недоступной и к тому же там, на острове, как говорят, есть люди, готовые отомстить за ее честь, вряд ли это окутанное вуалью очаровательное создание сможет долго сопротивляться воплощенному могуществу закона. Одетые в черное, в жилетах старинного образца, с двумя рядами пуговиц, три господина молчаливо курят рядом с нами. Это помещики; лица их исполнены важности и печали. Вот этот худощавый старик с умным лицом, стоящий в стороне,— адвокат С., .самый крупный богач поселка. Это
добрый и печальный человек, преисполненный недоверия и презрения к тому миру, в котором ему приходится жить. В прошлом году у него умер единственный сын, и с тех пор его две красавицы-дочери, Кончетта и Мария, больше не выходили из дому, даже для того, чтобы пойти в церковь. Такой уж здесь обычай, во всяком случае среди синьоров: девушки в течение трех лет остаются взаперти, если умирает отец, и год — если умрет брат.
Тот, другой старик, с длинной белой бородой, спускающейся на грудь, который курит рядом с адвокатом, — почтовый приемщик на пенсии; он из Сан-Джованни, земляк доктора Джибилиско. Его зовут Поэрио, он последний отпрыск гальянской ветви известной семьи патриотов. Он глух и болен. Он страдает затрудненным мочеиспусканием и страшно исхудал. Ему, конечно, не долго осталось жить.
Эти сведения я получил от адвоката П., веселого юноши, который присоединился к нашей группе. Как он тотчас рассказал мне, он получил диплом несколько лет назад в Болонье. Не то чтобы у него было какое-то стремление к наукам или профессиональное честолюбие, совсем наоборот. Дядя оставил ему в наследство все свои владения и дом в поселке при условии, что он получит диплом; и он отправился в Болонью. Разгульная студенческая жизнь была для него великим приключением. Получив диплом и вернувшись в поселок, чтобы мирно наслаждаться наследством, он женился на женщине старше себя и уже не смог больше уехать. Он абсолютно ничего не делал, пытаясь и в поселке продолжать жизнь студента. Да и чем заполнить все часы дня, все дни года? Пассателла — игра в карты, болтовня на площади, вечера в винных погребках. Большую часть наследства дяди он проиграл в Болонье еще прежде, чем вступить во владение им; теперь все земли заложены, доходы стали скудными, семья растет. Но милый юноша оставался по-прежнему студентом из Болоньи, веселым и распутным. На другой стороне площади расшумелся его товарищ по выпивке и пассателле, помощник учителя начальной школы. Он пьян сегодня, как почти всегда, с самого утра. Вино дурно действует на него, он делается диким, раздражительным, драчливым. Его вопли, когда он дает уроки в школе, слышны на краю поселка.
Все внезапно встают и направляются к почте. Оказывается, по склону улицы спускается старая почтальонша с мешком газет и писем, за которыми она каждый день отправляется на муле к перекрестку Сауро, где проезжает расхлябанный автобус, везущий несчастных путешественников по ухабистой дороге с тысячами поворотов из далекой Матеры в долину Агри. Все бегут к почте и ждут, пока дон Козимино, горбун с заостренным лицом, вскрывает пакеты и делает выборку. Это — вечерняя церемония, которую никто не пропускает и в которой буду после участвовать и я каждый день, весь год. В ожидании корреспонденции все стоят перед зданием почты; только подеста и бригадир входят туда и, под предлогом просмотра служебной почты, с любопытством читают все письма. Но в этот вечер почта запоздала, уже наступает ночь, и мне нельзя больше оставаться на улице. Прихрамывая, подходит маленький худой настоятель с большой красной кисточкой на шляпе; никто ему не кланяется. Мне уже пора идти. Я зову своего пса Барона, который прыгает передо мной, возбужденный всем новым в этом новом для него месте — новыми запахами, новыми собаками, овцами, козами, птицами. И я медленно поднимаюсь к дому вдовы.
Обрыв стрелка окутан тьмой, тьма охватывает лиловые и черные горы, которые со всех сторон замыкают горизонт. Загораются первые звезды, по ту сторону Агри сверкают огни Сантарканджело, и дальше еле заметны огни неведомых мест, может быть Ноэполи или Сенизы. Улица узкая. В наступающей тьме сидят у дверей крестьяне. Из дома умершего доносятся стенания женщин. Неясный шорох бродит вокруг меня, а дальше — глубокое молчание. Мне кажется, что я упал, как камень с неба, в стоячую воду.
Критика