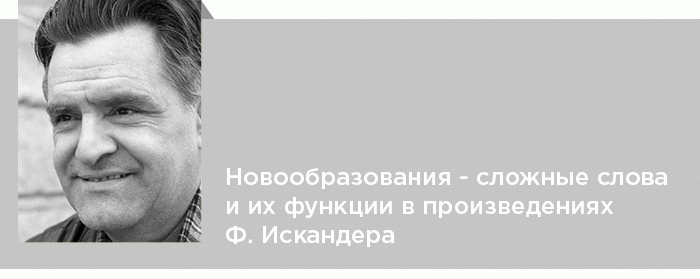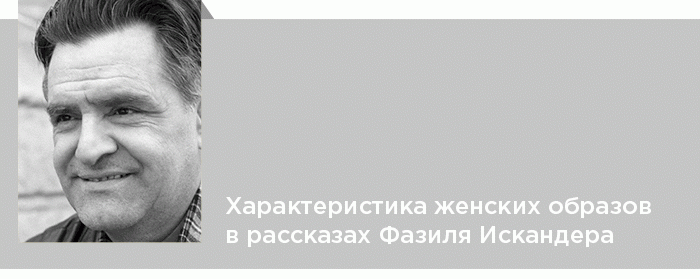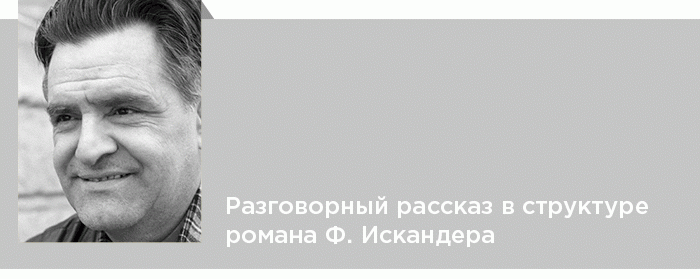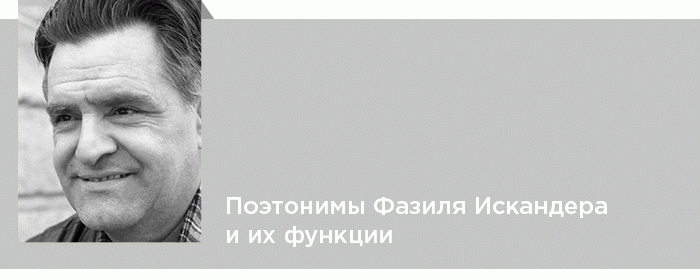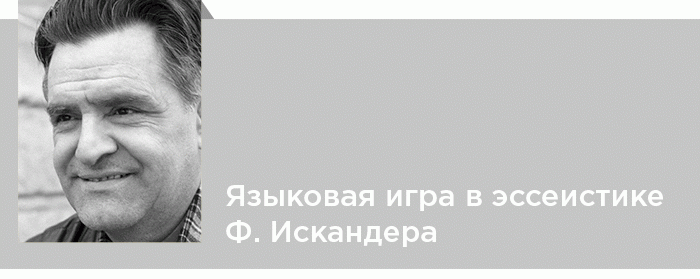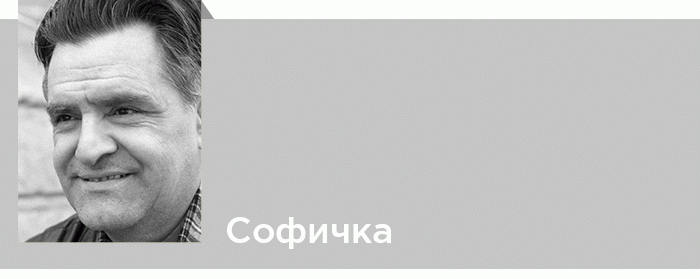Иронический эпос Фазиля Искандера: особенности идиостиля

удк 821.161.1.09–3+929
А. П. Романенко.
Саратовский государственный университет
В статье анализируются стилистические тенденции, характерные для идиостиля Ф. Искандера: эпическое повествование и ироническая модальность. рассмотрены внешние и внутренние свойства нарратива и разные степени и типы иронии.
Ключевые слова: идиостиль, искандер, нарратив, ирония.
A. P. Romanenko
Ironic epic style of fazil Iskander: Peculiarities of Idiostyle
Stylistic tendencies typical for F. Iskander’s idiostyle are analyzed: epic narration and ironic modality. External and internal characteristics of narrative as well as different degrees and types of irony are considered.
Key words: idiostyle, Iskander, narrative, irony.
По Фазилю Искандеру, индивидуальный стиль – главная, определяющая черта личности и творчества писателя: «Вообще свой собственный стиль есть абсолютная, единственная, последняя правда каждого настоящего писателя.
Как бы умен и красноречив ни был тот или иной писатель, но если мы не чувствуем его собственного стиля, который нас подхватывает, значит, у этого писателя нет высшей духовной правды, ради которой он пишет. Наличие собственного стиля, собственного почерка писателя неизменно делает правдой любую его фантазию. Отсутствие собственного стиля неизменно делает пустой фантазией любую его правду. Стиль невозможно выработать искусственно, как парус не может выработать ветер, который его надувает. Писатель может, как Достоевский и Толстой, говорить тысячи противоречивых вещей, но если все это несется в русле его стиля, значит, все это правда»1.
Индивидуальный стиль Искандера образуется взаимодействием, сочетанием двух начал: эпическим нарративом и иронической модальностью. Здесь идет речь только о сатирической прозе писателя, не рассматриваются его поздние прозаические и стихотворные тексты
Эпический нарратив проявляется двояко: метапоэтически и в характеристике героев и их культурно-семиотического поведения. Структура нарратива, образцом которого является разговорный рассказ (этот жанр присущ и автору, и импонирующим ему героям), представляется в виде дерева: это растущая, разветвляющаяся структура со своими «корнями»,«стволом», «ветвями». В то же время дерево, по Искандеру, это символ народной (абхазской) культуры, противостоящей массовой официальной (советской) культуре.
Ироническая модальность проявляется герменевтически и семиотически: в принципиальном толковании, интерпретации знакового поведения героев и автора, в комическом изображении языковой трансференции (передача ненормативной русской речи абхазцев), служащей художественным приемом. Иронической интерпретации подлежат любые действия человека (и автора, и героев), тем самым вся изображаемая жизнь человека или животного предстает как семиотическое и символическое действие. Особое место в идиостиле занимает ироническое изображение трансференции как следствия многоязычия, свойственного народной культуре. Ирония как модальность градуальна и разнокачественна: она может иметь разную степень (от легкой до жесткой) и разное качество (от дружелюбной до саркастической). Степень и качество иронии являются маркерами народной и официальной культуры.
Проиллюстрируем сказанное примерами из романа «Сандро из Чегема».
Эпическое начало.
Роман Искандера – это поэтизация народной жизни, патриархальной культуры, противопоставленной культуре официальной, массовой: Чегемской жизни противостоит карнавал театрализованной сталинской бюрократии2. Одним (может быть, и самым важным) из разграничителей двух культур в романе является речевое поведение героев (и, конечно, автора-повествователя). Характерная черта речевого поведения народа – владение жанром разговорного рассказа и культивирование этого жанра. Официальная советская культура развивает совсем другие жанры, в основном официально-делового стиля.
Самым распространенным условием осуществления разговорного рассказа в народной культуре является застолье, развивающее пафос доброжелательства, дружбы и любви. В романе все сцены застолий содержат один или несколько рассказов застольцев. В то же время сталинское застолье, которому посвящена целая глава «Пиры Валтасара», обходится вовсе без этого жанра, он там просто неуместен из-за напряженного пафоса лести и подозрительности.
К условиям осуществления разговорного рассказа относятся и фигуры рассказчиков. Рассказчиком может быть только подлинный носитель народной культуры независимо от его профессии и социального статуса. Безусловный эталон рассказчика – главный герой Сандро. В романе переплетаются рассказы самого Сандро и рассказы о нем. Если же появляется рассказчик, повествующий не о нем, то Сандро присутствует в качестве слушателя и обязательно участвует в обсуждении услышанного, как правило, толкуя смысл рассказа по-своему или выводя мораль. Сандро – «профессионал» застолий, «великий тамада». Как профессионал он, по словам одного из героев, выполнял свой общественный долг, … нигде не работая на себя, а целиком отдавая свою жизнь за наши с вами интересы (1, 325). Таков идеал рассказчика. В реальной жизни люди могут быть прекрасными или хорошими рассказчиками (плохой – это уже не рассказчик), совмещая это амплуа с профессиональными занятиями. Так, одним из замечательных рассказчиков, виртуозом, приближающимся к уровню Сандро, является Абесаломон Нартович, советский ответственный работник. В этой фигуре можно видеть своеобразный синтез двух культур – народной и официальной. Но доминирует культура народная, иначе он не был бы не только замечательным, но и вообще рассказчиком. Другие, кроме виртуозов-художников жанра, рассказчики – герои, наделенные авторской симпатией (не наделенные – не рассказчики). Это почти три десятка героев разных возрастов и занятий. Двое из них – псевдорассказчики, так как их речевое поведение не может претендовать на владение жанром рассказа. К ним относятся Тимур, председатель колхоза, представитель власти, его речь – обвинения, доносы, ложь; Раиф, бывший член правления колхоза, т. е. тоже причастный к власти. Его застольный рассказ о старой тяжбе с жителями соседнего выселка подкрепляется документами – справками, которые он бережно хранит. Эти два персонажа демонстрируют указанное ранее противопоставление двух культур.
Разговорный рассказ противопоставлен формам и жанрам официальной советской речи, которые изображаются без симпатии и с иронией. Это документ, официальная властная речь Тимура: …они, чегемцы, стали отвечать на его излюбленные политические ярлыки цветастыми проклятиями, где угроза кровопускания порой затейливо уравновешивается обвинением в кровосмесительстве. Я уверен, что они и эти самые политические ярлыки воспринимали, как тот же мат, только высказанный по-образованному, и, может быть, из-за своей непонятности он казался им еще более похабным, чем их проклятья, выражением смутных чернильных извращений (1, 163).
Это речь Сталина, записанная на граммофонную пластинку: Теперь после появления патефона сюда стали захаживать пожилые и старые чегемцы послушать, как вождь говорит своим глуховатым (на языке чегемцев – гниловатым) голосом <…> Неугомонная Тали придумала сопровождать речь вождя игрой на гитаре с паузами в тех местах, где начинались аплодисменты или раздавалось отчетливое журчание боржома, льющегося в стакан. В том месте, где вождь звякнул бутылкой о стакан, наливая воду, у старого охотника Тендела, по многолетней привычке делать засаду на зверя у водопоя, вырвалось: Тут бы его и уложить (1, 384–385). Чегемская собака реагировала на голос вождя по-своему, но в соответствии с общим пафосом: Первый раз, услышав голос Большеусого, она вдруг зарычала и приблизилась к тени лавровишни, где стоял патефон. Она несколько раз недоуменно полаяла на его голос и тут, словно поняв, кому этот голос принадлежит, на глазах у всех поджала хвост и, словно огрызаясь на ходу, повернулась и убежала в кукурузник. Оттуда она долго продолжала лаять и возвратилась домой только к вечеру, когда все разошлись.
– Знает, кого бояться, чувствует время, в котором стоим, – говорили чегемцы, цокая языками и поглядывая друг на друга с намеком на вещие способности животного (1, 389). Это советская газета и прочие виды официальной речи (допрос, газетная научная дискуссия и т. п.).
Структура разговорного рассказа, по Искандеру, может быть уподоблена дереву: она ветвится и развивает многозначность смысла (как неоднозначны корень, ствол, ветви, листья, плоды – части дерева-растения. А дерево у Искандера – это символ народной культуры: Мне кажется, дерево – одно из самых благородных созданий природы. Иногда я думаю, что дерево не просто благородный замысел природы, но замысел, призванный намекнуть нам на желательную форму нашей души, то есть такую форму, которая позволяет, крепко держась за землю, смело подыматься к небесам (2, 592). Дерево – это и символ самой важной эмоции в жизни человека: Природа любви ветвиста3. Про одного из героев автор говорит: Он был прирожденным рассказчиком, и ветвистость его рассказов только подчеркивала подлинность самого древа жизни, которое он описывал (2, 422). Повествование строится по модели дерева: корень – ствол – ветви – плоды. Корень – это пафос рассказа, т. е. смыслообразующая эмоция. Ствол – это основной мотив повествования, ветви – те или иные отступления от основного мотива, обогащающие его смыслом и дающие дополнительную, но чрезвычайно существенную (эксплицитную) информацию об образе автора. Плоды – это итоги повествования, которые могут принимать форму либо морали, либо истолкования, либо суждений рассказчика и слушателей по поводу текста, суждений, приращивающих дополнительный смысл. Содержание рассказа организуется указанной схемой повествования и в свернутом виде реализуется в ключевых словах рассказа. Разговорные рассказы в романе по своей структуре могут быть разной степени сложности. Рассмотрим три примера: от простой до сложной структуры.
Простейшая структура – рассказ красноармейца Зураба, попутчика главного героя главы 15 «Молния-мужчина, или Чегемский пушкинист» Чунки. Простота рассказа подчеркнута тем, что ни рассказчик, ни текст непосредственно не связаны с Сандро, связь только через родственные отношения Сандро и Чунки. Корень (пафос) – гордость рассказчика своим могучим сложением, поэтому основной мотив (ствол) – история молодецкой выходки: Зураб на глазах своей девушки Зои (к ее удовольствию и веселью) запустил надоевшим подвыпившим задирой в открытое окно дома, где семья с прожорливой старухой-тещей поедает арбуз. От этого ствола расходятся ветви: 1) Зураб с Зоей на скамейке и пристающий к ним нетрезвый парень; 2) семья за арбузом с прожорливой тещей. В качестве плодов можно назвать: проворное бегство пьяницы, принятого семьей за вора; старуха, воспользовавшаяся выходом семьи на улицу и прикончившая арбуз; рассказ зятя, страдающего всю жизнь от аппетита тещи; веселье Зои. Ключевые слова рассказа: телосложение (сложение) – 6 словоупотреблений – реализует пафос рассказа и арбуз – 11 словоупотреблений – реализует пафос в комической ситуации.
Более сложная структура – глава 22 «Бармен Адгур», содержащая рассказ Адгура в застолье об истории его вооруженного конфликта с врагами со ссылкой на связь слушателей с Сандро: Теперь я расскажу все, как было, потому что вы друзья дяди Сандро, а это для меня все (2, 218). Пафос (корень) – противопоставление друзей и врагов. Основной мотив повествования (ствол): история вооруженного нападения на Адгура работников милиции, его ареста, суда, заключения и заключительного сведения счетов. Разветвление ствола довольно сложно. Начинается повествование сразу с ответвления: поскольку одна из пуль, выпущенных в Адгура, прошла через сердце, рассказчик обсуждает шутливую (возмущающую его) версию о наличии у него двух сердец: Вот это, кто выдумал, что у меня два сердца, если где-нибудь его найду, клянусь мамой, в живом виде скушаю (2, 214). Эту версию бармен обсуждает с мясником Мисропом, и эта ветвь дает ответвление: рассказ о дяде, которому бериевские палачи на допросе выбили глаз. Затем рассказчик возвращается к теме двух сердец и обсуждению ее с профессором. Следует возврат к стволу: в Чегеме умерла бабушка, и Адгур идет домой собираться на похороны. Тут же следующее ответвление: рассуждение о смерти и рассказ о погибшем другедесантнике Викторе: В самой ужасной ситуации он говорил свое любимое слово: «Нормалевич!» – и любое хулиганье в воздухе таяло (2, 218). Следует возврат к стволу – и тут же ответвляется рассказ, инициированный сидящими за соседним столиком немцами, о гостившей у рассказчика молодой немецкой паре. Возврат к стволу: повествование о перестрелке, аресте, больнице, лежа в которой рассказчик бдительно старается понять, кто из милиции и медиков куплен его врагами, а кто нет. После больницы – ожидание суда: В Москве уже наняли тебе крепкого адвоката. Местного нельзя, потому что все куплены (2, 228). Затем следует повествование о суде, тюрьме. Ответвление: рассказ о сидевшем с ним в одной камере честном милиционере. Поскольку рассказ ведется в застолье, ответвляется заказ друзьям, занимающим другой столик, заканчивающийся чрезвычайно существенной для понимания пафоса рассказа сентенцией: И не надо жалеть мои деньги! Не надо! Для друзей живем, для гостей живем, больше я не знаю, для чего жить (2, 235). Затем без перерыва следующее ответвление о людях, страдающих вещизмом. Возвращение к стволу: сведение счетов с предавшим его директором бара, с милицейским майором, стрелявшим в него, – этого сделать не удается. Заканчивается рассказ моралью (плод), перекликающейся с приведенной сентенцией: Потому что в этом мире, где все куплено еще до нашего рождения, я ничего такого особого не видел, чтобы добровольцем второй раз пришел сюда. Но я видел одно прекрасное в этом зачуханном мире – это мужское товарищество, и за это мы выпьем. Потому что человеку желательно, чтобы в жизни было одно такое маленькое вещество, которое никто не может ни купить, ни продать! И за это вещество мы выпьем (2, 238). Ключевые слова, обозначающие друзей: хорошие люди – 2 словоупотребления, (мои) друзья (друг) – 14, товарищ(и) – 8, товарищество – 1, (наши, местные) ребята – 10 словоупотреблений. Ключевые слова, обозначающие врагов, представлены именами и глаголами. Имена: аферисты – 5 словоупотреблений, бериевские палачи – 2, бериевский майор – 1, бериевщина – 1 словоупотребление. Формы глаголов и причастий: купить – 6 словоупотреблений, покупать – 3, продать – 4, купленн(-ые, -ый, -ая) – 4 словоупотребления, куплен(-а, -ы) – 10 словоупотреблений.
Одна из самых сложных структур в романе – рассказ «История горной рыбалки» из главы 10 «Дядя Сандро и его любимец». Сложность этого рассказа определяется: двумя рассказчиками (Тенгиз и Сандро – участники события, первый рассказывает о подготовке к рыбалке, второй – о самой рыбалке и общении со Сталиным); поэтому сложен пафос, характеризующийся двойственностью; множественностью и разнообразием «плодов»; темой (рассказ о Сталине); диалогизмом (в диалог вступают не только рассказчики, но и слушатели). Диалогизм проявляется не только в кратких реакциях, но в довольно длительных обсуждениях слушателями заинтересовавшей их детали, рассказчик же терпеливо ждет окончания этих обсуждений.
Двойственный пафос придает рассказу своеобразную модальность: Тенгиз проявляет уважение и симпатию к Сталину; Сандро же думает прежде всего о симпатии к себе, о своем молодечестве, находчивости и даже о своей исторической роли в спасении абхазцев, при этом фигура Сталина (и остальных участников) окрашивается не столько пиететом, сколько иронией. Основной мотив – история горной рыбалки – реализован, по существу, двумя стволами, скоррелированными диалогом рассказчиков.
Повествование начинает Тенгиз, и ствол его рассказа целен и содержит только две хилые веточки комплиментарного характера, в которых рассказчик рассуждает о нелегкой жизни вождя. С первой, поясняющей выбор орудия рыбалки – взрывчатку, повествование начинается: – Откуда у вождя время с удочкой там сидеть, как пенсионеру? (1, 327). Во второй сообщается о трудностях в передвижении: – А товарищ Сталин не мог, – сказал Тенгиз, – за три дня должен был сообщить органам, чтобы охрану успели выставить (1, 329). Третья ветвь была инициирована просьбой Сандро, в ней рассказывалось о незапланированной встрече Сталина в прибрежных кустах с окаменевшем от неожиданности охранником с лопатой. Затем Тенгиз передает слово Сандро: – Теперь тебе даю слово. Ты рыбачил со Сталиным, ты с ним пил коньяк, ты и рассказывай… (1, 331). То есть вступает основной рассказчик, который подчеркнул это обстоятельство эпическим началом: – День был хороший, солнечный, но лезть в горную воду в конце октября – дело не из легких (1, 331). Ствол рассказа Сандро ветвится не столько формально, отступлениями, сколько содержательно: рассказчик делает далеко идущие намеки, как бы приглашая слушателей к домысливанию, и это обстоятельство постоянно провоцирует диалоги, обсуждения слушателями тем, на которые искусно намекает Сандро.
В повествовании Сандро сразу появляется ключевое слово кальсоны, которое проходит через весь рассказ, структурируя его и придавая ему шутливо-ироническую модальность, противоречащую уважительно-почтительной модальности повествования Тенгиза и придающую комизм всему событию. Поэтому здесь необходимо проследить употребление этого ключевого слова. Сандро рыбачил, после взрыва входя в воду в закатанных кальсонах. Когда Сталин подзывал его на рюмку коньяку, ему было стыдно мокрым, в закатанных кальсонах подходить к вождю (1, 329).Существенно также, что это ключевое слово сразу же начинает сочетаться с ключевыми словами вождь и товарищ, перешедшими из части рассказа Тенгиза, что усиливает комизм. Когда всплыл большой лосось, Сталин сам полез в воду и, промокнув до самых карманов маршальского галифе, ухватил лосося, приподнял его, повернулся и, с улыбкой держа его в руках, ну, совсем как на портрете девочку Мамлакат, вытащил его из воды и отдал подбежавшим людям (1, 332). Здесь рассказ ветвится полилогом-спором по поводу среднеазиатской девочки. Сандро снисходительно выслушал все точки зрения на этот факт и продолжал: Сталину несли на руках полотенце, запасные кальсоны, запасные галифе, сапоги и всякую мелочь, которую не упомнишь. Но кальсоны он упомнил. Затем Сандро зашел в заросли, снял кальсоны и начал их выжимать, обнаружив при этом в тех же зарослях охрану. Только он стал надевать свои влажные кальсоны (1, 332), его потревожили:
– Где здесь товарищ Сандро? – спросил голос.
– Да вы что, с ума посходили, – крикнул дядя Сандро, – дайте человеку одеться!
– Вам кальсоны в подарок от товарища Сталина, – сказал человек, и дядя Сандро, вынув ногу, вдетую в кальсоны, и прикрывшись ими же, выглянул из-за кустов. Там стоял молодой парень из охраны и держал в руке шерстяные кальсоны серого цвета.
– Сталинские? – спросил дядя Сандро.
– Да, – сказал охранник, – можете надевать.
– Можете думать, что хотите, но в эту минуту решилась судьба абхазцев, – вдруг сказал дядя Сандро и оглядел притихшие столы (1, 333). Последняя фраза – это далеко идущий намек, рассчитанный на ответвления от ствола и на обсуждение возможности высылки абхазцев. Наконец один из слушателей вернул разговор к стволу: – Дядя Сандро, – спросил молодой завмаг, – как всетаки это связано – кальсоны вождя и выселение абхазцев? (1, 333–334). Рассказчик пояснил значение жеста Сталина, и обсуждение продолжилось: – Это ты, Сандро, перехватил, – сказал скептик, – он мог и кальсоны подарить, и выслать. Тенгиз в свою очередь возвращает разговор к стволу: – Ты лучше рассказывай дальше, – сказал Тенгиз, – зачем тебе Сталин подарил кальсоны, теперь мы никогда не узнаем… (1, 334–335). Далее Сандро рассказал, как он спрятал свои старые кальсоны и подошел к пиршественному столу Сталина, при этом ключевое слово кальсоны употреблено 7 раз. Далее еще одна ветвь: – И чему я дивлюсь, – продолжал дядя Сандро, – сколько времени прошло, а кальсоны как новенькие на мне… Видно, особая какая-то шерсть…
– Спецовцы, – бросил Тенгиз, не поднимая головы и не отрываясь от кости.
– Господи! Все-таки, может, хватит про исподнее, тут и женщины молодые, – сказала тетя Катя, обращаясь к мужу <…>
Дядя Сандро взглянул на нее рассеянным взглядом и продолжал свой рассказ, никак не показав своего отношения к ее словам (1, 336). Тема исподнего формально закрыта, но реакция рассказчика на слова жены показывает, что значимость ключевого для рассказа слова-понятия обсуждению не подлежит. Далее рассказывается о сталинском застолье с комментариями Тенгиза. Пока Сандро не подал еще один далеко идущий намек-ветвь: Сталин был бы хорошим тамадой, не занимайся он так много политикой. Один из застольцев сразу же этот намек понял: – Выходит, если бы ты так много не занимался застольными делами, мог бы стать вождем?
– И не хотел бы, – сказал дядя Сандро, – тем более после Двадцатого съезда. Далее следует ветвь о съезде и Хрущеве. При этом один из застольцев делает еще одно ответвление: – Сандро! – крикнул он. – Швырнул бы в костерок ему кусочек взрывчалки, тут бы тебе Хрущит и орден выдал! (1, 337). Сандро тут же возвращается к основному мотиву: – Куда уж взрывалку, – сказал дядя Сандро задумчиво, словно и такая возможность была им изучена, но отброшена ввиду ее невыполнимости, – куда уж взрывалку, кальсоны и то не дали сунуть под камень…
– Опять за свое, – посмотрела тетя Катя на него с укоризной.
Но дядя Сандро не остановился на своих кальсонах, а продолжал рассказ (1, 338). Следующая ветвь интертекстуальна: она отсылает слушателей к другой истории о сталинском застолье 30-х годов, на котором присутствовал Сандро как участник танцевального ансамбля (глава 8 «Пиры Валтасара»). И в том, и в другом случае Сандро проявляет находчивость, уходя от подозрений Сталина. Далее следует отступление о судьбе вдовы и сына Лакобы, переходящее в полилог. И в конце – возврат к основному мотиву:
– Да ты лучше расскажи, – крикнул Тендел со своего места, – здорово ты наложил в штаны, когда Большеусый глянул на тебя?
– Трухнуть трухнул, а так ничего, – серьезно ответил дядя Сандро.
– Жалко, что он не вспомнил нижнечегемскую дорогу, а то бы ты полные штаны наложил! – крикнул Тендел под общий хохот. Все знали историю встречи дяди Сандро со Сталиным или с тем, кого он принял за Сталина, на нижнечегемской дороге.
– Если бы не кальсоны Сталина, может и наложил бы, – сквозь общий хохот закричал Тенгиз, – а так испугался, что еще хуже будет.
– Вас же, засранцев, спас от выселения, и вы же надо мной смеетесь! – крикнул дядя Сандро, сам еле сдерживаясь от смеха (1, 340).
Это заключающий рассказ, главный плод, в котором реализовался пафос. Вообще же плоды в данном рассказе рассыпаны по всему повествованию. Ключевые слова, реализующие тот же пафос, следующие: товарищ (34 словоупотребления), вождь (14 словоупотреблений), кальсоны (23 словоупотреблений).
Такова «древесная» структура нарратива, отражающая метапоэтические представления автора и понимание символа народной словесной культуры.
Ироническое начало.
Репертуар способов созидания иронической модальности эпического повествования разнообразен. Назовем основные: принципиальное и избыточное толкование знакового поведения людей, животных и даже явлений природы; трансференция, связанная с соотношением народной и официальной массовой культур; и, наконец, повтор.
Толкование необходимо, так как окружающий мир в народном сознании предстает в виде семиозиса. Знаковость мира – фундаментальная черта мифологической картины мира. Апофеозом знаковости в романе предстает молельное дерево, которое дает герою ответ на вопрос: вступать или не вступать в колхоз: Тогда он одним сильным качком вытащил топор из ствола и снова его вонзил в дерево.
– Кум-хоззз – прозвенел ствол и, как легкий, смиренный выдох, замолк в бесконечном небе. Старик растерялся. Он ожидал более сложного, более загадочного ответа божества, которое надо было бы еще толковать и толковать, а это было слишком ясно и потому страшно. Старик вытащил топор и снова ударил по стволу.
– Кум-хоззз – прозвенело дерево печально и внятно.
– И ты туда же?! – взревел старый Хабуг и, вытащив топор, в ярости стал бить и бить по стволу обухом.
– Кум-хоз! Кумзхоз! Кум-хоз! – волнами прокатывалось по телу старого дерева (1, 158). В этом примере ироническая окраска текста достигается и токованием, и трасференцией (кумхоз вместо колхоз), и повтором.
Еще более показательный пример повтора: Абхазский ансамбль песен и плясок уже гремел по всему Закавказью, а позже прогремел в Москве, и даже, говорят, выступал в Лондоне, хотя неизвестно, прогремел он там или нет (1, 209). В первом употреблении выделенный глагол звучит нейтрально, во втором – уже содержится намек на иронию, в третьем – явная ирония.
Таким образом, оба начала, их единство (эпический нарратив и ироническая модальность) составляют доминантную черту индивидуального стиля и образа автора в сатирической прозе Искандера.
Примечания
- Искандер Ф. Софичка // Искандер Ф. Ласточкино гнездо : Проза. Поэзия. Публицистика. М., 1999. С. 341–342.
- Искандер Ф. Сандро из Чегема : роман : в 2 т. М., 1991. Кн. 1. С. 7. Далее ссылки в тексте приводятся на это издание с указанием тома и страниц в скобках.
- Искандер Ф. Человек и его окрестности : роман. М., 1993. С. 255.