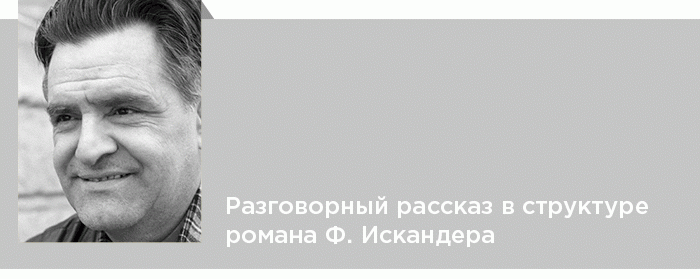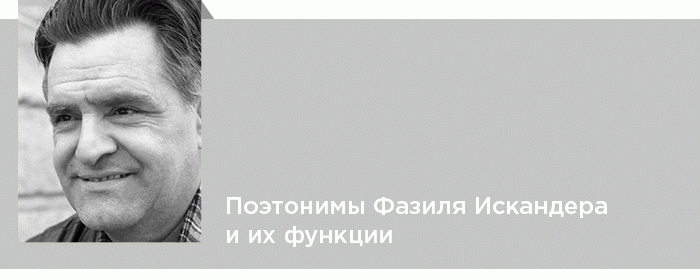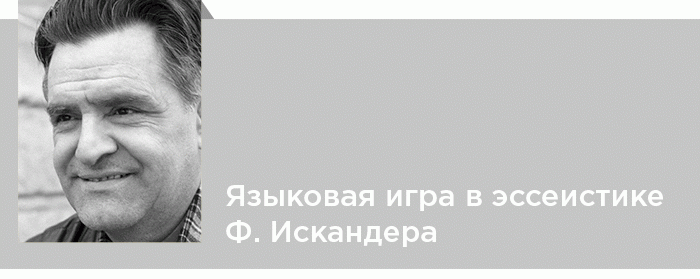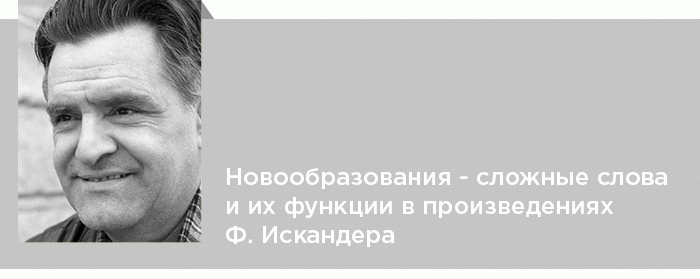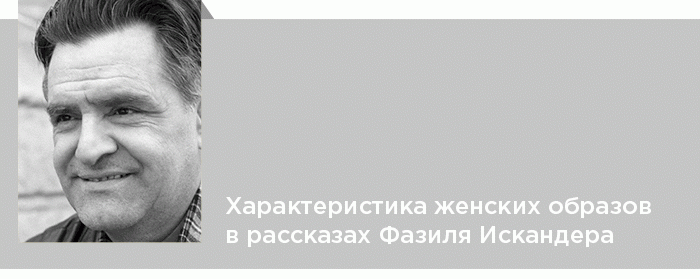Фазиль Искандер «Сандро из Чегема», 1990 год — Сто лекций с Дмитрием Быковым

Первый эскиз романа был напечатан в четырех номерах «Нового мира» за 1973 год, и можно сказать, что после этого Искандер проснулся классиком, потому что стилистически это было ни на что не похоже. А первые более или менее полные, включающие уже два десятка новелл издания «Сандро» последовали за границей ― сначала в «Ардисе», затем эта книга бесконечно переводилась, и, как рассказывал Искандер автору этих строк, однажды, чтобы прочесть американскую рецензию, ему пришлось титаническими усилиями вспомнить остатки английского языка, который он когда-то изучал в университете. Но, как он говорил, дело стоило того ― в рецензии говорилось, что он лучше Гарсиа Маркеса.
В общем, наверно, Искандер действительно написал самую значительную русскую книгу 70-х годов ― при том, что у него есть феноменальная конкуренция. Тут и «Пушкинский дом» Битова, и «Ожог» Аксёнова, и «Дом на набережной» Трифонова. Книга Искандера чрезвычайно значительна не только по объему, хотя это действительно капитальный трехтомный роман, удостоенный одной из последних советских государственных премий. (Чихает.) Как видим, что правда.
Но важен, конечно, прежде всего не объем этой книги, а её значение для русского эпоса. Искандеру удалось невозможное ― написать позднесоветский эпос. Обычно для эпоса нужна невероятная высота взгляда. У Искандера она была. Конечно, называть эту книгу советской ― чрезвычайно упрощать и даже несколько снижать её. Это эпос, который позволил бы Искандеру стать нобелевским лауреатом, потому что обычно Нобеля дают людям, которые нанесли на карту миру новую территорию ― вот как Габриель Гарсиа Маркес нанес Латинскую Америку, в одном своем Макондо, а позднее и в «Осени патриарха» сфокусировав всю историю континента.
Искандер нанес на карту мира не только Абхазию, не только Мухус, как он зашифровал Сухум, не только Чегем, как он обозначил родное свое селение. Он в том интервью как-то сказал: «Зачем говорить „кавказское“, когда можно сказать „архаическое“?». Он действительно нанес на карту мира великолепную архаическую цивилизацию со всем, что в ней есть.
А есть в ней прежде всего вот все национальные архетипы: кодекс чести, архаические действительно понятия рода и дома, которые являются определяющими, есть роковая красавица и есть вместе с тем плут. Когда-то Искандер говорил о том, что он собирался писать «Сандро из Чегема» как современный плутовской роман или как пародию на плутовский роман.
Как пародия на рыцарскую прозу стала «Дон Кихотом», так и пародия на плутовские романы, на национальные анекдоты превратилась в грандиозный гимн этому национальному типу. Да, Сандро, дядя Сандро ― это плут. Да, он демагог. Да, он врун, да, у него от его главного занятия ― он тамада ― образовалась даже тончайшая складочка на затылке, потому что ему приходится постоянно поднимать рог.
Он воплощает в себе, наверно, все лучшие, но при этом и все худшие черты национального характера: и эту ложь, и определенное фарисейство, и плутовство. Иными словами, дядя Сандро ― это то, что случилось с национальным характером за годы его выживания, в том числе выживания советского. И вот здесь внимание: оказывается, что выжить в советском обществе не может ни зло, ни добро, а может плут, кудесник, врун, такой абхазский Бендер, если угодно.
И действительно, черты этого абхазского трикстера дяди Сандро невероятно обаятельны. Он выходит из всех положений благодаря хитрости, он действует чаще всего блестящими кривыми обходными путями, но это делает его бессмертным, как бессмертен народный дух, как бессмертен юмор. Это вообще великая мысль о том, что в эту эпоху способен выжить только плут.
Саму же эпоху Искандер охарактеризовал, надо сказать, с исчерпывающей ясностью, хотя метафорически. Он же поэт и у него, собственно, был большой поэтический опыт. Он начал с двух поэтических сборников, с баллад замечательных киплингианских и только уже потом прославился «Созвездием Козлотура».
Вот смотрите, как описывает он странный мир, в котором действуют его герои: «Короче, когда долго нет света, сова садится на трон, филины доклевывают последних светляков, лилипутам возвращается как бы естественное право бить ниже пояса, а новоявленные гуманисты восхваляют Полярную ночь как истинный день в диалектическом смысле. Культ будущего, этот летучий расизм, как-то облегчает убивать в настоящем, ибо между настоящим и будущим нет правовой связи. <…> Пусть будущее призадумается над этим, если оно вообще способно думать».
Это замечательные слова, хотя из дальнейшего развития сюжета вполне понятно, что культ прошлого ничем не лучше. Искандер ведь, в общем, охарактеризовал здесь и наше время: с совой на троне, с доклёвыванием светляков. Но культ прошлого и культ будущего изобличают одинаковую неспособность жить в настоящем, и вот это очень принципиально.
«Сандро из Чегема» в строгом смысле не роман. Это набор баек, в окончательном виде в нем 33 новеллы, 33 главы, которые, казалось бы, и не имеют никакого отношения к единому сюжету. Тут и новеллы о Сталине, который любил отдыхать в Абхазии, новеллы очень издевательские, очень тонкие, изобличающие бесконечно хитрую паутину притворства, фарисейства, взаимной лжи. Это, как выражается Жолковский, такой балет. И действительно, то, что разыгрывают между собой эти герои, очень похоже на ритуальные танцы.
Это и история любви, «Тали ― чудо Чегема». Это и новелла о буйволе под названием «Белолобый», и новелла о типичном национальном герое «Бригадир Кязым». Замечательный, такой крепко укорененный народный герой, которому ничего не сделается и который гораздо привлекательнее, чем дядя Сандро.
Я должен сказать, что одна из самых обаятельных и самых сильных сцен в романе ― когда бригадир Кязым, вымочив нож в горящем спирте, оперирует корову, вскрывает гнойник на вымени. Вот этот человек, любящий и умеющий делать любое дело, будь то пахота, лечение, руководство или выпивка… Этот эпизод напоминает как раз о бессмертии профессионала. Дядя Сандро тоже своего рода профессионал, но, как мы знаем, профессия его ― брехня и выпивка.
Разумеется, вскрывая главные особенности этого национального характера, этого национального мифа, Искандер не может не сделать обычного вывода семейных эпопей ― этот мир обречен. Строго говоря, все эпопеи семейного распада, домашнего распада в XX веке состоят из слова типа «сага» или «крах» и фамилии описываемой семьи. Это эпопеи в довольно большом диапазоне, от «Будденброков» до «Строговых», от «Семьи Тибо» до «Семьи Ульяновых», от «Дела Артамоновых» до «Ёлтышевых».
«Сандро из Чегема» не исключение. Сандро из Чегема ― это как фамилия, Сандро Чегемский. И история эта ― история распада патриархального сообщества. Главная прелесть этого сообщества в том, что оно обречено. И от давления внешнего мира гибнет это сообщество, и от, конечно, внутренних его противоречий, которые неустранимы. Ведь, в конце концов, Сталин действительно был кумиром в Абхазии, кумиром в Грузии и России. В общем, как сказал когда-то Маркес, «Роды, обреченные на сто лет одиночества, не появляются на земле дважды».
Свои сто лет одиночества есть и у Чегема. Прежде всего потому, что это сообщество слишком легко позволяет вождю воцариться и манипулировать. Как правильно заметил Искандер, «чудовищное слишком часто воспринимается как загадочное или как исключительное». Культ личности, возникающий в этом сообществе, тоже обрекает его на исчезновение.
Искандер говорил, что первый трепет замысла ― он говорит «зуд скульптора в пальцах» ― он впервые ощутил, когда в 11 лет лежал под чинарой рядом с большим семейным домом, видел, как рядом падают с грецкого ореха зеленые, неспелые ещё орехи. Рядом перекликались его двоюродные сестры. И ему как-то захотелось задержать навеки этот ветер, эту траву, эти девичьи голоса, но он не знал, как это сделать.
Ему удалось это задержать, но в жизни всё это подсвечено обреченностью. Вся архаика обречена, строго говоря, как бы она ни была мила и прелестна. В некотором смысле, может быть, последние слова «Сандро из Чегема» ― «И больше мы не вспомним о Чегеме, а если вспомним, то нескоро заговорим» ― звучат, конечно, как эпитафия. Это роман-эпитафия, ничего не поделаешь.
Важно иное. Важно то, что в этой атмосфере увядания для Искандера остаются две безусловные ценности ― это дом и род. Конечно, родовые связи архаичны и, в общем, наивны, потому что мы не выбираем родню. Это имманентные данности, но это то, от чего мы не можем избавиться, и то, что в нас бессмертно. Искандер поставил один из самых верных диагнозов. Он любил повторять: «Религиозное крепко, но национальное крепче. Крепки убеждения, но крепче любых убеждений родовая память».
В «Сандро» содержится страшноватое пророчество. Когда спадут все внешние идентичности: социальные, идейные, религиозные, какие хотите, ― останется вот это последнее, останется родственная связь. Та родственная связь, которую чувствует Григорий Мелехов, держа на руках сына. Это, кстати, любимая сцена Искандера во всей советской литературе, финал «Тихого Дона».
Не зря он повторял: «Нас сберегают с двух сторон и Дон Кихот, и тихий Дон». Это из его последнего стихотворения, это, может быть, великие слова. Потому что на самом деле род, дом ― это то, что остается, когда исчезает, отметается всё другое. И, может быть, это последнее, что нас спасёт. Архаика может быть преодолена, но это тот крюк, ― перефразируя, опять-таки, известное выражение, ― на котором всё удерживается.
Для Искандера трагедией была абхазская ситуация, трагедией была грузинская война. Трагедией, не побоюсь этого слова, был распад СССР, который он не любил, у него было на этот случай выражение «советская подлятина». Но внутри этой советской подлятины умудрялась существовать и выживать идея дома, большого дома как оплота семьи.
У него тоже была мысль, высказанная в «Сандро», что на идее дома могли бы помириться и архаисты, и новаторы, и почвенники, и западники, потому что дом ― это тот узел, в котором сходится всё. Если у человека есть дом, есть родня, есть отец и мать, у него есть и совесть, потому что это главные требования к нему. Но он не мог не понимать того, что эти родовые ценности с годами ведь смываются и стираются. Если мы хотим хоть какой-то объективности и хоть какого-то развития, если мы хотим христианства, в конце концов, то тот, кто не забудет отца и мать, в общем, плохой христианин.
И отсюда вытекает страшная, глубокая мысль «Сандро из Чегема» (она есть уже и в первом варианте романа) о том, что мир ― это, в общем, неудачный проект, потому что в нем нарушен баланс. Потому что человек обречен уходить от дома, а вместе с ним он теряет слишком многое. Человек обречен уходить от предков, от родины даже, а отрываясь от них, он теряет что-то, что заменить нечем. Может быть, теряет нравственный стержень. Вот эта идея Бога-неудачника заложена в «Сандро из Чегема», потому что Искандер не может простить, что исчезает Чегем.
Лучшее, что он написал, конечно, это финал фантастической, я думаю, просто небывалой главы 11, последней главы первого тома, которая называется «Тали ― чудо Чегема». Когда это было впервые напечатано, вот тогда всем стало ясно, с кем мы имеем дело в лице Искандера. Он незаметно вышел в классики. Был такой абхазский юморист, как замечательно сказал Резо Гигинеишвили, автор, наверно, и режиссер лучшего сегодня фильма ― «Заложники». Он сказал: «Грузина в Москве готовы воспринимать, если он немного идиот».
Но вот как раз Искандер невероятным каким-то образом умудрился после 1973 года сразу попасть в первые писатели России. Я думаю, после одной главы и даже больше того, после одного фрагмента. Просто это музыка, это невозможно читать иначе.
«Солнце уже довольно сильно припекало, и от папоротниковых зарослей поднимался тот особый запах разогретого папоротника, грустный дух сотворенья земли, дух неуверенности и легкого раскаяния.
В этот еще свежий зной, в этот тихий однообразный шелест папоротников словно так и видишь Творца, который, сотворив эту Землю с ее упрощенной растительностью и таким же упрощенным и потому, в конце концов, ошибочным, представлением о конечной судьбе ее будущих обитателей, так и видишь Творца, который пробирается по таким же папоротникам вон к тому зеленому холму, с которого он, надо полагать, надеется спланировать в мировое пространство.
Но есть что-то странное в походке Творца, да и к холму этому он почему-то не срезает прямо, а двигается как-то по касательной: то ли к холму, то ли мимо.
А-а, доходит до нас, это он пытается обмануть назревшую за его спиной догадку о его бегстве, боится, что вот-вот за его спиной прорвется вопль оставленного мира, недоработанного замысла:
— Как?! И это все?!
— Да нет, я еще пока не ухожу, — как бы говорит на этот случай его походка, — я еще внесу немало усовершенствований...
И вот он идет, улыбаясь рассеянной улыбкой неудачника, и крылья его вяло волочатся за его спиной. Кстати, рассеянная улыбка неудачника призвана именно рассеять у окружающих впечатление о его неудачах. Она говорит: „А стоит ли пристально присматриваться к моим неудачам? Давайте рассеем их, если хотите, даже внесем на карту в виде цепочки островов с общепринятыми масштабами: на 1000 подлецов один человек“.
И вот на эту рассеянную улыбку неудачника, как бы говорящую: „А стоит ли?“ ― мы, сослуживцы, друзья, соседи, прямо ему отвечаем: „Да, стоит“. Не такие мы дураки, чтобы дать неудачнику при помощи рассеянной улыбки смазать свою неудачу. Неудача близкого или далекого (но лучше все-таки близкого) ― это неисчерпаемый источник нашего оптимизма».
Кстати говоря, всякая удачная книга всегда содержит автоописание, и поэтому в предисловии к «Сандро» Искандер даже в самом полном его издании неизменно повторял: «Книга недоработана, я вернусь, я хочу дописать историю Тали, историю большого дома». Он её дописал в страшной повести «Софичка».
Но основной корпус романа оставляет нас именно с чувством пленительной неудачи, даже двух пленительных неудач ― неудача автора, который не может удержать этот мир, и неудача Бога, который создал в нем главное противоречие: родовое начало обречено, но без него жизнь бессмысленна. Это то ощущение, которое испытывает читатель «Саги о Форсайтах» перед лицом нового мира, в котором нет больше места Форсайтов, и «Семьи Тибо», и «Дела Артамоновых», и главным образом «Сандро из Чегема».
Чем можно утешаться? Утешаться можно тем, как было хорошо и больше никогда не будет. Наверно, это и есть то главное чувство, которое остается от жизни. И потому Искандер, наверно, создал самую горькую и самую точную книгу в том числе и о такой архаической цивилизации, как Россия.
Слово «неудача» вообще было для него любимым, и одно из его последних стихотворений, написанное уже лет в 85, звучало так:
Жизнь — неудачное лето.
Что же нам делать теперь?
Лучше не думать про это.
Скоро захлопнется дверь.
Впрочем, когда-то и где-то
Были любимы и мы.
А неудачное лето
Лучше удачной зимы.