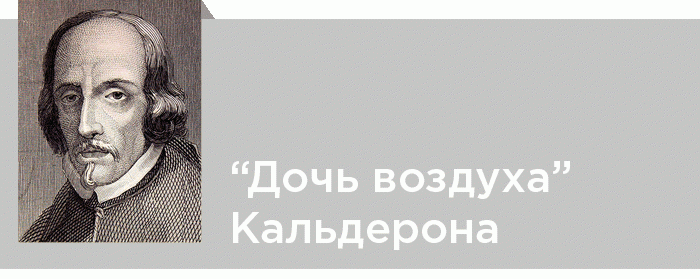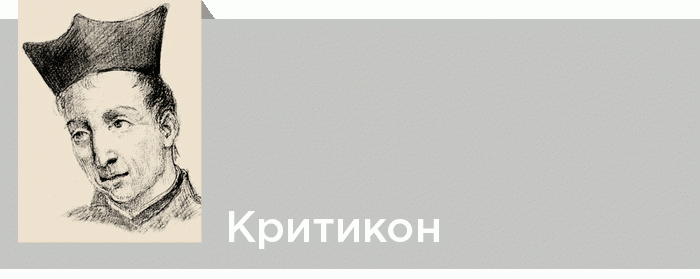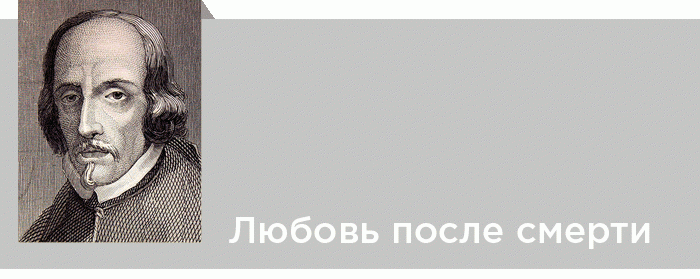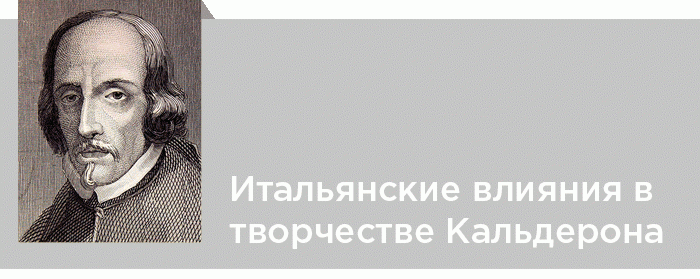Славянская тематика у Кальдерона и проблема Ренессанс – барокко в испанской литературе
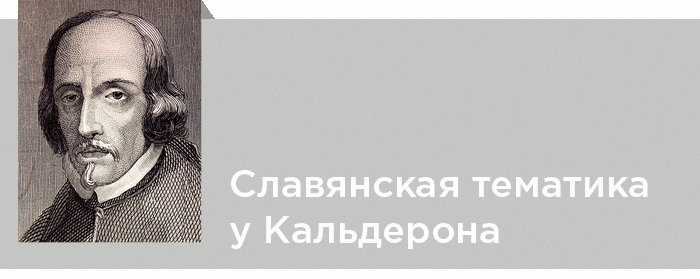
Н. И. Балашов
Подход к такому произведению как драма «Жизнь есть сон» с точки зрения его славянской тематики может показаться неоправданным сужением вопроса. Однако рассмотрение драмы Кальдерона в ряду испанских пьес XVII в. со славянскими сюжетами позволяет отчетливо уяснить некоторые фундаментальные аспекты знаменитого произведения, а значит, всего творчества поэта и проблемы барокко.
До сих пор вокруг драмы не утихают споры. В одних только работах 60-х годов существуют противоположные точки зрения. Американский испанист Хоакин Касальдуэро довел до предела религиозно-символическое толкование драмы. Ее содержание, согласно Касальдуэро, заключено в «общих местах христианского учения», «заранее нам известных». Суть произведения — по Касальдуэро, — в манере, в какой поэт это высказывает и воображает... в том, как он заставляет нас это пережить. Ученый уделяет драматургу (и писателям испанского барокко вообще) роль пересказчика контрреформационной догматики: «Испанское барокко связано не с интеллектом, а с чувством. Истина пребывает вне нас... Нам говорят, в чем истина, и нам незачем искать ее...». Точка зрения Касальдуэро, приближающая функцию искусства барокко к церковно-пропагандистскому заданию аутос, препятствует творческому исследованию драмы. Абстракции контрреформационно-догматической схемы преодолеваются в работе кембриджского профессора Эдуарда М. Уилсона, отказавшегося от подхода к драме с упрощенными мерками позднейших аутос на ее сюжет. Находя, что символичность образа Сехисмундо не должна искажать представления обо всей драме, Уилсон пишет, что опыт Сехисмундо «изображает пробуждение человека от чувственной к духовной жизни». Ученый подчеркивает значение второй сюжетной линии драмы — любви Сехисмундо к Росауре, так как по существу и согласно букве текста Кальдерона эта линия несовместима с упрощенно-символическим пониманием идеи «жизнь есть сон». В результате Э. Уилсон отмечает как некоторые связанные с представлениями эпохи устаревшие моменты в драме, так и ее гуманистический нравственный урок. Взгляды Э. Уилсона оказали воздействие на А. Сломена и У. Уитби. Э. Уилсон и его последователи, однако, пришли к ограничению контрреформационно-догматической концепции не в полемике с ее современными адептами, а отталкиваясь от представлений науки XIX в., отразившихся в юношеской работе Менендеса Пелайо (1881), у Артуро Фаринелли (1916) и др. Закономерность перехода от преимущественно религиозно-символической трактовки драмы «Жизнь есть сон» к пониманию того, что она дает «наглядный урок воспитания государя» кратко очерчена у Н. Б. Томашевского. Попытка объяснить историческую основу драмы Кальдерона содержится в статье Марии Стшалковой «Polska w „Zyciu snem“». Интересная работа, к которой мы еще должны будем обращаться, к сожалению, не учитывает опыта русских исследований, даже основополагающих трудов М. П. Алесеева об испанско-славянских связях.
С польской и русской тематикой связано восемь произведений Кальдерона. Это написанная к 1634 г. совместно с Антонио Коэльо (1611-1782) драма «Заблуждения природы и дары судьбы» («Yerros de naturaleza у aciertos de la fortuna», действие которой протекает в Польше и которую Л. Астрана Марин, Вацлав Черны, X. Блейберг считают непосредственной идейной предшественницей драмы «Жизнь есть сон»; героическая комедия «Порывы ненависти и любви» («Afectos de odio у amor») датируемая Г. У. Гильборном 1658 г., где действие развивается в России (en Rusia) и в Суэвии-Швеции (Suevia); тематически связанное с этим произведением ауто «Свидетельство веры» (La protestación de la Pe», основательно датируемое А. Вальбуэна-Пратом 1656 г. и где возникает речь о Швеции, Готии, Московии, России и Норвегии; наконец, с польско-русским циклом Кальдерона в какой-то мере связаны еще два его аутос, одноименных с драмой «Жизнь есть сон» и зависимых по содержанию от этой драмы, хотя действие в них абстрагировано от той или иной страны и соотнесено с Человеком вообще. В поздней новеллистической комедии «Граф Луканор» («El Conde Lucanor», издана в 1661 г.) среди женихов героини важную роль играет воинственный юноша Astolfo, Príncipe de Rusia, «диковинно одетый a lo polaco» И, а в последней пьесе Кальдерона «Леонидо и Марфиса» действует «князь Адольфо Российский».
События драмы «Жизнь есть сон» происходят в Польше, и действующими лицами являются поляки и московиты, но связь сюжета с реальными деятелями польской и русской истории у Кальдерона менее определенна, чем в «славянских» драмах Лоне, Рохаса, Бельмонте, Морето, Мартинеса и автора «Русского двойника». «Однако эта связь все-таки может быть установлена, и при сравнительно слабой формальной связи еще поразительнее выступают моменты внутреннего родства, ставящего «Жизнь есть сон» в ряд «славянских драм»» Генетическая преемственность между «Новыми деяниями Великого князя Московского» и драмой «Жизнь есть сон» проявилась не в том, что Кальдерон буквально продолжал Лопе или стремился столь же полно изобразить события русской и польской истории. Младший поэт, перед которым стояли иные цели, воспринял и по-своему воплотил вольный дух драмы Лопе как художник — в единстве со славянским материалом, давшим простор для такого воплощения.
Следует начать с вопроса о формальной связи драмы Кальдерона с событиями и именами славянской истории. Уже первый шаг в этом направлении может способствовать уточнению датировки драмы. Известно, что она опубликована в 1636 г. и упоминалась в одной драме, написанной вскоре после смерти Лопе (т. е. после 21 авг. 1635 г.) и ориентировочно датируется 1635 г. Г. У. Гильборнна основе подсчета процентного соотношения версификационных форм настаивал на более ранней дате — ок. 1631-1632 гг. С этим трудно согласиться не только потому, что некоторые аспекты упоминавшейся драмы «Заблуждения природы», разрешенной к постановке 4 мая 1634 г., по-видимому, предваряют «Жизнь есть сон». Мало вероятно, что драма была написана во время царствования союзника Габсбургов польского короля Сигизмунда III Вазы (то есть до 30 апреля 1632 г.), если учесть, что именем Сехисмундо назван главный герой — принц, а затем король Польши, — претерпевающий фантастические и не совместимые с придворными понятиями приключения. Мадридскому двору приходилось иметь неприятности по поводу театральных вольностей. В 1601 г. по представлению французского посла; пожаловавшегося, что «в одной комедии задеты интересы Франции», был выслан из Мадрида постановщик Николас де Лoc Риос. Донесение флорентинского посла Серрано от 4 марта 1634 г. показывает, какому контролю подвергались со стороны Совета Кастилии драмы, «где шла речь о ныне здравствующих государях, дабы никто из них не обиделся, а события не трактовались бы в поэтическом духе, слишком отдаленно от действительности...».
Причудливо звучащее имя князя Московского Астольфо могло иметь подобно имени Сехисмундо историческую основу в редком у испанцев имени принца: Алехо (т. е. Алексея Михайловича, будущего царя, родившегося в 1629 г.).
Имя Басилио по почину Лопе (полагавшего, что из двух имен Грозного — Хуан Басилио — второе является основным), стало традиционным для драм о Руси, и, в частности, именно в том варианте — gran Basilio, в котором оно встречается у Кальдерона. Именем Басилио или Хуан Басилио в «Преследуемом государе» обозначался не только Иван Грозный, но Федор Иоаннович, выступающий в ней как принц-философ «гамлетовского склада», оттесняемый от власти и получающий ее вновь, так же как у Кальдерона, из рук победоносного и благородного сына.
Имя Басилио, ситуация, в которую попадает он в драме, его характер Странного царя-ученого — дают ключ к пониманию соотношения драмы «Жизнь есть сон» и фактов славянской истории. В гуманистической интерпретации Лопе, устранившего в «Великом князе Московском» момент религиозной розни, польско-русские отношения начала XVII в. предстали в самом мирном свете. Кальдерон, проецируя, на них восточные предания, составлявшие основу фабулы его драмы, и не будучи столь точно, как Лопе, осведомлен в этих отношениях, подвергся влиянию антиконтрреформационного духа лопевской драмы, и для него отошел на второй план вместе с вопросом, кто тут католики, а кто православные, вопрос, где тут Полония, а где Московия. Лопе подготовил почву для «ошибки» Кальдерона, также отрешившегося от противопоставления католиков и православных, в результате чего оказалось возможной перестановка местами поляков и русских в драмах «Жизнь есть сон» и «Порывы ненависти и любви», появление русского, одетого a lo polaco в «Графе Луканоре». Если мысленно исправить эту «ошибку» Кальдерона, славянский сюжет драмы «Жизнь есть сон» станет понятен, и она впишется в ряд испанских драм о Руси. Такой акт не произволен, и его обоснованность подтверждается многими критериями.
Перестановка Руси и Польши у Кальдерона не единична, и поэт в ней последователен, пока вопрос о вероисповедании не ставился с такой четкостью, какая требовалась в аутос. При всей близости содержания ауто «Свидетельство веры» к «Порывам ненависти и любви», в ауто, к которому как к церковному жанру прилагались еще более строгие цензурные требования, не поляки, а русские упомянуты в кругу некатолических наций. В «Порывах ненависти и любви» совершенно очевидно, что под Суэвией (вм. Suecia) имеется в виду Швеция, а в образе воинственной и мстительной королевы Кристерны, выступающей как поборник женской эмансипации, изображена Кристина Шведская (1626 1689; царствовала с 1632 по 1654). Нелегко согласиться с А. Вальбуэной-Пратом, полагающим, что comedia palaciega «Порывы ненависти и любви» написана до ауто «Свидетельство веры». Содержат стр. 1752 подготовлен сыном Вальбуэны-Прата, А. Вальбуэной-Брионес, указание, что комедия была напечатана в 1644 г., нам кажется опечаткой (вместо 1664 г.). Ведь до обращения в католичество (1654) Кристина была одним из опаснейших противников Испании, самым красочным персонажем среди протестантских монархов того времени и положительное изображение ее героических безумств испанцем сомнительно. Более вероятным было бы отнесение комедии к концу 1650-х гг., когда Кристина уже приняла католичество, а характер Яна Казимира (1609-1672; царствовал с 1648 по 1668) проявился достаточно. И в этом случае удивительна смелость Кальдерона, преодолевшего конфессиональную исключительность и с полным сочувствием изобразившего народы, о которых заведомо знал, что они образуют confederada alianza — против католицизма. Под сложными «русско-суэвскими» конфликтами в драме должно понимать не шведско-русскую войну, закончившуюся в 1617 г., и не бесплодную войну Карла X Густава против Алексея в 1650-1660 гг., а стоявшие в центре общеевропейской политики непрестанные конфликты Швеции и Польши, подорвавшие при Яне Казимире значение Польши как великой державы. Недаром Кальдерон именует главного антагониста Кристерны «великого князя Российского» Казимиром (Casimiro gran duque de Rusia). Запутанные личные взаимоотношения и взаимные претензии Касимиро и Кристерны передают, в соответствии с законами поэтического вымысла, сложные претензии Яна Казимира и Кристины, троюродных брата и сестры. Владислав IV и Ян Казимир, представители старшей линии Васа, считали себя, а не Кристину, законными наследниками шведского престола; после отречения Кристины, в связи с пресечением прямой линии, Васа, эти «права» еще укрепились; в свою очередь, Кристина, по отречении Яна Казимира, выдвинула свою кандидатуру на польский трон. Пусть, исторический Ян Казимеж не совершал именно тех рыцарственных безумств, которые изображены в пьесе, свойственная ему смесь авантюризма, безудержность в страстях, личной отваги и неудачливости, живо переданы Кальдероном.
Ясно, что Касимиро в «Порывах...» и по характеру и по имени (Казимеж!) такой же «князь российский», как Басилио в «Жизнь есть сон» и по характеру и по имени (Василий!) — «король польский»: в драмах Кальдерона Польша и Русь обменялись местами.
Эта подстановка восходит к первой польско-русской драме Кальдерона, к «Заблуждениям природы». В первом акте, написанном Коэльо самостоятельно, под Польшей еще подразумевается Польша, а со второго акта начинается кальдероновская субрепция. У Коэльо не заметно влияния «Великого князя Московского». Пользуясь другими и эмпирически, более точными источниками, он пишет о бесконечной войне Польши против Московии и о стремлении короля (Сигизмунда II Августа? Стефана Батория?) добиться победы. (Мatі1dе: Mi padre, que con Moscovia // tuvo guerra mucho tiempo, // por acabor de una vez //, tan prolija guerra, él mesmo // partió...
La guerra // de Moscovia, это мотив, не знакомый драмам лопевского цикла, где поляки не воюют с московитами, а лишь приходят друг другу на помощь по призыву законного правителя. Коэльо, видимо, исходя из отзвуков славянских фольклорных рассказов о хвастливом шляхтиче, создал, образ воина-грасиосо, Табако. Увидев, что московиты без устали поражают его соотечественников, Табако, по его словам, пугнул и оглушил противника табачным дымом и единолично добился победы: mirando, que, sin-trabajo // nos mataban a destajo // los señores moscovitos //... tan grande matanza // hice in ellos yo, Tabaco // con sólo el olor...
Коэльо слыхал и о выборности королей в Польше: Que en Polonia no se llama // rey por público derecho // el que ne se ha coronado //, aunque haya heredado el reino. Изображая путаницу с престолонаследием и претензиями женщин на власть, Коэльо примерно воспроизвел неразбериху, начавшуюся после бегства. Генриха Валуа, когда шляхта в жарких спорах избирала королями сначала мужа одной сестры последнего Ягеллона, Анны, — Стефана Батория, а затем сына другой сестры, Екатерины, — Сигизмунда III.
Кальдерон во втором акте свел на нет все эти прямые нелопевские реминесценции польских дел и перенес на Польшу заимствованные у Лопе мотивы легендарной русской истории конца XVI — начала XVII вв.: предательское нападение на наследника; временный захват власти узурпатором; обреченность узурпатора из-за народного недовольства и поскольку верный наставник лишь притворился, что согласен на цареубийство, а на самом деле спас наследника; всеобщее восстание народа, grande revolución, по определению Лопе, которое приводит наследника, прошедшего в испытаниях гуманистическое (или у Кальдерона: религиозно-нравственное) воспитание, к власти.
Верный старик-наставник неизменно возникает во всех драмах цикла: названный у Лопе Ламберто, он в «Заблуждениях» именуется Филипо, в драме «Жизнь есть сон» ему, примерно, соответствует Клотальдо, в «Преследуемом Государе» он вновь обретает имя Филипо, а в «Русском двойнике» появляется под именем Деметрио.
Страдающий и перевоспитуемый наследник это соответственно: Деметрио — Полидоро — Сехисмундо — Деметрио — Людовик.
Роль узурпатора Бориса Одуно в кальдероновской части «Заблуждений...» воспринимает Принцесса Матильда (лютое властолюбие, коварство, организация убийства наследника исподтишка, произвол, ссылка советников); это единственная из основных ролей цикла, которая отсутствует в драме «Жизнь есть сон», где она заменена абстрактной силой рокового предсказания. Узурпаторы в самом неприглядном и весьма энергическом обличии возрождаются в образах Хакобо Маурисио в «Преследуемом Государе» и Хуана Хакобо в «Русском двойнике».
Сказанное позволяет рассматривать драму «Жизнь есть сон» в ряду испанских драм о Руси. Дополнительно должен быть изучен вопрос о связи пьесы с традицией Сервантеса — Суареса де Мендосы.
«Жизнь есть сон» в той мере, в какой это произведение является исторической драмой, опирается не только на сведения, содержавшиеся В «Великом князе Московском», но оно отразило то расплывчато, то отчетливо и более поздние события. Важно, что эти новые моменты перешли в драму «Преследуемый Государь — Несчастливый Хуан Басилио». IV есть Бельмонте, Морето и особенно автор третьей хорнады, Мартинес, использовали не только фабулу Лопе, но и фабулу Кальдерона, корригируя однако последнего в смысле возвращения на свои места польских и русских событий.
/Именно в кальдероновском Басилио произошла контаминация судеб и характеров царя Федора и царя Василия IV, и сложился тип царя-философа, с интересом к науке, с душевными колебаниями и тревогами о престолонаследии, постепенно закаляющегося под влиянием горького опыта и восстанавливаемого сыном на престоле, тот тип, который воплощен тремя авторами в образе несчастливого Хуана Басилио.
Драма Кальдерона послужила передаточным звеном, с помощью которого из реальной истории Руси 1605-1613 гг. перешел к авторам «Преследуемого Государя» мотив смуты и восстаний, в результате которых приходят к власти не их зачинщики, а третье, соглашающееся на компромисс лицо.
Через кальдероновского Астольфо, прибывающего из соседнего королевства в столицу Басилио и едва не закрепляющегося там на престоле, идет путь от исторического королевича Владислава к Ладислао трех авторов.
Даже для заглавия Кальдерон мог послужить звеном между Лопе, у которого речь шла о преследуемом наследнике, и тремя авторами, у которых заглавие говорит о преследуемом отце: El Principe perseguido — Infeliz Juan Basilio. Прототип этого заглавия содержится в словах бегущего Басилио у Кальдерона: Hay más infelice rey! Hay padre más perseguido!
Установление места драмы «Жизнь есть сон» в ряду испанских «славянских» драм позволяет точнее, чем если сопоставлять обработку Кальдерона с восточными сказаниями, к которым восходит общая канва сюжета, выявить ее специфические особенности как драмы барокко в сравнении с ренессансным лопевским «Великим князем Московским».
Первое, что бросается в глаза, если принять во внимание параллелизм путей Деметрио и Сехисмундо, через испытания идущих к тому, чтобы стать идеальными по понятиям тех времен и выражающими национальные интересы правителями, это принципиально различные концепции опыта и воспитания.
Для драмы Лопе еще более определенно, чем в «Генрихе IV» Шекспира, опыт состоит в приобщении к гуще народной жизни. Источник побед Деметрио в том, что он выступает как «царь-оборванец» (roto emperador). Решительность, с которой Лопе выразил мысль: «Ты станешь императором, // побывав монахом, жнецом // и подручным на кухне», смутила уже переписчика, сделавшего здесь характерную «смягчающую ошибку».
В драме Кальдерона, хотя цель воспитания в общем та же, само понятие опыта спиритуализировано и сублимировано: государственная мудрость и добродетель достигается не только в общественной практике, но путь к ним идет через открывающуюся в страдании мимолетность жизни и зыбкость сиюминутных земных ценностей.
Сопоставление параллельных по общему ходу действия и генетически родственных драм дает один из наиболее четких возможных критериев различенное принципов ренессанса и барокко. По драме Кальдерона видно, что это сомнение в земных ценностях и тяга к сверхчувственному объясняются закономерной в условиях XVII в. утратой уверенности в исторической перспективе и ощущением хаотического неустройства мира, обозначаемого характерным для испанского барокко понятием: confusión, Именно ощущение трагического неустройства жизни, проходящее через всю пьесу, начиная с ее первых стихов, делает понятным то упорство, с которым в дальнейшем проводится идея «жизнь есть сон». Это же трагическое ощущение объясняет обостренное сознание «вины рождения» — греховности человека, перешедшее в оба аутос Кальдерона на тему драмы. Однако философия барокко у Кальдерона, воспитывающая готовность мужественно встретить тяжелую судьбу, не обязательно предполагает покорность провидению. С начала драмы, наряду с темой неустройства мира, вины рождения, возникает тема бунта, энергически высказанная в монологе заключенного отцом в башню Сехисмундо («... А с духом более обширным, // Свободы меньше нужно мне?». Попытки трактовать с помощью символики позднейших аутос заточение Сехисмундо как необходимую ступень на пути человека к благодати опровергаются заключительной сценой и первым ауто. Сехисмундо резонно упрекает отца в нелепости воспитательного заточения: «Один лишь этот образ жизни, // Одно лишь это воспитание // Способны были бы в мой нрав//Жестокие внедрить привычки...». Кроме того, если просто отождествить Сехисмундо с Человеком вообще (El Hombre), а короля Басилио с Логосом (El Verbo) из ауто, как поступает, например, А. Вальбуэна-Прат, то придется принять невозможную посылку, будто Кальдерон трактовал Искупление (Redemptio) как обличение Логоса и мятеж против него.
Лопевская grande revolución, конечно, не принимала у Кальдерона вида такого сверхбунтарства, но она в трояком преломлении присутствует в драме.
Первый аспект, это — изображение народного восстания. Начиная с «Великого князя Московского», восстание непременный компонент драм русско-польского цикла. Победоносное восстание вслед за Лопе ввели в свои драмы Коэльо, Кальдерон, Рохас, Бельмонте, Морето, Мартинес, автор «Русского двойника», во все, кроме героической комедии «Порывы ненависти и любви». Пространнее всего воплощена эта тема в драме «Жизнь есть сон». Утверждение X. Касальдуэро, будто сцены восстания, это — чисто символическое изображение разгула, низких страстей, не может быть принято. Как бы то ни было, именно в ходе восстания, которому посвящен третий акт, разрешаются духовные и политические проблемы драмы. К концу второй хорнады Сехисмундо уже на девять десятых совладал со своими «низкими инстинктами» (окончательно он преодолеет их как раз во время восстания — в эпизодах с Клотальдо и Росаурой). Сехисмундо уже произнес великий монолог на тему «жизнь есть сон», этот барокко-противовес гамлетовскому «быть или не быть». Но «перевоспитание» принца осталось втуне, ибо Басилио и Клотальдо возвратили его в темницу и решили передать власть чужеземному принцу, пусть дружественному, но все-таки пришедшему с войсками (salen Astolfo у soldados...). Народное восстание ставит умудренного Сехисмундо, постигшего, что долг правителя — творить добро (obrar bien es lo que importa, III, 4) на место иноземца Астольфо, не прошедшего нравственной закалки, и освобождает страну от угрозы чужеземного владычества. Кальдерон верно изображает народные движения XVI-XVII в., сочетавшие национально-освободительные и социальные цели. Все это высказано в монологе Первого солдата (III, 3). В то время, как Басилио созвал сейм или думу (juntó su corte), дабы лишить Сехисмундо прав и передать власть иноземному князю, простой народ (el vulgo), узнав о законном наследнике (rey natural), «не хочет, чтобы ийоземец пришел им править». Он восстал и освободил Сехисмундо, чтобы тот с помощью вооруженного народа (... asistido // de sus armas) вырвал бы скипетр у тирана. С каждым стихом растет пафос, версификационно подчеркнутый патетическим употреблением слова свобода, растет социальная определенность изображения: Ejército numeroso // De bandidos у plebeyos // Te aclama... la libertad // Te espera, oye sus acentos. Три сцены (III, 5-7) посвящены развитию образа разбушевавшегося восстания.
Но победивший Сехисмундо (подобно Карлу VII, равнодушно оставившему Иоанну в руках палачей, или Генриху V, переставшему узнавать прежних друзей из веселого фальстафовского мира), в соответствии с логикой абсолютизма, наградил зачинщика мятежа заключением в ту же башню, из которой вышел сам.
В пределах исторически возможного в эпоху абсолютизма Кальдерон изобразил победу справедливости. Сехисмундо начинает правление с пониманием долга короля.
В драме показана поляризация лозунгов. Войска не провозглашают, одни — да здравствует Басилио, другие — Сехисмундо, но: voces 'de unos — Viva nuestro invicto Rey! Voces de otros: Viva nuestra libertad! (III, 12). Династические и даже национальные вопросы отошли на второй план, началась гражданская война с противоположными призывами: «Да здравствует король!», «Да здравствует свобода!».
Восстания в драмах Кальдерона не абстракция. Иногда поэт ставит вопрос даже об экономической основе революции. В исторической драме «La cisma de Inglaterra» («Английская схизма») Генрих VIII говорит о невозможности контрреформы в Англии, точно определяя силы, готовые пойти на восстание во имя защиты свободы и приобретенных благ: «...Я захватил у церкви несметные // богатства и теперь возмещение невозможно. // Если я отниму у знати доходы, а тех, кто стал // свободными, верну в зависимое состояние, я заставлю их провозгласить // свободу».
Второй аспект, в котором гуманистическая проблематика проявляется в драме «Жизнь есть сон», связана с тем, что поэт довел до опасного накала идею «свободы воли» (libré albedrío), сблизив ее с проблемой «свободы совести». Доктрина «свободы воли» была по необходимости принята католической церковью после долгого спора сторонников иезуита Луиса де Молина (1535-1600) против последователей доминиканца Доминго Баньеса (1528-1604). В своем трактате «Concordia liberi arbitrii cum gratiae donis... (1584) Молина объяснил, как потенциальную достаточную благодать (gratia sufficiens) человек по доброй воле может обратить в совершающуюся над ним благодать (gratia efficftns). Однако, поскольку единственно оправданным действием свободной воли объявлялось достижение благодати, Молина в форме свободы воли проповедовал «добровольное» подчинение определенному вероисповеданию. Сервантес, Лопе де Вега, Тирсо де Молина, Кальдерон уловили другую сторону положения о «свободе воли», сближавшую его с антиконтрреформационной идеей «свободы совести» (libertad de conciencia). Понимание «свободы воли» как права на принятие решений, не согласующихся с церковным догматизмом и официально-католической нетерпимостью, встречается в драме Кальдерона «Поклонение кресту» (цензурное разрешение от 27 октября 1633 г., по Г. Гильборну создана около 1633). Одна из самых патетических сцен этой духовной драмы построена как защитительная речь в пользу внутренней свободы против насильственного пострижения в монахини. Хулия, несущая кару за грехи отца и не понимающая своих запутанных судеб, спорит с отцом. Деспот; убивший по пустому подозрению и вопреки знамению неба беременную жену, хочет насильно («... пусть буду прав я иль неправ...», I, 7) отдать дочь в монастырь и готов как злодей Лудовико из «Черта-проповедника» вторично умертвить спасенное чудом дитя. В споре понятие libre albedrío расширяется до понятия libertad sa, отстаиваемого Хулией именно как свобода убеждений. Отец властен над ее жизнью, но не над свободой (...«pero no en 1а libertad…»). Понятие свободы настойчиво повторяется третий и четвертый раз, и сцена образует некий трагический парафраз гуманистического кредо Сервантеса: «Свобода, Санчо, есть одна из самых драгоценных щедрот, которые небо изливает на людей...».
В драме «Жизнь есть сон» идея внутренней свободы получает развитие. Басилио в тех же выражениях, что и Хулия, говорит о невозможности forzar el albedrío (І, 6). Сехисмундо обвиняет отца — «tirano de mi albedrío...», что тот отнял у него свободу (libertad, II, 6), а в своем программном монологе, не отождествляя libre albedrío и libertad, ставит признание первого в прямую связь с требованием второй: ¿ у yo con más albeclrío, // tengo menos libertad? С этой постоянной заботой о внутренней свободе в драме согласуется унаследованная от «Великого князя Московского» конфессиональная терпимость.
В драме «Жизнь есть сон» нет никаких примет, где католические, где православные народы. О предмете и характере культа говорится с меньшей, чем, например, в «Дон Кихоте» степенью конкретности — как если бы речь шла о некоей философской религии, предшественнице концепций XVIII в. Подобно тому как Лопе в «Великом князе Московском» отказался от антиправославного пафоса иезуитов Поссевино и Москеры, так Кальдерон даже в драме, специально посвященной английской схизме, и основанной на контрреформационном трактате иезуита Педро де Рибаденейры (Cisma de Inglaterra, 1588), соблюдал удивительную веротерпимость. Трудно поверить, но в хронике Шекспира (и Флетчера) на ту же тему, в «Генрихе VIII», линия конфессиональных споров прочерчена резче, нежели у католика Кальдерона. Английские поэты упоминают и о ревностном лютеранстве Анны Болейн (a spleény Lutheran) и о заядлой ереси Кранмера: a most arch here- tic...), и о последствиях ереси в Германии. У Кальдерона ничего подобного нет. Об Анне Болейе однажды ее возлюбленный высказывает предположение, что она втайне лютеранка... (...pienso que es en secreto luterana). Лишь в заключительной сцене, «противостоящей» Флетчерову апофеозу англиканства (V, 5), принцесса Мария (Тюдор) говорит, и то с точки зрения формы, о религиозных спорах. В свете сопоставительного анализа выясняется, что даже в философски-религиозных драмах, а подчас и в таких специфических вещах, как аутос, Кальдерон не выступал выразителем контрреформационного духа, но по-своему продолжал традиции испанского гуманизма. Из аутос Кальдерона наиболее перспективными для исследования в таком плане представляются: «На великом театре мира» («El gran teatro del mundo», по А. Вальбуэна-Прат: 1633-1635; по Г. Гильборну: 1640-1645), «К Господу блага государственного ради («A Dios por razón de Estado»; соответственно: 1650-1660? и около 1650), «Ни мгновения без чуда» («No hay instante sin milagro», согласно обоим 1672).
Существует еще третий, в конечном счете, также антиконтрреформационный аспект, в котором идея свободы выступает в ключевой драме испанского барокко. Кальдерон не распространяет положение «жизнь есть сон» на одну из важнейших экзистенциальных сфер — на любовь, направляя в этом плане драму барокко на путь, ведущий от Возрождения к Просвещению. Любовь в Сехисмундо пробудила Росаура. Страсть у полудикого, впервые вырвавшегося из заточения юноши выражалась в необузданном желании (loco deseo). Препятствия возбуждают у Сехисмундо свойственную людям позднего Ренессанса и барокко жажду «преодолеть невозможность» (...soy muy inclinado // A vencer lo imposible). Эта понятно земная страсть нарушает идею трансцендентальности опыта. Вновь «пробудившийся» в темнице Сехисмундо отрекается от всего, что делал «во сне». От всего — кроме любви: Sólo a una mujer amaba... // Que fue verdad, creo yo, // En que todó se acabó, // Y esto sólo no sé acaba.
Кальдерон, а затем и его герой, понимают идею «жизнь есть сон» не буквально, а как рожденный горьким неустройством жизни символ, помогающий наиболее человечным образом подойти к практическим вопросам жизни.
Здесь открывается еще одна сторона драмы барокко. Постигнув под влиянием любви, что жизнь не есть действительно сон, Сехисмундо заключил, что подобие жизни сну обязывает преодолевать личные интересы ради гармонии целого (вся заключительная сцена, особенно решение насчет судьбы Росауры, пример тому). В драме обнаруживается диалектическая родственность барокко другому, противоположному ему направлению искусства XVII в. — классицизму. И там и здесь все большее значение приобретает проблема человека, считающегося с общими интересами, проблема общественного человека. Одобрительное восклицание Росауры под занавес — ¡Que discreto у que prudente! (Как он умен и осторожен!) — отходит от представлений эпохи Возрождения; это, скорее, требования и язык героинь Расина, чем Шекспира.
Слово «prudente» имело и свою испанскую специфику. На такое прозвание без оснований претендовал как раз тот деятель, который своей фанатической нетерпимостью расшатал испанское могущество и авторитет католицизма — Felipe II el Prudente. По Кальдерону, discreto у prudente предполагало отсутствовавший у Филиппа II трезвый подход к необратимым изменениям, происшедшим со времен Реформации, и разумную терпимость. Поучительно, что в последней сцене «Английской схизмы», когда папистские речи принцессы Марии сделали невозможной присягу ей со стороны парламента. Король приказывает Марии молчать и хотя бы скрывать рвение. Идея компромисса повторяется как вывод из пьесы и завещание католическим политикам: «Ella (Мария) es cuerda, у sabra bien // moderarse, como cuerda...».
Хотя своеобразие принципов, ренессансного и барочного, достаточно выражено в драмах «Великий князь Московский» и «Жизнь есть сон», конкретное сопоставление показывает, что эта противоположность вовсе не адекватна противоположности Возрождение — Контрреформация. Кальдерон в еще более тяжелых условиях, чем те, которые существовали тридцать лет назад, продолжал Лопе де Вегу, и иными путями, применительно к трагически усложнившейся эпохе, в идее стремился к близкой к лопевской цели. В важнейших аспектах, как было видно, его драма чуть ли не столь же антиконтрреформационна, как «Великий князь Московский».
Дополнительное сопоставление драмы «Жизнь есть сон» с другим произведением поэта о некатолической стране, показывает, что Кальдерон стремился к терпимости и универсализму как в драме, действие которой протекало на географическом рубеже католического и православного мира, так и в драме, действие которой проходило на историческом рубеже католицизма и англиканства. Поэт дал обеим драмам почти одинаковый финал. В одной, где далекая Русь (формально: Польша) открывала больший простор для фантазии, Кальдерон представил свой призыв воплощенным в жизнь; другой — где факты тесно обступали свободу воображения — поэт представил его только призывом: Ella es cuerda, у sabra bien // moderarse como cuerda. Будто чтобы подчеркнуть толерантность рационализма, заключенного в этих призывах, он вкладывает один из них в уста грешной польки (формально: православной московитки) Росауры, а вдохновителем второго делает отца Анны, Томаса Болейна, изображавшегося в контрреформационной литературе еретиком и бесчестнейшим человеком.
Стоический призыв к разуму и универсальности, отчетливый в двух программных вещах Кальдерона, если их анализировать в связи с национальной и конфессиональной средой, где протекает их действие, и в сопоставлении с традицией, с которой они связаны, показывает, что кальдероновское Марокко 1630-х годов входило в синтез, именуемый «культурой XVII века» не как транспозиция контрреформационных идей, но как течение, развивавшее в новых условиях ренессансный гуманизм и в своих исканиях иногда парадоксально родственное тенденциям картезианства и классицизма.
Анализ с точки зрения сравнительного литературоведения закономерно ведет к пересмотру религиозно-догматической трактовки проблемных драм поэтов испанского Возрождения и барокко.
Образцовая модель такого рода дана в статье Р. Менендеса Пидаля о духовной драме Тирсо де Молина «Осужденный за недостаток веры». Проследив историю преданий, из которых исходил Тирсо, ученый показывает ошибку критиков, которые видели в «Осужденном» всего-навсего программное произведение и подходили к драме исключительно с теологической точки зрения, не находя в ней ничего, кроме аргументации против протестантизма. Менендес Пидаль, далекий от мысли, будто Тирсо был «вольнодумцем, в сутане», делает, однако, важный для таких произведений как «Жизнь есть сон» вывод, что «нельзя подходить к драме только в ее догматическом аспекте и что она заключает общую человеческую ценность, не зависимую от католицизма».
Л-ра: Известия АН СССР. Сер.: литература и язык. – 1967. – Т. 26. – Вып. 3. – С. 227-240.
Критика