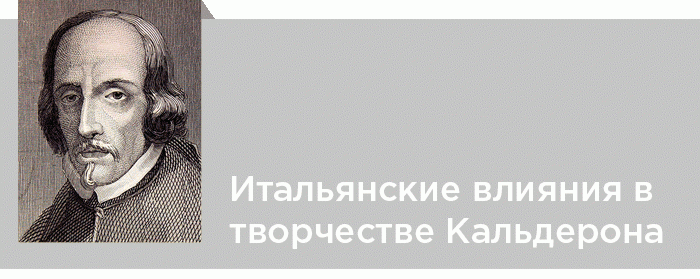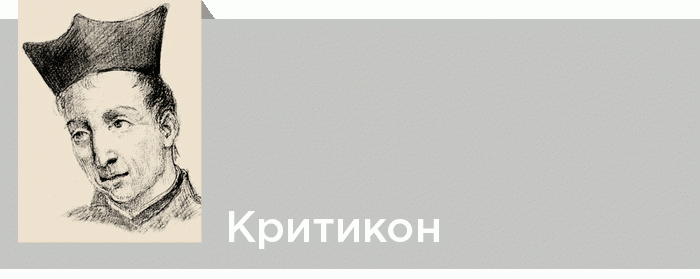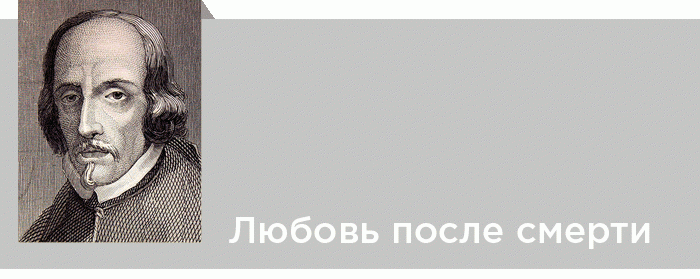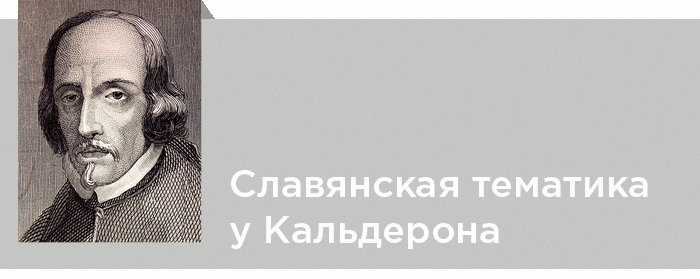«Дочь воздуха» в контексте творчества Кальдерона 1650-1670-х гг.
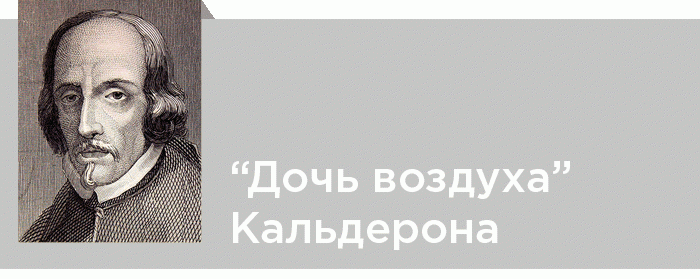
С. И. Пискунова
XVII век был той эпохой в истории испанской (да и не только испанской) культуры, когда драма, еще не став текстом, предназначенным для разыгрывания на сцене, оставалась зрелищем, действом, предназначенным прежде всего для глаз. Естественно, искусствами, к которым театр барокко ощущал свою наибольшую близость, были живопись, скульптура, архитектура (они же в свою очередь становились все более и более театрализованными). Не случайно поэтому в пьесах испанских драматургов XVII в. в роли полноправного действующего лица часто выступает живописное или скульптурное изображение. Особое значение в сюжетном и концептуальном строе барочной драмы приобретает организация сценического пространства. Оно делится на «верх» и «низ» — черта, унаследованная от средневекового театра, имеет «глубину» (dentro) и просцениум, выходя на который герои произносят монологи, превращающиеся тем самым в диалоги со зрительным залом. При помощи своего ближайшего «соавтора» — театрального художника — драматург XVII в. обращается с пространством столь же активно и целенаправленно, как архитектор, творящий свою пространственную среду. Ренессансная метафора «Бог-художник» трансформировалась в театре барокко в «Бог-архитектор и режиссер»: автор-демиург из ауто Кальдерона «Великий театр мира» именует свое творение «Hermosa compostura de esa varia inferior arquitectura» («Прекрасное сооружение этой разнообразной архитектуры нижнего мира»).
Стремление искусств эпохи к зрелищности вовсе не означало, что художники барокко видели в зрении наиболее надежный источник сведений о действительности. В основе мироощущения эпохи лежит представление об иллюзорности, видимости бытия. Эту иллюзорность воссоздает спектакль, однако иллюзорность жизни не обыденной, а праздничной. Театр XVII в. был частью празднества, в которое люди упорно стремились превратить жизнь. Культура барокко — и в этом ее коренное отличие от культуры Возрождения (гуманисты Ренессанса творили свои мифы, ориентируясь на индивида) — создавала искусство коллективных иллюзий, утверждая с его помощью нетленность потусторонних, вечных ценностей.
Представление об иллюзорности бытия связано с представлением о погруженности всего сущего в поток быстротекущего времени: именно время развоплощает, уничтожает, превращает в прах все некогда возникшее и сотворенное. Поэтому театр барокко — театр подвижных, изменчивых сущностей: действие в нем развивается стремительно, герои то и дело меняют обличия, переходят из одного состояния в другое, портреты выходят из своих рам, статуи оживают (Командор в «Севильском озорнике» Тирсо де Молины, Статуя, изваянная Пигмалионом, в феерии Кальдерона «Зверь, молния и камень», творение Прометея в пьесе «Статуя Прометея»). Поэтому же театр XVII в. все охотнее идет на союз с самым «временным» искусством — музыкой. Именно тогда рождаются опера, балет, а в Испании — zarzuela — драматическое или комическое действо с элементами оперы и балета. Испанский театр Золотого века пронизан тягой к всеохватывающему зрелищу. Творческий путь Педро Кальдерона наглядно воплощает эту тенденцию развития испанской драмы.
Два периода — два десятилетия — жизни Кальдерона отмечены наивысшим творческим взлетом: 1630-е и 1650-е гг. Однако если достижения драматурга 1630-х гг. достаточно известны и признаны, то поздняя его творческая деятельность все еще продолжает оставаться в тени. Существует ошибочное мнение, что после принятия в 1651 г. священнического сана Кальдерон вообще «перестал писать светские пьесы, если не считать пышнопостановочных действ, рассчитанных на дворцовые спектакли».4 «Не считать» придется такие шедевры, как драму чести «Живописец своего бесчестия» («El pintor de su deshonra», 1650), философскую драму «В этой жизни все правда и все ложь» («En esta vida todo es verdad y todo mentira», 1658-1659?), лирико-мифологическую пастораль «Эхо и нарцисс» («Eco у Narciso», 1661), уже упоминавшуюся мифологическую драму «Статуя Прометея», а также двухчастную трагикомедию «Дочь воздуха» («La hija del aire»), привлекавшую в свое время внимание Гёте, оцененную испанским критиком Хосе Бергамином как «кульминационный момент развития всего... театра XVII века».
Предметом научного анализа «Дочь воздуха» стала в 1860-е гг., причем, помимо выявления сюжетных источников пьесы, внимание ученых сосредоточилось на исследовании жанровой природы пьесы, точнее, на попытке доказать, что «Дочь воздуха» может быть охарактеризована как классический тип испанской барочной трагедии. Никто из обращавшихся к «Дочери воздуха» не мог удержаться от ее сопоставления с драмой «Жизнь есть сон». Уже в 50-е гг. некоторые исследователи писали о «Дочери воздуха» как об одном из ярчайших образцов так называемой «второй манеры» творчества Кальдерона.9 Мы не намерены далеко выходить из круга обозначенных проблем, однако постараемся проанализировать «Дочь воздуха» как художественное целое, входящее в ряд пьес Кальдерона, написанных с начала 1650-х гг., и в контекст всего творчества великого драматурга.
Сходство «Дочери воздуха» с драмой «Жизнь есть сон» проявляется на всех уровнях — от общего концептуального замысла, структурообразующей темы-проблемы обеих пьес до совпадения частных мотивов и отдельных эпизодов. Семирамида впервые появляется на сцене одетая, как и Сехисмундо, в звериные шкуры (как человека-зверя). Она выходит из недр пещеры (la gruta). 1) другом место темница Семирамиды описывается как «грубое вооружение» — храм Венеры, т. е. пещера «с дверями» представляет собой как бы подземелье башни, в которую был заключен герой «Жизни есть сон». Эта пещера расположена в горах, в непроходимой чащобе, куда не смеет ступить ничья нога. Мотив «лабиринта», точнее, «запутанного лабиринта» (confuso laberinto), при помощи которого воссоздается образ этой чащобы, встречается и в первых же строках «Жизни есть сон». Он прямо соотнесен с важнейшей темой всего творчества Кальдерона: жизнь (посюсторонняя, мирская жизнь): блуждание человека по запутанному лабиринту, выйти из которого можно, лишь повинуясь голосу разума. Разум, включающий в себя и сознание долга, и понимание бренности бытия, подсказывает человеку, как найти выход из безысходной ситуации, проскользнуть в просвет между Сциллой и Харибдой: Провидением, велениям которого христианин должен смиренно следовать, и Роком, языческую власть коего он должен опровергать, подчиняясь голосу своей «свободной воли» («ul Jibre albedrío»). Ситуация осложняется тем, что отличить Провидение от Рока почти никогда невозможно. Эта проблема, закодированная в сюжете «Жизни есть сон», воспроизводится и в «Дочери воздуха»: Семирамида от рождения обречена на жизнь-умирание в темнице, поскольку над ней тяготеет проклятие богини, воплощенное в зловещем пророчестве гороскопа. Оно во многом сходно с тем, что звезды предвещают Сехисмундо: Семирамида станет причиной многих несчастий, предательств, преступлений, смертей, ее красота превратит непобедимейшего из царей в тирана... Подобно Сехисмундо Семирамида не может и не желает примириться с жизнью в могиле, она ощущает в себе великие деяния. Слово ambición, которое в устах Семирамиды имеет множество смыслов (не только «честолюбие», но и «властолюбие», Я (стремление к чему-то великому») и которое точнее всего было бы перевести как «притязания», будет не раз повторяться в речах «Дочери воздуха». Подобно Сехисмундо она — воплощение человеческой гордыни, человек-гигант, границы безудержным притяжениям которого стремилось положить искусство XVII в., видя в них проявление низкой, «звериной» стороны человеческой природы. Человек-зверь (la fiera racional), облеченный властью, становится особенно опасен: несомненно сходство поведения Сехисмундо, впервые получившего власть (третье действие II акта), с поведением Семирамиды, вернувшей себе обманом престол, творящей во дворце суд и расправу (III акт второй части). Однако, в отличие от Сехисмундо, Семирамида не проходит «школу» сна-разочарования и гибнет в борьбе за власть, только в минуту смерти поняв всю иллюзорность своего существования: «Я была дочерью воздуха и вот в нем ныне исчезаю». (Умирает).
Предсмертные слова Семирамиды звучат как откровение, как итог всего ее жизненного пути. «Дочь воздуха» по самой своей природе была предназначена раствориться в нем, стать ничем. И не случайно «дочь воздуха» вынесено в название пьесы (известно, сколь значимы все заглавия произведений Кальдерона!). Мотив «воздуха» (el aire) столь же содержательно соотнесен с замыслом Кальдерона, как мотив «сна» в «Жизни есть сон». К нему, как к центру, сходятся многие другие мотивы драмы, реализуясь в ее сюжете, он во многом обусловливает и ее строение, и ее жанр. В этом мотиве — ключ к постижению образа Семирамиды — «дочери воздуха».
Метафорический образ «дочери воздуха», как нередко у Кальдерона бывает, первоначально возникает в пьесе в контексте конкретно-реальном (не значит: реалистическом), в повествовании о рождении Семирамиды, спасенной и вскормленной птицами:
…Semíramis, este nombre me puso, por haber sido hija del aire u las aves, que son los tutores míos.
(«...Семирамида, так и была | наречена, поскольку была | дочерью воздуха и птиц, | моих кормилиц»).
Далее этот образ обогащается новыми смыслами. Связь Семирамиды с воздушной стихией выстраивается не только по линии «воздух—птица—вскормленная птицами», а и по линии «воздух— пустота, ничто —воображение» (imaginación, pensamiento) — человек, наделенный даром создавать в своем уме воображаемые миры, являющиеся по сути дела ничем. Необузданное воображение, фантазия — свойство, исконно присущее Семирамиде (и в этом еще одно ее отличие от Сехисмундо). Именно воображение питает ее притязания (эти слова друг с другом постоянно рифмуются: ambición-imaginación), делая их все более и более обширными, ибо не удовлетворяется достигнутым:
...Altiva arrogancia, ambicioso pensamiento de mi espíritu, descansa de la imaginación, pues realmente a ver alcanzas lo que imaginaste; pero aun todo aquesto no basta que para llenar mi idea mayores triumfas me faltan.
(Возвышающее мужество, | честолюбивые мысли, рождающиеся в моей душе, отдохните | от новых замыслов, ибо | видите въявь достигнутым | то, что вы задумали, и все же | всего этого недостаточно, | так как для того, чтобы насытить мою мечту, | мне не достает больших триумфов).
Непрестанная работа воображения Семирамиды также обусловлена ее «воздушной» природой, так как «воздух» в системе миропонимания Кальдерона — синоним не только «пустоты», но и вечного, безостановочного движения. Куда? В ничто, за пределы земного, ввысь, туда, где человека может ожидать одно — гибель. Эти неземные, надземные устремления «дочери воздуха» воплощают и ее легендарные, вознесенные над землей сады. И ее притязания на то, чтобы стать «солнцем» Ниневии. Наконец, сама смерть Семирамиды венчает эти порывы.
Сюжет «Дочери воздуха», как и многие кальдероновские сюжеты, демонстрирует иллюзорность всякого возвышения человека в этом мире. Соответственно две части пьесы соотнесены с двумя разными этапами жизни Семирамиды, точнее, даже с жизнями двух Семирамид: Семирамиды — пленницы мрачной пещеры, затем пленницы полководца Менона и царя Нина и Семирамиды — царицы великой восточной империи. Первая часть изображает возвышение Семирамиды и завершается ее триумфом — коронацией, вторая повествует о борьбе царицы за власть и завершается ее падением — гибелью.
К Семирамиде, какой она предстает в первой части пьесы, неприменимы какие-либо морально-психологические критерии (чем грешат статьи Г. Эдвардса). Она, подобно комете, проходит предначертанный ей ее «воздушной» природой путь к зениту, подчиняясь голосу заключенной в иной стихии и воле других людей. Сначала — воле Менона, обнаружившего ее в пещере и выведшего на свет (поначалу она даже не может помыслить что-либо о себе самой самостоятельно, лишена всякого самосознания):
...si a mi yo me pregunto quien fui, yo a mí me responderé que yo no lo sé, e iré a preguntártelo a tí...
(«…если я сама себя | спрошу, кем я была, | то сама себе отвечу, | что я этого не знаю и | спрошу об этом тебя»).
Затем — воле Нина, самовластно отбирающего ее у Менона. Наконец, воле принцессы Ирене, требующей, чтобы она притворилась, будто бы ей не по душе брак с Меноном. Сцена объяснения Менона и Семирамиды в саду Ирене под тайным надзором принцессы и Нина (III акт первой части), в которой и Менон, и Семирамида вынуждены произносить слова, навязанные им властителями, — одна из самых драматических сцен «Дочери воздуха». Однако никаких чувств ни к Менону, ни к Нину, ни к кому бы то ни было Семирамида не испытывает. Не может испытывать, ибо состояние влюбленности, превращающее человека в раба страстей или напротив — здесь-то для Кальдерона и начинается подлинная любовь — смягчающее, расслабляющее его душу, противоречило бы сущности Семирамиды, «дочери» пустоты и безостановочного движения, требующих воплощения в чем-то высшем, сверхчеловеческом. При этом следует иметь в виду, что речь идет не о психологической несовместимости в одном человеке любовного переживания и жажды власти: образ вавилонской царицы, как образы барочных драматургов вообще, подчеркнуто антипсихологичен. Речь идет именно о том, что тема влюбленности не «вписывается» в символико-назидательный замысел образа: рожденная пустотой — вознесшаяся в пустоту (ибо, что такое власть, как не «сгусток» пустоты?) — в пустоте растворившаяся. Любви здесь нет и не может быть.
Кроме того, Семирамида изначально изображена как существо двойственное, в котором от рождения соединены два враждующих начала: воинственность Дианы и пленительность Венеры, мужественность и слабость, властолюбие и покорность. В любви могла бы осуществиться ее женская сущность, но воображение героини влечет ее на путь, на котором все более и более реализуется ее мужское начало. Сюжет драмы — это и повествование о монструозном превращении красавицы Семирамиды в воина-воителя, погибающего на поле боя.
Все эти особенности следует учитывать при оценке первого, казалось бы вполне сознательного, поступка Семирамиды — акта выбора между обреченным на прозябание в безвестности Меноном, которому она обязана жизнью и свободой и который недавно был ее женихом, и владыкой Востока Нином. Семирамида, не колеблясь, выбирает Нина. В пользу своего выбора она, по всем правилам риторики, выдвигает ряд аргументов, в числе которых и то, что она предпочитает следовать за своим «должником» (она спасла жизнь Нина, остановив его взбесившегося коня), нежели за «кредитором», что бедняку не полагается иметь красивую жену, а главное — что ее путь и путь Менона разошлись: он уже исчерпал все предназначенные ему судьбой блага, она же только начинает жить, выйдя из колыбели-могилы на свет:
«... ноя же [судьба], ныне из колыбели выйдя на божий свет, жаждет света».
Это заколдованное следование Семирамиды за светом, жажда стать светом самой следует, на наш взгляд, рассматривать как основную движущую силу ее поступков (и соответственно развития сюжета первой части пьесы). Именно эта надпсихологическая мотивировка более соответствует ее строю и замыслу, нежели этико-психологические аспекты поведения героини: предательство, неблагодарность, прикрываемая казуистикой жестокость и т. п. Делая свой выбор, Семирамида не отдает себе отчета в том, что тем самым сбывается первая часть зловещего пророчества гороскопа, исполнения которого она, подобно Сехисмундо, надеялась избегнуть, полагаясь на свой разум и свободу воли:
...sé, aunque se poco, que impío el Cielo no avasalló la elección de nuestro juicio
(Я знаю, | хоть и знаю немного, что безжалостные | Небеса не стали властителями | свободы нашего разума).
Ее выбор поэтому даже и нельзя назвать вполне сознательным выбором, актом «свободной воли», ведь он продиктован, во-первых, ее «природой», во-вторых, замыслом «безжалостных небес», вполне согласующихся с «природой», пока не заявит о себе подлинная свобода человеческого духа и разума. Продиктованный тираническим роком выбор Семирамиды превращает и Нина в тирана, т. е. во властителя, движимого своими страстями и «хотениями», а не разумом и законами справедливости: Нин приказывает ослепить своего недавнего сподвижника Менона.
Первая часть пьесы имеет, таким образом, свою собственную развязку, характеризующую ее собственный жанр, что нельзя не учитывать, ставя вопрос о жанре «Дочери воздуха». Жанровое целое пьесы возникает из барочно-гротескного соединения, сочетания жанровых принципов ее обеих частей, и исследователи, решающие вопрос о жанре пьесы на основании одной лишь развязки второй части (гибель Семирамиды), совершают ошибку. Другой ошибкой являются рассуждения о жанре «Дочери воздуха», построенные почти исключительно на анализе образа Семирамиды. Как показал А. Паркер, драматическая коллизия барочной пьесы редко концентрируется вокруг образа одного только главного героя: комическое недоразумение или ошибка, если речь идет о комедии, трагическая вина, если речь идет о трагедии, как бы распределяются между рядом персонажей драмы. Ставя вопрос о жанре «Дочери воздуха», следует иметь в виду не одну Семирамиду, но и Менона, и Нина. К ним, как и к Семирамиде, применим закон трагедийного действа, сформулированный Вяч. Ивановым, писавшим, что трагедия «являет тайну антиномического сочетания обреченности и вольного выбора в судьбах человека».
И Менон, и Нин — жертвы любви-страсти, символом которой в «Дочери воздуха», как и в других пьесах Кальдерона, является конь, не подчиняющийся воле седока (см. уже упомянутый эпизод охоты Нина, завершающийся его падением с коня на глазах у мужественно бросившейся наперерез Семирамиды). Менон в чем-то схож с художником Хуаном Рока — героем драмы «Живописец своего бесчестия». Он также становится жертвой собственной непредусмотрительности (в глазах барочного мыслителя — порок немаловажный!), «живописцем своего бесчестия», когда, вопреки намерениям утаить от света обретенное им сокровище — Семирамиду, описывает перед всем двором красоту пещерной пленницы в столь искусных словах, что по сути являет ее их глазам.
И Менон, и Нин склоняются перед страстью к Семирамиде, как перед роком. И вместе с тем оба осмеливаются не подчиниться року: поступают вопреки всем запретам, пророчествам, предсказаниям. Менон осмеливается нарушить заповедные пределы и открыть подземелье храма Венеры, в котором заключена Семирамида, и увести ее с собой. Столь же дерзновенно ведет себя и Нин. «Под занавес» первой части, когда пророчество слепца Менона подтверждается небесными знамениями — бурей, громом, молнией, извержением вулканов и наводнением, Нин заявляет: «a mi | no hay agüeros que turben» («Меня | не смущают никакие предзнаменования»).
Основное различие между Менопом и Нином — с точки зрения функционирования каждого образа в сюжете пьесы, распределения между каждым его доли трагической вины — состоит в том, что, если Нину еще предстоит искупить свою вину (впрочем, его гибель в «паузе», отделяющей первую часть пьесы от второй, предрешена и заранее понятна зрителю), то Менон проходит свой крестный путь непосредственно на сцене. Именно Менон — тот герой, который вызывает в душах зрителей очистительное сострадание (катарсис), потрясение, порождаемое зрелищем великих превратностей человеческого существования.
Вознесение — апофеоз Семирамиды в конце первой части, напротив, кажется никак не соответствующим развязке трагического действа. Однако это именно так. В парадоксально противоречивой природе барочной драмы заложена возможность полного несовпадения развязки пьесы и общей ориентации ее замысла. Иными словами, принципиально допустимо существование барочной комедии с несчастливой развязкой и барочной трагедии — со счастливой. Эту возможность оговаривает теоретик XVII в. Хусепе Антонио Гонсалес де Салас в трактате «Новое понимание античной трагедии» («Nueva idea de la tragedia antiqua». Madrid, 1633). Стремясь расширить аристотелевское понимание сущности трагической фабулы, точнее, ее развязки (Аристотель предпочитал действо, основанное на одноразовом превращении состояния героя: от счастья — к несчастью), Гонсалес де Салас выдвигает концепцию «двойной» развязки, включающей в себя «двойное» превращение (duplicada mudanza) как от счастья к несчастью, так и от несчастья — к счастью, точнее, речь идет о том, что превращения, присущие трагедии, могут быть двух родов: «низвержение добра с высоты счастья в бездну бед и вознесение зла от бед к счастью» («bajar el bueno de la felicidad al estado infeliz, y el malo subir del estado infeliz a la felicidad»). Второй случай вполне соответствует развязке основной связанной с образом Семирамиды сюжетной линии первой части.
Таким образом, взятая отдельно первая часть «Дочери воздуха» может быть определена как барочная трагедия.
Что касается второй части пьесы, то в ней Семирамида предстает уже в ином качестве, в совсем иной ипостаси: ненасытная покорительница все новых и новых земель, достойная преемница своего супруга Нина, отравленного по ее приказу, мать, изгнавшая из дворца собственного сына Ниниуса. Теперь она знает, кто она, — царица Вавилонская. Не мать, не жена, не красавица, одержимая низкими страстями (такой живописует ее легенда, такой она предстает у Кристобаля Вируэса, автора пьесы «Великая Семирамида», 1609), а хладнокровная, расчетливая властительница, в которой живет одно желание — подчинять, покорять. Красота Семирамиды здесь более не приманка для царей и полководцев, она только подчеркивает ее мужественность и воинский дух.
Не от имени своей защитницы Венеры, а скорее от имени преследующей ее Дианы действует Семирамида во второй части. Под знаком Венеры, напротив, выступает ее сын — «феминизированный» (afeminado), миролюбивый юноша, привлекающий сердца людей красотой, доставшейся ему от матери.
Однако, несмотря на все величие положения Семирамиды, на всю героику ее деяний, на победу над царем Лидии Лидоро, одержанную на поле боя, наконец, несмотря на трагичность конца, подлинно трагической героиней эта Семирамида не является. Она — обманутая обманщица, т. е. почти что комедийный персонаж, да и сюжет второй части развивается по законам комедийной интриги, так как, лишившись престола, Семирамида, чтобы вернуть власть, прибегает к комедийному трюку: пользуясь сходством с сыном, она похищает его спящим, переодевается в его одежду и правит страной под личиной Ниниуса. Все эти мотивы более присущи комическому, нежели трагедийному действу. Устремления Семирамиды к власти во второй части пьесы именуются чаще всего не ambición, a vanidad — тщеславие. Ни об «обреченности» героини, ни о каком-либо стоящем перед ней «выборе» здесь речи не идет. Сюжет строится и развивается по законам «высокой» дворцовой комедии, хотя и кончается для Семирамиды трагически.
Жанровое различие первой и второй частей пьесы проявляется и в организации сценического пространства. Горы, в которых скрыт «храм Венеры», поля, окружающие загородную резиденцию Менона, сад Ирене в Ниневии — вот основной, подчеркнуто природный фон развития действия в первой части.
Сценическое пространство второй части — город, столица Вавилон, почти заполонивший небо:
...Sus altas torres, que son columnas del firmamento, también lo digan, en tanto número, que el sol saliendo, por no rasgarse la luz, va de sus puntas huyendo…
(Ero высокие башни, | опоры небесного свода, | также то подтвердят (Семирамида имеет в виду величие своих деяний. — С. П.), ибо | их столько, что восходящее солнце, ¡ дабы не задеть их своим светом, | обходит стороной их вершины).
Во второй части значительно увеличивается число «ночных» сцен. Устремленная в первой части к солнцу, Семирамида теперь больше нуждается в темноте для осуществления своих замыслов.
Другие персонажи второй части пьесы — прежде всего стоически смиренный, христиански благочестивый Ниниус, покорно терпящий все издевательства матери, — также нисколько не похожи на героев трагедии. Поэтому «Дочь воздуха» как художественное целое, состоящее из двух частей — трагической и комической, — мы определили бы как классическую барочную трагикомедию.
Барочным дуализмом отмечены не только жанр пьесы и образ ее героини. Антитетично все ее строение. Художественное целое «Дочери воздуха», как творения барочного искусства, зиждется на напряженном соотношении формы и содержания: вся ее образность рассчитана на то, чтобы поразить воображение зрителей, и это же свойство человеческого сознания изображается в ней как основная причина человеческой гордыни. Помимо «горизонтального» противопоставления Двор-Природа, сценическое пространство «Дочери воздуха» как бы разделяется на два «вертикальных» уровня: небо — сферу действия богов и землю — область обитания людей.
Наличие | в пьесе второго — мифологического — плана, обусловленного прежде всего тем, что в основу ее положена сирийская легенда, обработанная греческим историком, резко отличает «Дочь воздуха» от драмы «Жизнь есть сон». Трагикомедия о Семирамиде занимает срединное положение между «мифологическим» циклом пьес Кальдерона 1650-1670-х гг. и его религиозно-философскими драмами 1620-1630-х гг., где даже при непосредственном вмешательстве в действие трансцендентных сил решающее слово остается за человеком.
Война, которую в «Дочери воздуха» ведут Диана и Венера, находит прямой отклик в земных делах и событиях. Война разделяет на два лагеря (dos bandas) зверей и птиц, сталкивает государства, продолжается — уже как гражданская война — в границах отдельных стран. Врагами оказываются бывшие соратники (Нин и Менон), муж и жена, мать и сын, родные братья (генералы Ликас и Фрисо во второй части). Враждуют между собой разные стороны натуры одного человека. Наконец, человек оказывается врагом самому себе: служащий Нину под именем Аренда царь Лидии Лидоро возглавляет войско Нина, отправляющееся на войну против лидийского войска, намеревающегося свергнуть
Нина и вернуть Лидоро его власть. Этой стихии всеохватывающей войны, символически воплощенной в грохоте барабанов и звуках боевых труб, Кальдерон противопоставляет дух милосердия, любви, примирения, символизируемый нежным голосом флейты. И «поле боя» в пьесе остается за мягкосердечным Ниниусом и ребенком-полководцем Ираном. Гибель Семирамиды, напротив, изображается как следствие победы в ней «мужского» начала, как следствие того, что грохот барабанов заглушил в ее душе музыку мира.
Интерпретация темы «войны» в «Дочери воздуха» сходна с тем, как изображена война в «Статуе Прометея», в других пьесах Кальдерона последнего тридцатилетия, в которых драматург выступает как своего рода «пацифист», стремящийся примирить враждующие начала. Вообще тяга к гармонизации контрастов, к сглаживанию крайностей, к примирению конфликтов очень характерна для «второй манеры» Кальдерона. Поэтому и гибель Семирамиды изображена не в трагически безысходных или зловеще отталкивающих тонах, а как смерть-примирение с родной воздушной стихией. Эта особенность «Дочери воздуха», присущая также большинству пьес Кальдерона последнего тридцатилетия, позволяет ставить вопрос о начавшемся переходе кальдероновского барокко в один из ведущих стилей искусства XVIII столетия — стиль рококо.
Л-ра: Iberica: Кальдерон и мировая культура. – Ленинград, 1986. – С. 33-45.
Критика