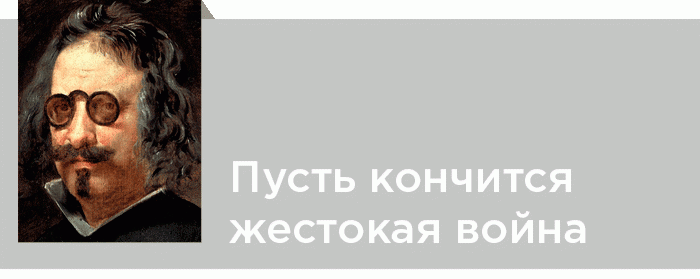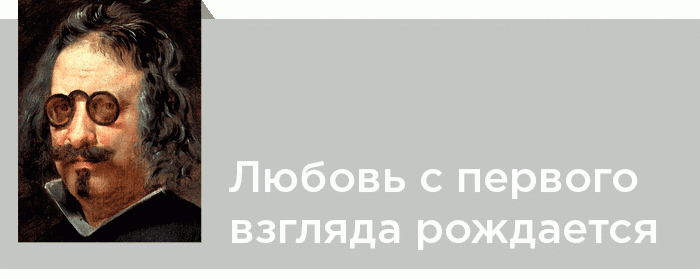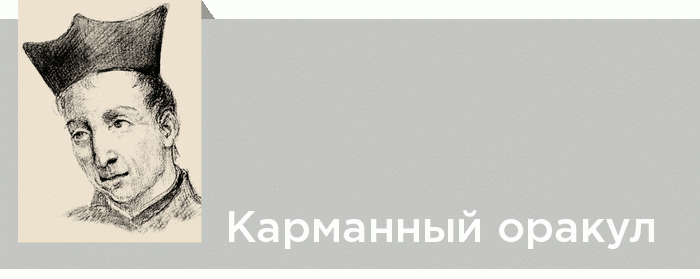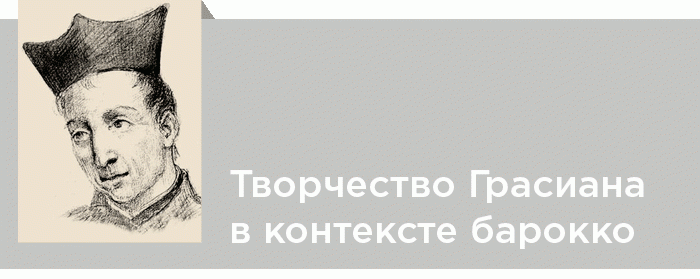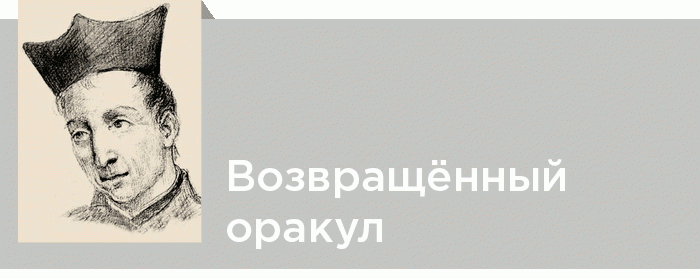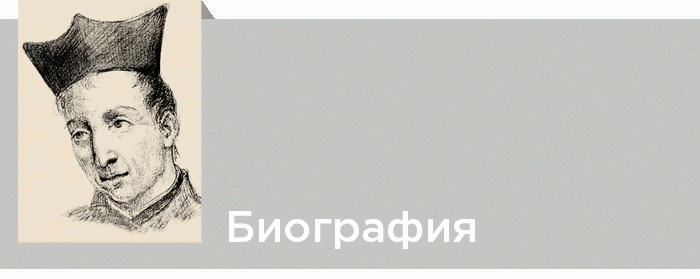Бальтасар Грасиан. Критикон
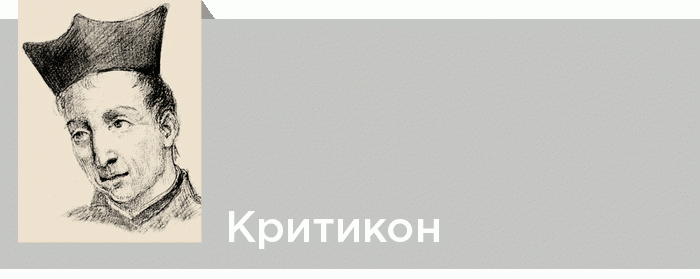
(Отрывок)
Часть первая. ВЕСНА ДЕТСТВА И ЛЕТО ЮНОСТИ
Дону ПАБЛО де ПАРАДА, кавалеру ордена Христа, генералу от артиллерии и губернатору Тортосы
Будь перо мое столь же остро, как шпага Вашего сиятельства, тогда, пожалуй, можно было бы извинить самонадеянное притязание на столь высокое покровительство. Но нет, именно из-за несовершенства и нуждается мое перо в могучей защите. Вместе с Вами, Ваше сиятельство, родилась на Вашей родине, в Лиссабоне, сама отвага: возрастала она в Бразилии, средь бурных опасностей, и заблистала в Каталонии, в славных победах. Вы отразили храброго маршала де Ламот во время приступов, коими он угрожал Таррагоне с поста Сан-Франсиско, столь отважно затем отвоеванного Вашим мужеством и полком. Впоследствии Вы потеснили слывшего непобедимым графа д'Аркур, выгнав его из траншеи под Леридой и атаковав со своими гвардейцами Королевский форт, который Вы взяли и защитили вопреки всем опасениям. Много других подобных деяний мог бы я назвать, ратным гением Вашим сперва задуманных, а затем великим мужеством Вашим осуществленных. Соперничая с ними, сопутствовала Вашему сиятельству удача, когда были Вы генералом флота, – дабы благополучно вели его в Испанию с богатствами несметными. С того и пошел спор меж высокими министрами – в чем успешнее Ваше сиятельство, в морских ли делах или в сухопутных, ибо Вы равно отличались в тех и в других. Дабы в истинах этих – хотя и столь очевидных – никто не усомнился, ибо исходят они от преданного друга, желал бы я высказать их устами какого-либо врага, да вот незадача – не нахожу ни единого! Был, правда, один, что, желая выказать свою независимость, пробовал прикинуться врагом Вашим, да не смог. Сам признался – удивительное дело! – что хотел бы говорить о Вас дурное, но ничего не находит. И особенно восхищаюсь я тем, что Ваше сиятельство, будучи человеком столь чуждым криводушия, сумели войти в число тех, кто в наш век окружен величайшим почтением, – и да продлит его и далее небо!
Целует руки Вашего сиятельства
преданнейший Вам
Лоренсо Грасиан
ЧИТАТЕЛЮ
Предлагаю ныне тебе, читатель рассудительный, но не язвительный, жизни твоей обозрение в одном сочинении и, хотя заглавие, возможно, вызовет досаду, надеюсь, что человек разумный не будет о себе столь дурного мнения, чтобы принять сказанное на свой счет. Я старался скрасить сухость философии занимательностью вымысла, колкость сатиры приятностью эпоса и игривостью плана – хотя сие и осуждает строгий Грасиан в своем более изысканном, нежели полезном «Искусстве изощренного ума». Стремился я также подражать тому, что мне всегда особенно нравилось у каждого из знаменитых авторов: аллегориям Гомера, притчам Эзопа, поучениям Сенеки, рассуждениям Лукиана, описаниям Апулея, морализациям Плутарха, приключениям Гелиодора, отступлениям Ариосто, критикам Боккалини и колкостям Баркли. Удалось ли мне хоть вполовину, суди сам. Начинаю я с прекрасной Природы, перехожу к приятному Искусству и завершаю полезной Моралью. Сочинение свое разделил я на две части, дабы дать тебе время обдумать трудные места и, не слишком затрудняя, поддержать интерес. Коль эта первая часть тебе понравится, тотчас предложу вторую – рисунок уже готов, краски положены, осталось сделать последние мазки, – настолько же более критичную, насколько рассудительней те два возраста, о коих в ней идет речь.
Кризис I. Потерпевший кораблекрушение Критило встречается с Андренио, который рассказывает ему о себе удивительные вещи
Было это в недавние времена, когда оба света, Старый и Новый, уже склонились к стопам властелина земли, католического государя Филиппа и королевской его короной стала орбита солнца, опоясывающая оба полушария. Посреди светозарного ее круга, на лоне кристальных вод, красуется, как в оправе, островок – жемчужина морская или изумруд земной. Имя дала ему августейшая императрица, дабы царил он над всеми прочими островами и красой своей венчал океан. Славный сей остров Святой Елены служит на пути из Старого Света в Новый пристанищем для непоседливой Европы и даровой гостиницей, учрежденной всеблагим божественным промыслом средь бескрайних морских просторов для католических флотов, идущих с Востока.
Там-то, борясь с волнами, противясь ветрам, а пуще того, козням Фортуны, искал спасенья, уцепившись за утлую доску, пасынок Природы и Рока, схожий с лебедем сединою и предсмертной песней. На роковом рубеже между жизнью и смертью он восклицал:
– О, жизнь, лучше б тебе не начинаться! А раз качалась, не должна бы кончаться! Нет в мире ничего более желанного, чем ты, – и более бренного! Кто тебя потерял, тому вовек тебя не обрести, и боюсь, для меня ты отныне загублена. Злой мачехой нам являет себя природа – отымая у человека разум при рождении, возвращает его нам только в смертный час: первое делает она, дабы наслаждались мы благами, ею даруемыми, а второе, дабы пуще страдали от бед, на нас ополчившихся. О, тысячу раз проклят будь изверг рода человеческого, кто, сколотив утлые доски, с предерзостней отвагой первый Доверил жизнь свою изменчивым стихиям! Говорят, грудь его покрывала стальная броня, я же покрыл бы его словами брани. Тщетно Провидение разделило народы горами и морями – дерзанье человеческое перекинуло чрез них мосты, дабы распространять свое коварство по белу свету. Но все, что ни придумала изобретательность людей, для них же оказалось злой пагубой: порох – это страшный уничтожитель жизни, орудие гибели, а корабль – загодя сколоченный гроб. Сушу, видно, смерть сочла слишком тесным поприщем для злодеяний своих, пожелав царить и на море, дабы погибал человек во всех стихиях. Много ли остается несчастному ступеней до гибели, когда всходит он на палубу судна, этого катафалка, по заслугам ему уготованного? Прав был Катон, порицая людей и даже себя самого за три величайшие глупости, но главной из них полагая то, что плавал по морю. О судьба, о небо, о Фортуна! Право, no-Думаешь, будто я для тебя так уж много значу, – столь упорно ты меня преследуешь, – ведь раз начав, ты не отстанешь, пока вконец не изведешь. Но в скорбный сей час да спасет меня само ничтожество мое, дабы удостоился я жизни вечной.
Так пронзал он воздух своими стонами и разрезал волны руками, равно выказывая усердие и разум.
И не иначе как отвага его словно одолевала даже враждебный рок! Сама судьба отступает – не то из боязни, не то из почтения, – сама смерть порой не решается посягнуть на великих духом, сама Фортуна к ним милостива; так аспиды пощадили Алкида, бури – Цезаря, клинки – Александра и пули – Карла V. Но беды, увы, всегда идут вереницей, тянут друг дружку, и одна кончается лишь затем, чтобы породить еще большую.
Пловец как будто уже очутился в безопасности, на лоне общей нашей матери, но снова объял его страх, как бы свирепые волны, увлекая, не разбили о прибрежные утесы, подобные каменному сердцу его Фортуны. Тантал, жаждущий земли, он видел, что она ускользает из-под его рук, когда он за нее уже хватался: для несчастливца не найдется ни воды в море, ни земли на суше.
Так, на рубеже двух стихий, витая меж жизнью и смертью, едва не стал он жертвой безжалостного рока, как вдруг появился статный юноша, ангел видом, а того пуще – делами. Протянув руки, юноша схватил его, привлек, будто магнитом, хоть и не железным, к себе и тем спас для благополучия и жизни. Выскочив на сушу, пловец, радуясь избавлению, приложился устами к земле и, вознося благодарность, вперил очи в небо. Затем, раскрыв объятья, направился к своему спасителю, чтобы расквитаться с ним поцелуями и пылкими речами. Но тот, свершив доброе дело, не ответил ни единым словом, только выказывал улыбками великую свою радость и крайнее удивление – недоуменными гримасами. Спасенный вновь кинулся его обнимать и благодарить, расспрашивая, кто он и какого рода, но островитянин, изумленно на него глядя, ничего не отвечал. Старик стал тогда спрашивать на разных языках – он знал их несколько, – но тщетно: юноша, не сводя с чужеземца глаз, лишь делал странные телодвижения и, видимо, ничего не понимая, корчил гримасы ужаса и радости. Можно было подумать, что он – дитя здешних лесов, дикарь, если бы против этого не говорило то, что остров явно был необитаем и что волосы у юноши были светлые и прямые, а черты лица, как у европейца, тонкие. На платье, однако, не было и намека, одеждой ему служила одна невинность. У спасенного явилась было мысль, что юноша лишен двух слуг души, из коих один вести приносит, а другой разносит, – слуха и речи. Но вскоре он убедился в своей ошибке – при малейшем шуме юноша настораживался, к тому же так искусно подражал рычанью зверей и пенью птиц, что казалось, язык животных ему понятней, чем язык людей, – такова сила привычки и упражнения с детства! В диких его гримасах и прыжках чувствовались проблески живого ума, усилия души, пытающейся выразить себя; но где не помогает искусство, там природа, увы, беспомощна.
Каждый явно желал узнать судьбу и жизнь другого; разумный пришелец быстро понял, что отсутствие общего языка будет туг главной помехой. Речь – плод размышления; кто не мыслит, тот не разговаривает. «Говори же, – сказал философ, – чтобы я узнал, кто ты». В беседе душа благородно открывается другому, заполняя своими образами его мысли. Кто с тобой не говорит, тот от тебя далек, и напротив, тот близок, кто с тобой общается хотя бы письменно. Так, мудрые мужи прошлого все еще живы для нас и в вечных своих творениях ежедневно беседуют с нами, неустанно просвещая потомков. В беседе переплетаются нужда и наслаждение, мудрая природа позаботилась сочетать их во всем важнейшем для жизни. Посредством беседы нужные сведения приобретаются с приятностью и быстротой, разговор – кратчайший путь к знанию; в ходе беседы мудрость незаметно проникает в душу; беседуя, ученые порождают других ученых. Без общего языка люди не могут существовать; два ребенка, умышленно оставленные на острове, изобрели язык, чтобы общаться и понимать друг друга. Благородная беседа – дочь разума, мать знания, утеха души, общение сердец, узы дружбы, источник наслаждения, занятие, достойное личности. Зная все это, разумный мореход первым делом начал учить дикого юношу говорить и вскоре в этом весьма преуспел, ибо тот проявлял послушание и охоту к ученью. Начали с имен – моряк назвал ему свое имя «Критило», а юношу нарек «Андренио»; имена подходили на диво, одно говорило о рассудительности, другое – о натуре человеческой. Желание открыть свету свой острый ум, всю жизнь подавляемый, и узнать неведомые истины подстегивало любознательного Андренио. Вскоре начал он выговаривать слова, спрашивать и отвечать, делал попытки рассуждать, помогая словом жестами; и мысль, которую начинал высказывать язык, порою довершала гримаса. О своей жизни он сперва сообщал отрывками, обрывками, клочками, и казалась она Критило удивительной и невероятной; не раз он бранил себя, что не понимает того, чему не мог поверить. Но когда Андренио научился говорить связно и овладел изрядным, под стать своим чувствам, запасом слов, он, уступая горячим просьбам Критило и пользуясь его умелой помощью, повел такую речь.
– Я, – сказал Андренио, – не знаю, ни кто я, ни кто дал мне жизнь, ни для чего ее дал. Сколько раз я без слов и без надежды вопрошал себя об этом с любознательностью, равной моему неведению! Но если вопросы порождаются незнанием, мог ли я сам себе ответить? Временами я пробовал рассуждать, надеясь, что настойчивость поможет мне превзойти себя самого; еще не обретя единства духа, пытался я раздвоиться, отделиться от собственного неведения, дабы удовлетворить страсть к знанию. Ты, Критило, спрашиваешь меня, кто я, а я хотел бы это узнать от тебя. Ты – первый человек, увиденный мною, и в тебе зрю я свой портрет, более верный, чем в немом зеркале ручья, к которому меня часто гнало любопытство и где тешилось мое неразумие. Но, коли хочешь знать историю моей жизни, я тебе расскажу ее – она и впрямь удивительна, хоть небогата событиями. Когда в первый раз осознал себя и составил о себе какое-то суждение, я увидел себя заточенным в недрах вон той горы, что господствует над прочими, – даже среди скал достойны почтения более высокие. Там мне доставляла первую пищу самка дикого зверя, как ты называешь эти существа, я же называл ее матерью, убежденный, что она-то и родила меня и дала жизнь, – теперь мне даже стыдно в этом признаться.
– Несмышленому детству, – -сказал Критило, – детство весьма свойственно всех мужчин величать батюшками и всех женщин – матушками; ты вот матерью почитал дикого зверя, принимая доброту за чувство материнское; так и человечество в пору своего детства называло всякое существо, к нему благоволящее, отцом и даже провозглашало божеством.
– Вот и я, – продолжал Андренио, – считал матерью ту, что кормила меня своими сосцами. Зверь среди зверей, я рос вместе с ее детенышами, в которых видел своих братьев и сестер, – вместе мы то играли, то спали. Наша мать, каждый раз как рожала, давала мне молока и уделяла толику дичи и плодов, какие приносила для своих детенышей. Жизнь в пещере меня не тяготила – потемки внутренние, потемки духа, скрывали от меня темень внешнюю, в которой пребывало тело. Ничего не смысля, я не замечал, что лишен света, хотя иногда улавливал слабые лучи, проникавшие к нам с неба – где-то в самом верху мрачной пещеры.
Но вот я достиг в возрасте и в простодушии некоего рубежа – и вдруг меня объял необычайный порыв к знанию, ум озарили новые и отчетливые мысли, тут я начал размышлять о себе, познавать себя, рассуждая о том, что же я за существо. «Как все это понять? – говорил я себе. – Существую я или не существую? Раз я живу, чувствую и мыслю, стало быть, существую. Но если я существую, то кто же я? Кто дал мне жизнь? Зачем? Чтобы жить в этой норе? О, это было бы слишком великим несчастьем! Таков ли я, как эти звери? Нет, я замечаю явные различия меж ними и мною: их тело покрыто шерстью, а я наг, я обделен тем, кто дал нам жизнь; я вижу, что тело мое устроено не так, как у них; я плачу и смеюсь, меж тем как они только воют; я хожу выпрямившись, поднимая лицо кверху, а они двигаются согнувшись, склонив голову к земле». Все эти бесспорные различия любознательность моя подмечала и разум обсуждал. Со дня на день росло во мне желание выйти из пещеры, жажда видеть и знать – чувство естественное и сильное у всех людей, а у меня, никак не удовлетворяемое, оно стало непереносимым. И горше всего было видеть, как звери, мои товарищи, с удивительном проворством взбирались по отвесным скалам, свободно вбегали и выбегали из пещеры, когда хотели, меж тем как для меня эти каменные стены были неприступны, и я горько сокрушался, что лишен великого дара свободы. Много раз пытался я следовать за зверями, цепляясь за скалы, которые, казалось, от одной крови, что струилась при этом из моих пальцев, могли бы смягчиться. Да и зубы пускал я в ход. Но все было тщетно и только шло мне во вред – всякий раз я срывался и падал, орошая землю слезами и обагряя ее своей кровью. На стоны мои и плач сбегалось все семейство, звери ласково угощали меня плодами и дичью и тем несколько смягчали мое горе и утишали муки. Сколько безмолвных монологов произнес я, лишенный даже утехи изливать свою скорбь вслух! Сколько помех и сомнений сковывало мою наблюдательность и любопытство, которые приносили мне лишь недоумение и страдание! Всечасной пыткой было слышать смутный шум моря, чьи волны ударяли по моему сердцу громче, чем по прибрежным камням. Еще хуже бывало, когда раздавался рев урагана и ужасающие раскаты грома. После них из туч лился дождь, а из моих глаз – слезы. Но что доводило меня до безумия и вселяло желание умереть, это то, что по временам, очень-очень редко, до меня доносились извне голоса, вроде твоего, – – сперва они сопровождались сильным шумом и грохотом, затем становились более отчетливыми; понятно, что они меня чрезвычайно волновали и надолго запечатлевались в памяти. Я понимал, что они ничуть не похожи на голоса зверей, которые мне обычно доводилось слышать. Желание увидеть и узнать, кто издает эти звуки, и невозможность его удовлетворить прямо-таки убивали меня. И хоть извне доходили до меня жалкие крохи, я размышлял над ними подолгу и не спеша.
В одном могу тебя уверить: хотя я часто и по-разному мысленно рисовал себе то, что находится вне пещеры, – строй, расположение, очертания предметов, их разнообразие и вообще все устройство мира, – теперь я понимаю, что ни в чем не угадал и даже представить себе не мог порядок, многообразие и величие той огромной махины, которую мы видим и прославляем.
– Нечего удивляться, – сказал Критило. – Когда бы все люди прошлого и будущего взялись сообща придумывать устройство вселенной и меж собою советовались бы, какой она должна быть, они ни за что не сумели бы все предусмотреть! Да что говорить о вселенной? Самый крохотный цветочек, мушку какую-нибудь, и то людям вовек не создать. Лишь бесконечной мудрости Верховного Творца было под силу найти и придать строй, порядок и согласие столь прекрасному и непреходящему разнообразию. Но скажи – я очень хочу это узнать и услышать от тебя самого, – как сумел ты выйти из гнетущей темницы, из этой пещеры, ставшей для тебя преждевременной могилой? А главное – коль можешь выразить, – какие чувства испытал твой изумленный дух, когда ты впервые вышел на волю, увидел свет и в восторге залюбовался великолепным театром мироздания?
– Погоди минутку, – сказал Андренио, – здесь я должен собраться с силами для столь приятной и необычной повести.
Кризис II. Великий Театр Мироздания
Говорят, что когда Верховный Мастер закончил сотворение мира, то решил распределить его, поселив в разных покоях грандиозного сего сооружения живые существа. Итак, созвал он все живое – от Слона до Комара, – стал показывать различные места и спрашивать каждого, какое тот облюбовал себе для жительства и пребывания. Слон ответил, что хотел бы взять лес, Лошадь выбрала луг, Орел – одну из воздушных областей. Кит – морские просторы, Лебедь – озеро, Карп – реку. Лягушка – болото. Последним явился первый, то есть Человек, и, будучи спрошен, что ему по душе и где его стихия, ответил, что, мод, не удовольствуется меньшим, нежели вся Вселенная, да и этого ему мало. Сильно удивили всех такие непомерные притязания, однако нашелся льстец, ставший уверять, что они-де порождены величием духа.
Но хитрая кумушка сказала другим животным:
– Вот уж не поверю! По-моему, тому причиной не величие духа, а низость плоти. Всей поверхности земли ему, вишь, мало, он проникает вглубь и раскрывает недра земные в поисках золота и серебра – дабы утолить свою жадность; загромождает и теснит воздух высоченными зданиями – дабы потешить свою спесь; бороздит моря и ныряет в пучину вод, гоняясь за перлами, амброй и кораллами, – дабы украсить суетный свой наряд; все стихии принуждает приносить ему дань: от воздуха требует птиц, от моря – рыбу, от земли – дичь, от огня – жар для изготовления пищи, услаждающей, но не утоляющей его чревоугодие. И он еще жалуется, что этого ему мало! О, чудовищная алчность людская!
Тут возвысил голос Верховный Владыка и изрек:
– Слушайте, знайте, запомните – Человека я сотворил собственными своими руками, дабы мне был слугою, а вам – господином, и как царь всего он и желает владеть всем. Но я понимаю это так, человече, – обратился Он к Человеку, – что господствовать ты должен как личность, а не как скотина, – духом, а не брюхом. Ты будешь господином всего сотворенного, но не рабом, – вещи должны подчиняться тебе, а не подчинять тебя. Ты все заполонишь разумом своим и благодарностью ко мне, сиречь, во всех созданных мною чудесах будешь чтить божественное совершенство – от творений устремляясь к Творцу.
Величественное зрелище чудес мироздания, столь привычное для отупевших наших чувств, поразило Андренио; ошеломленный, он отдался созерцанию, безмолвным восторгам – и ныне рассказывал об этом в таких словах:
– Сон был для меня прибежищем от мук, отрадой одиночества. Непрестанно терзаясь, я лишь в нем находил утеху; спал я и в ту ночь – увы, ночь окружала меня всегда! – спал особенно крепко и сладко, а сие верный знак близкой беды. Так и случилось: сон мой был прерван странным гулом, исходившим как бы из глубочайших недр горы. Вся она ходила ходуном, каменные стены дрожали. Выл свирепый ветер, врываясь бурными вихрями в отверстие пещеры. И вдруг огромные глыбы начали с ужасающим шумом отваливаться и падать, производя такой невероятный грохот, словно вся эта каменная громада вот-вот рассыплется в прах. – Погоди, – сказал Критило, – ты видишь, даже горы подвержены перемене, сокрушительной мощи землетрясения и ярости молний, хотя их прочность обычно противопоставляют непостоянству жизни человеческой.
– Ежели даже скалы дрожали, каково же было мне? – продолжал Андренио. – Все члены моего тела, казалось, хотели выйти из суставов, а сердце так прыгало, что едва не выскочило из груди. Но вскоре чувства меня покинули, я потерял сознание и упал замертво, в горе погребенный и в горе. Сколько длилось это затмение духа, эта пауза жизни, того я не ведаю и ни от кого не мог узнать. Наконец – как и когда, мне неизвестно, – мало-помалу стал я приходить в себя после почти смертельного обморока. Открыв глаза, я узрел ту, что открывает врата дню. О, светлый день, радостный день, великий день, счастливейший в моей жизни! Я отметил ею, сложив холм из камней, из целых глыб. Я сразу понял, что проклятая моя темница разбита, и невыразимая радость объяла душу – немедля начал я выбираться из своей могилы, чтобы вновь родиться на свет, сиявший мне в большом проеме меж скал, из которого открывался обширный и радостный вид на небесные просторы. Со страхом приблизился я к нему, сдерживая неистовое желание, и наконец, убедившись, что опасности нет, вышел на эту широкую террасу – навстречу свету и жизни. Впервые глазам моим предстало величественное зрелище – небо и земля. Душа в необычном порыве любопытства и блаженства устремилась к глазам, покинув прочие части тела, так что целый день я оставался бесчувствен, недвижим и как бы мертв, хотя именно тогда ожил. Вздумай я описать тебе объявшее меня могучее чувство любви, напряжение разума и духа, это было бы непосильной задачей; скажу одно – до сих пор живы во мне и жить будут вечно изумление, восторг, преклонение и благоговение, наполнившее тогда мою душу.
– Охотно этому верю, – сказал Критило, – когда глаза видят нечто невиданное, сердце испытывает чувства, дотоле ему неведомые.
– Я глядел на небо, глядел на землю, глядел на море, глядел на все сразу и на каждую стихию в отдельности; каждый предмет приковывал мои взор, я не мог оторвать от него глаз – смотрел, наблюдал, размышлял, восхищался, созерцал и поглощал увиденное с неутолимой алчностью.
– О, как я завидую тебе! – воскликнул Критило.
– Какое невообразимое блаженство! Подобное счастье досталось лишь первому человеку на земле – и тебе: впервые увидеть и восхититься величием, красотою, гармонией, незыблемостью и многообразием всего сущего. Мы все обычно лишены способности удивляться, ибо не видим ничего нового, а потому и не задумываемся над тем, что видим. Когда вступаем в мир, духовные глаза у нас закрыты, а когда открываем их для познания, привычка видеть вещи, даже самые удивительные, отымает способность удивляться. Потому-то люди мудрые всегда прибегали к помощи размышления, стараясь вообразить, будто впервые появились на свет, вглядываясь в его чудеса, – ведь вокруг нас все чудо! – изумляясь совершенству мира и искусно рассуждая. Иной человек, гуляющий по восхитительному саду, рассеянно проходит по аллеям, не замечая диковинных деревьев и разнообразных цветов, но стоит ему обратить на это внимание, и он возвращается назад, чтобы снова и не спеша, пройти по аллеям, рассмотреть, любуясь, одно за другим, каждое дерево, каждый цветок. Так и мы проходим путь от рождения до смерти, не замечая красоты и совершенства мира, тогда как люди мудрые возвращаются вспять, дабы насладиться всем сущим и созерцать, словно видишь, впервые, то, что видел уже не раз.
– Больше всех посчастливилось мне, – сказал Андренио, – ибо после столь сурового заточения мне дано было вдоволь насмотреться на все красоты мира.
– Да, тюрьма твоя была для тебя благом, – сказал Критило. – Благодаря ей ты насладился всем сразу и с пущей жадностью – когда счастье даруется щедро и по желанию нашему, оно двойное. Величайшие диковины, если легко даются и всем доступны, теряют цену; самые удивительные явления, став обыденными, уже не пользуются почетом; даже солнцу, и то доводится скрываться на ночь, дабы утром восход его был желанен. Сколь различные чувства, наверно, объяли тебя, сколь непривычные мысли! Душа твоя, думаю, не знала ни минуты покоя, всему внимая и всему, любовь расточая! Дивлюсь, что не скончался ты на месте от обилия, впечатлений, восторга, блаженства.
– Я полагаю, – сказал Андренио, – душа моя была настолько поглощена тем, что видела и слышала, что просто не успела покинуть тело, – тысячи новых предметов не только отымали, но и возбуждали ее силы. Тем временем щебечущие герольды великого владыки света, которого ты именуешь солнцем, увенчанного сияющей короной и окруженного телохранителями-лучами, призвали мои глаза обратиться к нему с восторгом и благоговением. Медленно начало оно восходить на трен хрустально-пенистых вод и в безмолвном, царственном величии поднялось к центру небосвода, озаряя все создания земные сияющим своим ликом. Тут я– вовсе обомлел и впал в забытье, вперив в него очи, – по примеру мудрых орлов.
– О, высокое, невыразимое блаженство, – воскликнул Критило, -: созерцать бессмертное, божественное солнце, совершенную его красоту! Вот радость, вот счастье, вот наслаждение, восторг, упоение!
– Изумление мое все росло, – продолжал Андренио, – но вместе с ним рос и страх, ибо, столь желанное издали, солнце, войдя в зенит, показалось мне грозным. Из всего виденного только оно заставляло меня опустить взор – и я понял, что оно недоступно и нет ему равных.
– Среди прочих творений, – заметил Критило, – солнце ослепительней всего отражает неизреченное величие божества. Потому-то и называется оно «царем светил» – с его появлением все прочие светила скрываются, и оно одно царит в небе. В центре небесных сфер оно красуется на своем престоле – средоточие лучей, неисчерпаемый источник света. В нем нет изъянов и, единственное в своей красе, оно всегда неизменно. Благодаря ему мы все видим, но само оно не дозволяет на себя смотреть, скрывая свей блеск и охраняя свои тайны. Вместе с другими первоначалами оно влияет на земную жизнь, даруя бытие всему живому, вплоть до человека. Щедро расточает свет и радость, рассеивая их повсюду, проникая даже в недра земные; радует и озаряет весь мир, все оплодотворяя и всему даруя силу; Оно – символ самого равенства, ибо родится равно для всех, равно не нуждаясь ни в ком из тех, кому светит, зато все под ним живущие признают, что равно в нем нуждаются. Короче, оно – великолепнейшее творение, ослепительнейшее зерцало, в коем отражается величие бога.
– Весь день, – сказал Андренио, – я и был поглощен им одним, созерцая то его самое, то его отблески на воде, о себе забыв и думать.
– Теперь я не дивлюсь, – заметил Критило, – словам философа, который сказал, что явился в мир, чтоб видеть солнце. Правильно он сказал, хотя поняли его дурно и обратили его истину в шутку. Мудрец хотел сказать, что в солнце материальном он усматривает отражение иного, божественного. Рассуждая разумно, надобно признать, что, ежели тень божества столь светозарна, каков же должен быть свет, исходящий от несотворенного бесконечного всесовершенства!
– Но увы! – жалобно воскликнул Андренио. – Как обычно здесь, на земле, великая моя радость обратилась вскоре в глубокую скорбь, когда я увидел закат солнца, вернее, перестал видеть его свет; радость рождения сменилась ужасом смерти, сияющий престол утра – могильным покровом ночи; солнце потонуло в морских водах, а я – в море слез. Полагая, что боле никогда его не увижу, я умирал от горя. Но вскоре меня воскресили новые восторги – в небе я увидел мириады светочей, словно небо желало меня развлечь, развеселить. Поверь, зрелище это было не менее сладостным и, пожалуй, даже более увлекательным в своем разнообразии.
– О, великая мудрость Господа! – сказал Критило. – Он сумел и ночь сделать прекрасной, дабы ночь в красоте не уступала дню. Пошлое невежество наше наделяет ее всякими неподходящими эпитетами, именуя мрачной и страшной, тогда как нет ничего более прекрасного и безмятежного; оно называет ее печальной, когда она – отдохновение от трудов, убежище от горестей. Куда удачней назвал ее некто мудрой, ибо ночь – пора молчания и размышлении; недаром в просвещенных Афинах чтили сову как символ мудрости. Ночь дана не столько для того, чтобы глупцы спали, сколько дабы мудрецы бодрствовали. И если день свершает дело, то ночь его зачинает. – С величайшей и безмолвной радостью созерцал я небесное зерцало ночи, устремив взор на сонмы звезд, – одни мерцали, другие сияли ровным светом; я разглядывал их все, примечая различия в величине, расположении, движении, цвете, следя, как одни появляются, а другие исчезают.
– Наподобие наших человеческих звезд, – молвил Критило, – что также движутся к закату.
– Особенно поразило меня, – продолжал Андренио, – их странное расположение. Раз уж Верховный Мастер решил украсить великолепный потолок мира множеством звездных гирлянд, – говорил я себе, – отчего Он не расположил их в стройном порядке, дабы они свивались в красивые фестоны и кружевные узоры? Не знаю, что ты на это скажешь и как мне возразишь.
– Я понял тебя, – поспешно сказал Критило. – Ты хотел бы, чтобы звезды были расположены в виде искусной вышивки, либо как цветы на клумбах, либо как драгоценные камни в броши, то есть чтобы в их размещении были строй и соответствие.
– Вот-вот, именно так. Даже будь их вдвое больше, зрелищу этому, столь ласкающему взор своим великолепием, сильно вредит то, что Божественный Зодчий по странной прихоти разбросал звезды как попало и тем заставил усомниться в его божественном искусстве.
– Замечание твое правильно, – сказал Критило, – но дело в том, что божественная мудрость, создав звезды и так их расположив, имела в виду иное, более важное обстоятельство, а именно, их движение и взаимодействие влияний. Надобно тебе знать, что нет в небе светила, которое бы не имело особого свойства, – подобно травам и прочим земным растениям. Одни звезды причиняют жар, другие холод; иные сушат, иные увлажняют; и много разных других влияний оказывают они, почему и расположены так, чтобы влияния эти взаимно смягчались и умерялись. Иное расположение, на вид правильное, как тебе бы хотелось, было бы искусственным и однообразным; предоставим его ремесленным поделкам и детским игрушкам. Зато в таком виде небо еженощно кажется нам новым, и глазам не прискучит на него глядеть; всякий может любоваться тем узором звезд, который ему по вкусу. Вдобавок, из-за естественно свободного расположения и мнимого беспорядка нам кажется, будто звезд много больше, чем на самом деле, – почему и называют их «несметными», – и будто воля Всевышнего здесь ни при чем, хотя ученым она ясна и понятна.
– Очень понравилось мне их разноцветье, – сказал Андренио. – Одни звезды белые, другие алые, золотистые, серебристые; не видел я только зеленых, хотя цвет этот для глаз всего приятней.
– Он слишком земной, – сказал Критило. – Пусть в зелень окрашивается земля, на ней обитает надежда, но блаженное обладание – там. Цвет этот, будучи порождением пагубной земной сырости, враждебен небесному жару. А не заметил ли ты одну звездочку, что на небесной равнине кажется точкой, – приманку магнитов, мишень для их стрелок. Разум человека установил, что она неподвижна, стрелка компаса одним концом всегда устремлена к ней, а потому, в круговороте нашей суеты житейской, описывает круги по полю компаса.
– Признаюсь, не заметил – видно, она слишком мала, – сказал Андренио. – К тому же, внимание мое было поглощено прекрасной царицей звезд, правительницей ночи, преемницей солнца, не менее, чем оно, дивной, – той, кого ты называешь Луной. Радости она мне доставила не меньше, а удивление вызвала гораздо большее своей равномерной изменчивостью – то растет, то уменьшается и полной бывает недолго.
– Это другая властительница времени, – сказал Критило. – Власть свою она делит с солнцем. Оно создает день, она – ночь; солнце отмечает годы, она – месяцы; солнце днем греет и сушит землю, она ночью охлаждает и увлажняет; солнце управляет сушей, она – морем; вдвоем они – как две чаши весов времени. Но особенно примечательно то, что, как солнце есть светлое зерцало Бога и божественных его достоинств, так луна есть зеркало человека и человеческих несовершенств: то она прибывает, то убывает; то рождается, то умирает; то обретает всю полноту, то обращается в ничто – никогда не пребывая долго в одном состоянии. Своего света не имеет, а заимствует его у солнца; становясь между нею и солнцем, земля ее затмевает; пятна на ней тем отчетливей, чем она ярче; изо всех планет она последняя по месту и по величине; власть ее сильнее на земле, чем на небе. Итак, она изменчива, полна недостатков, пятен, зависима, бедна, уныла, а всему причиной – соседство с землей.
– Всю ту ночь, как и многие последующие, – продолжал Андренио, – я провел в приятном бдении, глядя на небо во все глаза, как оно на меня – всеми звездами. Но вот кларнеты Авроры, звуча в песнях птиц, возвестили о втором выходе солнца, прогоняя своей гармонией звезды и пробуждая цветы. Снова родилось солнце, и, узрев его, я воскрес для жизни, но теперь я приветствовал его не так пылко.
– Даже солнце, – заметил Критило, – при втором восходе не удивляет, а при третьем и не восхищает.
– Я почувствовал, что любопытство во мне угасает, а голод разгорается. Итак, воздав солнцу благодарную хвалу, я воспользовался его светом – который показал мне, что оно как бы новорожденный ребенок и служит мне, вроде пажа со светильником, – и попытался спуститься на землю; потребности телесные вынудили меня пренебречь духовными и низвели от столь высокого созерцания к занятиям куда более низменным. Все ниже спускаясь – я бы даже сказал, опускаясь – по неверной лестнице, образованной глыбами камней, я благодарил небо и за эту милость, без которой мне бы не сойти с горы. Однако, прежде чем нога моя запечатлеет на земле первый след, остановлюсь: чувствую, мне не хватает дыхания и голоса, а потому прошу тебя подсказывать слова, чтобы мог я выразить все обилие моих чувств. Итак, я снова приглашаю тебя выслушать мои восторги, но уже по поводу чудес земных.
Критика