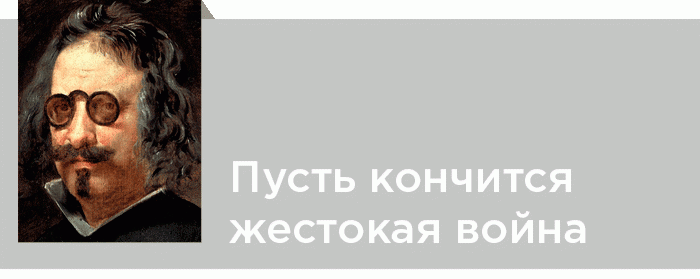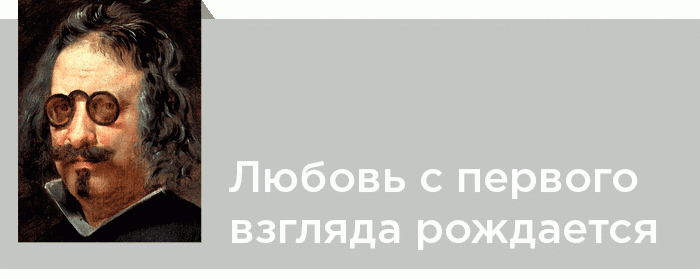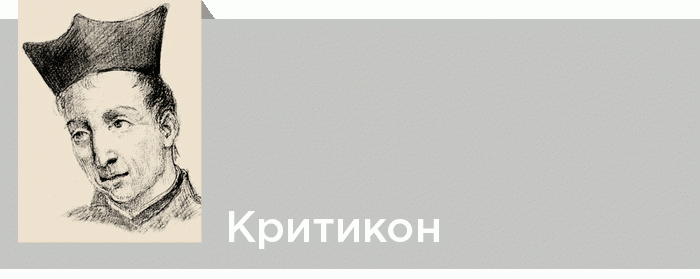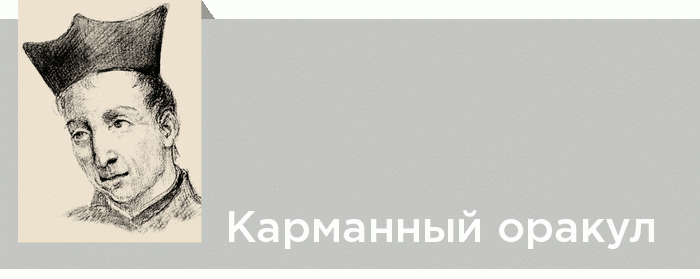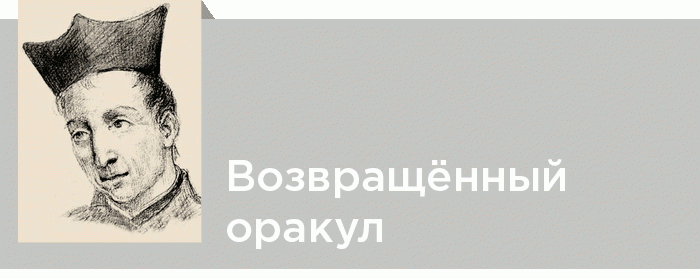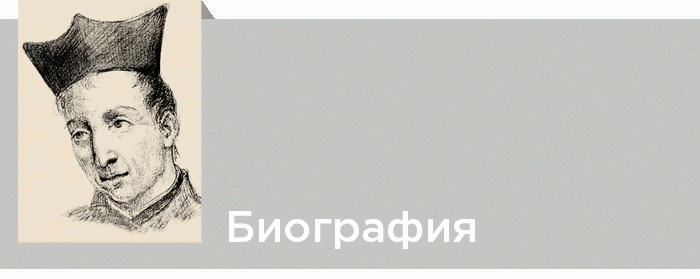Творчество Бальтасара Грасиана в контексте барочной риторической традиции
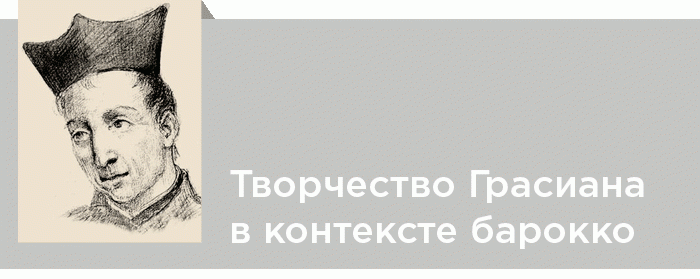
М. Ю. Оганисьян
За последние годы у нас и за рубежом появилось немало весьма значительных исследований в области риторики. Изучение риторической традиции представляет большой интерес и для истории литературы, особенно до конца XVIII в., когда риторическая традиция существовала в своих непосредственных формах — школьной, ораторской, литературно-критической и т. д. Ниже, на примере двух произведений Грасиана — «Карманного оракула» и «Критикона» — мы рассмотрим бытование этой традиции в эпоху барокко. Мы остановились именно на этих произведениях потому, что это во всех смыслах самые характерные сочинения Грасиана, в том числе и с точки зрения нашей проблемы. Если «Карманный оракул» — очевидно своеобразный сюжет в богатой истории морально-дидактической литературы XVII в., то значение «Критикона» для развития жанра романа в аспекте риторической традиции — более сложного порядка.
В сравнении с великим романом Сервантеса грасиановский «Критикон» кажется бедным. Он представляется одной из плоскостей, как бы снятой, вынутой из многоплановой структуры «Дон Кихота». Но именно эта плоскость задает существеннейший уровень всей доромантической литературы — ее «риторический план». Своеобразие «Критикона» заключается в том, что он замечательно наглядно раскрывает содержание этого плана в конкретный культурно-исторический период. Художественное пространство романа как бы целиком расположилось в риторическом пространстве барочной культуры. Сущность этого совмещения «романа и стиля» заслуживает самого вдумчивого отношения.
Примат общего по отношению к частному есть основание всей риторической традиции и источник ее художественных модификаций. Если ренессансное представление, сохраняя само отношение превосходства общего над частным, получало творческую энергию от сближения их, сопоставления, интимной связанности горнего и дольнего, то для мироощущения XVII в. характерно, напротив, разведение, расторжение генерализующего и индивидуализирующего начал. Общее, по-прежнему не теряя своего главенствующего положения, становится посторонним частному: выше него, но вне его. Высшее и есть, и отсутствует. Deus absconditus, скрытый Бог янсенизма, и буквально, и фигурально выражает трагизм нового сознания.
Однако, в отличие от классицистского представления в его янсонистском варианте, барочное мышление экстравертно. Благоразумный человек Грасиана, el Discreto, совершенно лишен внутреннего центра тяжести, «гравитона», который бы заставлял его обращать взор внутрь. Магнит вынесен вовне и повернут обратной, отталкивающей стороной (а в классицизме — притягивающей). Барочный человек поневоле отталкивается от абсолюта, но благочестиво пытается найти какое-то абсолютное положение в мире без центра.
Именно эта ситуация поиска определяет общий антиномизм «Карманного оракула». Восхваляя в одном случае универсальность человеческих дарований (афоризм 93), а в другом — умение развить главное свое достоинство (аф. 34); или в одном случае — способность быть самим собой (аф. 27), а в другом — способность притворяться (аф. 118) и т. д., Грасиан выстраивает два противоположных ряда общих мест. Л. Е. Пинский, видимо, справедливо сводит различные антиномии «Оракула» к общей антиномии натуры и культуры. Но проводимое им «раздвоение» Грасиана на мыслителя, знающего, что оба члена антиномии «равновелики по значению», и моралиста, «акцентирующего» второй член — культуру, неудовлетворительно. Именно сопряженность этих противоположных начал характерна для Грасиана и как мыслителя, и как моралиста. Оба члена данной антиномии находятся в едином пространстве риторической мысли и риторической морали, противоположном какому бы то ни было раздвоению.
С помощью поэтики соединения общих мест Грасиан фиксирует, удерживает, заставляет замереть на время трепещущее бытие человека, безнадежно выпавшего из мира устойчивых форм. Таким образом риторический план решает онтологическую задачу. Топика «золотой середины» (аф. 108) высвечивает срединную ситуацию человека, оказавшегося между аксиоматичным вышним миром и земным миром частности, случайности. Недаром особое место в философии этого времени занимает онтологическая проблематика. «Жизнь есть сон» — это определенная попытка абсолютизации и жизни, и сна. И жизнь, и сон удержаны этим «есть», единственно возможным субстанциальным решением. Если что-то определимо, значит, оно существует, хотя бы в виде имени на гробовой доске. «Приписывать имя вещам и именовать этим именем их бытие, вот фундаментальная задача классической „дискурсии“. В течение двух веков речь в западной культуре была местом онтологии». Этим рассуждением М. Фуко жестко указывает на риторическую направленность философии XVII-XVIII вв. В самом деле, сказать, что жизнь есть сон, означает дать некоторое оправдание жизни, доказать не столько, что она является сном, сколько, что она вообще является, существует, более того, ее явление весьма вероятно может происходить именно в форме сновидения.
Показательна в этом смысле грасиановская антиномия бытия и явления (ser — parecer), обозначенная им в афоризме 14 как «сущность и манера» (la realidad у el modo): «Суть дела — полдела; не менее существенно, как дело сделано». Трудно, да и бессмысленно, с точки зрения барочной поэтики, искать грань между сущностью и манерой. Одно как бы является моментом другого: является, следовательно, существует. Дело не в том, чтобы, как у Ларошфуко, например, показать, что одна материя скрывает другую («Наши добродетели это чаще всего искусно переряженные пороки»). В отличие от мыслителя-классициста, для Грасиана внешнее — способ сохраниться, некая опора, тот маскарад, который не только не противостоит подлинности, но обозначает ее, помогает ей. Если Ларошфуко требуется лакмусовая бумажка, чтобы обнаружить иную сущность данного раствора (не ту, какой она кажется), то у Грасиана нет речи о двух сущностях. Она одна и едина, но чем богаче маски реальности, тем надежнее они сохраняют ее.
Игровая ситуация «Карманного оракула» разворачивается в поле риторической протяженности. Ее пределы удачно обозначены первым и последним афоризмами. В первом выступает субъект игры — «личность», «мудрец», умеющий ловко вращаться в подвижном обществе, тот самый случай, casus — «неповторимая комбинация стабильных общих мест», который затевает игру, чтобы заново собрать и закрепить распавшийся калейдоскоп этих общих мест. Их триста в «Карманном оракуле», и трехсотый афоризм венчает их прихотливую игру похвалой святости (santo). Только здесь общее торжествует над частным: лишь добродетель однозначна, равна себе, подлинна, она не требует доказательства, она не нуждается в героях, не зависит от фортуны: «Добродетель — солнце малого мира нашего, ее небосвод — чистая совесть; прекрасная, она снискала любовь бога и любовь людей». Она совершенна и самодовлеюща. Но именно эта ее самозамкнутость и совершенство ставят ее по ту сторону здешнего бытия и лишь на конец развязанной без нее игры.
Здесь перед нами в точном смысле закат традиции, о которой писал А. В. Михайлов. Если в барочном сознании этот закат традиции порождал ощущение оторванности, неприкаянности, отдельности, то свидетели той же ситуации в рамках классицизма переживали ее как событие, требующее личного участия. Характерно, что расиновская Федра приносит себя в жертву скрытому Солнцу, полагая себя виновной в его закате. Здесь мы имеем дело с кризисом риторической традиции — с ее вершинным, но смертельным для нее проявлением: частное уничтожает себя ради подчинения общему. Закат трагедии обозначил конец автономности риторической традиции, в полной мере осуществленной к тому времени, когда Шеллинг писал в «Философии искусства»: «Непреодолимая сила судьбы, казавшаяся абсолютной величиной, оказывается теперь лишь относительной величиной, ведь эта сила преодолевается волей и становится символом абсолютно великого, т. е. возвышенного строя души». Риторическое сознание неспособно на акт такой релятивации абсолюта. Оно строго монологично и не выходит за границы своего монологизма, как бы далеко они ни отстояли друг от друга.
Поэтому ясно, что внутри риторической традиции только в споре с нею мог появиться роман как жанр саморазвивающийся, «наращивающий стиль», как жанр полифонический. В роман такого рода, повторим, произведение риторическое могло бы само войти как один из пластов, «голосов». Замечено, что монологи Дон Кихота строятся по всем правилам риторического убеждения. Сервантес воспроизводит не только рыцарский тип сознания, но, что важнее и шире этого, — риторический стиль эпохи. Встреча этого стиля с другими, например в диалоге Дон Кихота и Санчо Пансы, обеспечивает «наращивание» романного слова. Диалог же Андренио и Критило, центральной пары грасиановского «Критикона», отнюдь не представляет собой подобного совмещения двух стилей. Он протяжен внутри единой монологической реальности, здесь перед нами аллегория того же антиномизма общих мест, что и в «Карманном оракуле»: «натура» и «культура» не сталкиваются в неразрешимом конфликте, но создают единый рисунок, одну из тех сочетающих противоположные начала эмблем, которые так любил XVII в. В грасиановском мире этот антиномизм — непременная часть и условие общего порядка вещей. Так, Критило восклицает: «Жизнь человека на земле — сплошная распря. О дивная, бесконечно мудрая прозорливость Великого Настройщика всего сотворенного! Самой этой непрестанной и многообразной борьбою противоположных творений она упорядочивает, поддерживает и охраняет огромную махину вселенной» (I, III). Именно этот общий порядок мира, некий смысл поверх абсурда частностей становится художественным пространством «Критикона», здесь каждая деталь равна самой себе и отвечает своему месту в общем порядке вещей. Последний и задает дидактический характер всего текста в целом и любого его пассажа.
Приведенная цитата — не личное высказывание Критило, ибо в риторической прозе начисто отсутствует уровень субъективности персонажей, в отличие от романа в бахтинском понимании. Это и не личное мнение Грасиана. Авторское сознание здесь чрезвычайно широко, но и безличностно, оно как бы отождествляется с самим жанром, с самим Великим Настройщиком. Поэтому-то в риторическом романе нет рефлексии жанра над самим собой: для нее не остается места в этом отлаженном механизме.
Риторическая проза крайне статична, сюжет и характеры лишены всякой возможности органического саморазвития. Эпизоды пристраиваются один к другому, как в хитроумном консептистском пасьянсе. Грасиан то разлучает Критило и Андренио, то сводит их, то пускает их во дворец, то ввергает в пещеру, то привлекает их к мудрой Артемии, то оставляет в руках коварной Фальсирены... и так до тех пор, пока в конце, как в «Карманном оракуле», не восторжествует добродетель, где, перефразируя Грасиана, Солдату уже не найдется что возразить. По этому же типу строятся и многие диалоги в «Критиконе»: тезис — антитезис — мирящая их мудрость (например, в споре о том, кто лучше: глупый француз или пьяный немец, делается вывод: оба худы — «у одного мозги высохли, у другого размокли»).
Слово у Грасиана постоянно стремится к этому месту устойчивости, успокоенности. Стоит завязаться какой-нибудь интриге (например, в эпизоде поисков Андренио, глава «Чары Фальсирены»), как она начинает обрастать множеством посторонних рассуждений, как бы не пускающих ее развиваться по своей воле. Здесь явное отличие от плутовского романа и трагикомедии, в которых драматическая стихия очевидно побеждает монологическую. Для Грасиана гораздо важнее, чем чинить Критило препятствия в поисках Андренио, дать ему возможность произнести: «Как же так? Почему мы его не находим? Ведь столько скотов видим, столько ослов встречаем!» (І, XII).
Найденное слово снимает, разряжает напряжение, создаваемое событийным планом романа. Здесь мы сталкиваемся с проблемой дифференциации уровней риторической прозы Грасиана. Точнее было бы говорить о двойственности этих планов: монологического и драматического. Очевидно, что слово, речь в «Критиконе» поглощает действие, но ясно и то, что есть слова и действия, относящиеся к конкретно-содержательному слою романа, и есть слова и действия, которые задаются формально-структурообразующим уровнем. Так сцену, в которой девять мудрецов высказывают каждый свое представление о счастье (гл. «Обретенная Фелисинда»), следует рассматривать в двух аспектах: 1) то, что они говорят («счастья ни у кого нет», «счастье в достижении желаемого», «блаженство в том, чтобы не желать ничего» и т. д. — целый букет общих мест), и то, как они говорят (вызывая хвалебные возгласы, подстегивая жажду слушателей, приводя всех в восхищение и т. д.); 2) самый факт их беседы: то, что они говорят, и то, как они говорят. Первый аспект раскрывает «материальный» уровень «Критикона», который составляют риторические фигуры и вообще весь арсенал искусства красноречия. Второй аспект раскрывает способ обращения Грасиана с этим оружием, «мастерство остромыслия», возможностям которого, собственно, и посвящен весь трактат «Остроумие, или искусство изощренного ума». «Тропы и риторические фигуры — это как бы материал и основа, на которой возводит свои красоты остроумие, — говорится в трактате Грасиана, — что риторика считает только формой, в том наше искусство видит самое материю и придает ей блеск». В таком консептистском (концептуальном) отношении к средству как к материалу суть не только грасиановского метода, но и всей барочной риторики. Тропы в метафоризме барокко составляют, по мнению Ю. М. Лотмана, «способ образования особого строя сознания»; при этом сказанное Ю. М. Лотманом о Тезауро, что риторические фигуры «составляют для него самое основу механизма мышления, той высшей Гениальности, которая одухотворяет и человека, и вселенную», точно так же относится и к Бальтасару Грасиану, и к Франсиско де Кеведо, и к Луису де Гонгоре.
В романе есть любопытный эпизод. Критило и Андренио встречают Дешифровщика мира. Узнав от него, что все на свете «вплоть до запятой» зашифровано, Андренио страшно удивляется и тем выдает свое незнание мира. Все, что существует, — только шифры. Дешифровщик не столько раскрывает, сколько раздает их: «это самое», «дифтонг», «титло» и т. д. Объект этого занятия — не истинное или ложное положение вещей (как у французских моралистов), но их бытие или небытие. Чтобы быть, нужно быть означенным — так в «Критиконе» продолжается одна из главных тем «Карманного оракула». Все, чего нет (авторов пустых книг, льстецов на голом месте, бездеятельного отпрыска благородной семьи), Грасиан отправляет в самое страшное место — Пещеру Ничто. Только глупец не знает, что живет среди «ролей под шифром». Подлинности следует искать лишь на небе. Предел для личности — понять это. Обрести Фелисинду (=блаженство) означает узнать, что «она умерла для мира и живет для небес». Риторические фигуры заменяют, обозначают и объясняют реальность в «Критиконе». Такая универсализация мира как сцены для игры общих мест отвечала насущной потребности человека барокко найти устойчивую точку равновесия между распавшимся миром частностей и цельным, но далеким абсолютом. Поэтому так устойчива, так выверена структура «Критикона»: не роман, но некий дагерротип его, в котором прослеживаются лишь черное да белое и лишь общие линии, — мужественная попытка «снять» гармонический отпечаток с дисгармонического мира. В истории литературы это был последний опыт такого рода. Но традиция, на закате которой он совершался, не вовсе исчезла с поворотом «колеса Времени»: ее голос, хотя и утратил свою автономность и свои права, продолжал жить в полифоническом звучании литературы последующих веков.
Л-ра: Сервантесовские чтения 1988. – Ленинград, 1988. – С. 221-228.
Критика