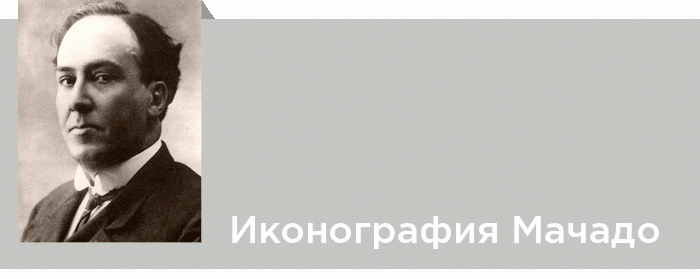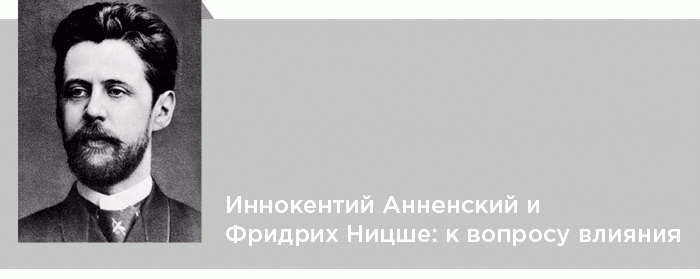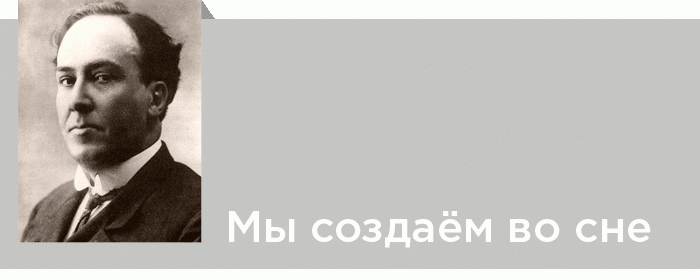Антонио Мачадо и изобразительное искусство

В. Г. Гинько
Известно, что писатели часто берутся за карандаш или прибегают к тому же перу, чтобы зарисовать лицо, пейзаж или какой-нибудь сюжет. Иногда они всерьез увлекаются живописью. Многие писатели — современники Антонио Мачадо — рисовали и даже писали маслом. Альфонсо Родригес Кастелао (1886-1950) и Сантьяго Русиньоль (1861-1931) получили известность и как писатели и как художники. Неплохим рисовальщиком в юные годы и живописцем-любителем в зрелости был Бенито Перес Гальдос. Пио Бароха в юности брал уроки живописи и участвовал в одной из национальных выставок. Живописью занимался Рамон Перес де Айала (1880-1962). Рисовали Рамон Гомес де ла Серна (1888-1963) и Эухенио д’Орс (1882-1954). Хуан Рамон Хименес относился к своим занятиям живописью и рисованием с серьезностью профессионала. Для Федерико Гарсиа Лорки, который иллюстрировал свои стихи и письма, рисовал эскизы декораций и костюмов к пьесам, рисунок был продолжением слова или прелюдией к нему. Рафаэль Альберти учился живописи и по сей день называет себя художником. К сорока годам открыл в себе художника поэт Хосе Морено Вилья (1887-1955).
По утверждению Пио Барохи, в годы его молодости «считалось почти обязанностью для писателя иметь определенные мнения в вопросах искусства». Действительно, прозаики и поэты поколения Мачадо и более молодые охотно выражали свои суждения о старом и новом искусстве. Мигель де Унамуно написал вводную статью к альбому Игнасио Сулоаги; Грегорио Мартинес Сьерра — вступительные тексты к альбомам Русиньоля. Бароха писал о Дарио де Регойосе, с которым был дружен. Историей искусства или его проблемами, творчеством старых мастеров или современных художников интересовались Асорин, Хименес, Гомес де ла Серна, Морено Вилья, Перес де Айала, Хосе Вергамин, Альберти.
О писателях своего поколения Асорин писал, что они жили «в художественной атмосфере» («en un ambiente de pintura»). Сам он, по собственному признанию, садясь за рабочий стол, представлял себя за мольбертом. Поэт Франсиско Вильяэспеса выражал свое кредо, оглядываясь на живопись: «Писать (pintar) цветы, но не такими, как они есть, а как мы их видим...». Бароха хотел стать художником и даже конкретнее — импрессионистом. Рамон дель Валье-Инклан, по словам знавшего его живописца, «предпочитал общество художников и скульпторов, избегая общения с товарищами по профессии». В кафе «Нуэво Леванте», где он в начале века собрал вокруг себя молодых художников неофициального толка, «на протяжении десяти или двенадцати лет сосредоточивалась художественная жизнь Мадрида».
Творческое наследие Антонио Мачадо не дает столь красноречивых примеров близкого соприкосновения с миром изобразительного искусства. Нет никаких сведений о том, что он когда бы то ни было пробовал свои силы в рисовании, живописи или сожалел, что не был художником. Он не написал ни одной статьи о художниках или проблемах живописи. Более того, автор «Полей Кастилии» утверждал, что искусству предпочитает природу. Значит ли это, что он был равнодушен к искусству? Справедливо ли будет предположить, что поэт был свободен от его влияния? Постановка последнего вопроса представляется естественной, принимая во внимание ту атмосферу взаимного тяготения и заинтересованности, которая характеризовала отношения между литературой и искусством в те десятилетия, когда работал поэт. Мы видим нашу задачу в том, чтобы выявить факты непосредственных контактов Антонио Мачадо с деятелями искусства (к сожалению, «летопись жизни» поэта полна пробелов, по-видимому уже не восполнимых), собрать содержащиеся в его произведениях, письмах, рукописях отклики на те или иные явления художественной жизни, определив действительное место, которое занимало искусство в сфере его духовных интересов, и тем самым приблизиться к вопросу о связях его творчества с изобразительным искусством.
Коротко напомним основные этапы жизни поэта. Антонио Мачадо родился в 1875 году в Севилье. В 1883 году отец, филолог-фольклорист А. Мачадо Альварес, перевез семью в Мадрид. Здесь Антонио получил среднее образование, сблизился с писателями своего поколения, написал две книги: «Одиночества» (1903), «Одиночества, Галереи и другие стихи» (1907). С 1907 по 1931 год он преподавал французский язык в провинции: в Сории (1907-1912), Баэсе (1912-1919) и Сеговии (1919-1931). За эти годы поэт выпустил еще два сборника: «Поля Кастилии» (1912), «Новые песни» (1924) — и подготовил два издания «Полного собрания стихотворений» (1917, 1928). Затем снова Мадрид, третье и четвертое издания собрания стихов (1933, 1936), книга прозы «Хуан де Майрена» (1936). 18 июля 1936 года разразился фашистский мятеж. Последовали месяцы эвакуации в Валенсии (с ноября 1936 г.) и Барселоне (с апреля 1938 г.), около двух лет напряженной работы для республиканской печати. Потом тяжелый переход французской границы в колонне республиканских беженцев (январь 1939 г.), вскоре после которого поэта не стало.
В семье Мачадо живописью занималась бабка Антонио по отцовской линии Сиприана Альварес Дуран. В 1880 году, когда Антонио было пять лет, Сиприана Альварес написала его первый портрет.
Возможно, под домашним влиянием родилась тяга к живописи у брата Антонио — Хосе Мачадо (1879-1958). Он много писал и рисовал поэта в разные периоды, вплоть до последних дней. Несмотря на скромные успехи, Хосе всю жизнь упорно занимался рисунком и масляной живописью, причем многие годы работал рядом с Антонио. Таким образом, Антонио Мачадо с ранних лет имел возможность наблюдать отношения художника с предметным миром и моделью.
В 1883 году восьмилетнего Антонио определили в начальный класс Свободного института просвещения. В этом передовом для своего времени учебном центре примерно на четверть века раньше, чем в государственных университетах, было введено в программу преподавание истории изобразительных искусств. В проспекте института на 1885-1886 годы говорилось, в частности, о том, что «есть целые курсы, такие, как история живописи, скульптуры и декоративных искусств, которые даются в музеях...». Очевидно, в эти первые мадридские годы — годы занятий в Свободном институте — состоялось знакомство Мачадо с художественной коллекцией музея Прадо.
Одним из наиболее ценимых им педагогов института был искусствовед Мануэль Бартоломе Коссио (1858-1935), автор монографии «Эль Греко» (1908), которая дала забытому художнику новую оценку и послужила хорошей основой для дальнейшего его изучения. Не будет большой смелостью предположить, что Мачадо читал это важное для судьбы Эль Греко в нашем веке исследование.
В 1893 году Антонио вместе со старшим братом Мануэлем (1874-1947) сотрудничал в мадридском сатирическом еженедельнике «Карикатура». Братья писали с натуры, находя своих персонажей на улице, в кафе, театрах и т. д. Один из очерков для этого журнала Антонио посвятил «жрецам» искусства, чьи способности не соответствуют притязаниям. Тут выведены два типа: актер Лопес и живописец Гомес. Последний отрекомендован как давний знакомый автора. Ему явно чужды сомнения в собственных силах. «...Ты знаешь мой стиль. Рафаэль выписывал детали, я — нет. ...хотя у всех нас, великих художников, одна модель — реальность, каждый, конечно, видит и передает ее по-своему». Между тем, слушая разглагольствования «будущего Веласкеса», рассказчик тщетно пытается угадать, что изображено на холстах, заполняющих мастерскую. Речь здесь, собственно, идет не о живописи какой-то определенной школы, а о человеческом типе, который мог бы войти в серию «характеров» Феофраста. Впрочем, темы, над которыми работает Гомес — «Наполеон в Фермопилах», «Святое семейство», — наводят на предположение, что прототип героя «дерзал» в русле господствовавшего в те времена академизма.
На художественных выставках 90-х годов прошлого века уже появлялись полотна, отмеченные новыми веяниями, но тон задавали эпигоны академической школы. В столичных газетах тех лет мелькали имена ее мэтров: Ф. Мадрасо (1815-1894), Ф. Прадильи (1841-1921), X. Морено Карбонеро (1858-1942), сообщалось и о первых успехах в парижском Салоне молодого валенсийца X. Сорольи, в будущем известнейшего живописца испанского импрессионизма. Мадридская пресса печатала обзоры национальных выставок, проходивших раз в два года; писала о работе скульпторов над конкурсным проектом памятника Веласкесу и о протестах учеников Школы изящных искусств Сан Фернандо в связи с отменой натурного класса (обнаженная натура); ратовала за то, чтобы прах Гойи был перевезен из Бордо на родину. В столичном «Атенее» читались лекции по истории европейской живописи. Королевским декретом от 8 августа 1894 года был открыт Музей современного искусства.
Друг братьев Мачадо Рикардо Кальво (1880 - ?) утверждает, что в мадридских кафе, где они обыкновенно проводили часы досуга, бывали «многие и очень значительные художники». Но определенно назван только брат Пио Барохи Рикардо (1871-1953), рисовальщик, гравер и живописец. Технику офорта он начал осваивать в 1901 году и, добившись в этой области значительных успехов, оставил большое число листов с изображением будничных сцен и пейзажей. «Дороги, села и постоялые дворы Кастилии, горные пейзажи и крестьяне в широких плащах, изгороди загонов и стены заброшенных садов, бродяги у костра на обочине дороги, нищие в ночлежках, мадридские переулки с убогими домишками и наготой каменных стен, пустыри окраин, по которым тянутся катафалки, кофейни с сомнительной публикой...» — таковы были темы графики Барохи.
Кроме упомянутого выше Р. Кальво, будущего актера-трагика, Антонио и Мануэль Мачадо сдружились в 90-е годы с Антонио де Сайасом (1871-1941), будущим дипломатом. Все четверо писали стихи. В 1902 году А. де Сайас выпустил сразу две книги: «Византийские жемчужины» и «Старые портреты». Газета «Пайс» поместила рецензию на них Антонио Мачадо.
Анализируя сонеты второй книги Сайаса, написанные на темы картин старых европейских мастеров (Рафаэля, Веласкеса, Ван Дейка, Рембрандта...), Мачадо ищет соответствия между особенностями живописного языка того или иного художника и их отражением в слове. Так, о сонетах на темы работ флорентийских художников Возрождения он пишет: «Его [Сайаса] флорентийские портреты отражают душу Ренессанса средствами, которые еще отвечают скульптурному идеалу: чистота и точность контуров. В них слово рисует и лепит...» О венецианской школе: «В портретах венецианских живописцев, которые описывает Сайас, мы становимся свидетелями большого продвижения живописи вперед, при котором цвет и оттенок приобретают большее значение, чем линия...» Эти замечания подтверждают свидетельство Хосе Мачадо, писавшего о том, что Антонио часто бывал в Прадо, внимательно и последовательно изучал экспозиции музея, прослеживая развитие живописи от примитивов до Гойи. Несомненно, поэт пользуется в характеристике художественных школ теми наблюдениями и знаниями, которые приобрел в залах Прадо.
Одновременно с Сайасом к живописи обратился Мануэль Мачадо. Впечатления, полученные им в 900-е годы в севильском Музее изящных искусств, Прадо, Лувре и других картинных галереях, Мануэль закрепил в сонетах, которые составили книгу «Аполлон. Живописный театр» (1911). Книга включала сонеты по мотивам картин выдающихся живописцев Европы: Беато Анжелико, Леонардо да Винчи, Ван Дейка, Тициана, Эль Греко, Веласкеса, Мурильо, Гойи, Э. Мане и других. В отличие от А. де Сайаса, который стремился — это отмечено в рецензии Антонио Мачадо — к объективности и точности в поэтическом воспроизведении живописных полотен, Мануэль искал синтез заложенной в картине данности (чувства живописца, состояние искусства в его время, дух эпохи) и непредвиденных художником впечатлений человека другой эпохи, сознательно допуская отступления от живописных оригиналов.
Отклики Антонио Мачадо на «живописную» поэзию Мануэля содержатся в черновой тетради «Дополнения», куда он делал записи с 1913 по 1925 год. На одной из первых страниц тетради списан сонет «Донья Хуана Безумная» (на тему картины Ван Летхема), и ниже дана оценка сборника «Аполлон», из которого взят сонет: «...Чудесная книга живописных сонетов». Однако со вниманием встретив опыты брата и друга, сам Антонио не последовал их примеру.
На рубеже веков Мачадо дважды был в Париже (июнь-октябрь 1899 г. и апрель-август 1902 г.). Впервые выезжая из Испании, возможно, он еще застал торжества по случаю 300-летия со дня рождения Веласкеса: б июня 1899 года в Прадо был открыт новый зал Веласкеса, 14 июня — памятник художнику перед музеем.
О жизни Мачадо в Париже известно мало. Прямых данных о его знакомстве с новыми течениями в тогдашнем центре европейской художественной жизни нет. Однако позже, в заметках 20-30-х годов, размышляя о европейской художественной культуре прошлого века, он касается и развития изобразительного искусства. Дискредитация разума, говорится в одной из заметок, «агностическая вера» породили «искусство слепых музыкантов». «Сама живопись — импрессионизм — это живопись слепых, которые хотят нащупать свет». «Человек XIX века ищет в музыке — Вагнер — утешения от полного угасания лейбницианского мира, у которого повсюду были глаза... Сама живопись, импрессионизм — это искусство глаз, которые не видят и хотят нащупать свет». И наконец, подчеркивая значение времени для искусства XIX столетия: «Оно бедно архитектурой и скульптурой. В живописи оно было натуралистичным, импрессионистским, люминистским; это временные способы быть живописцем...»
Также в поздней заметке «Природа и искусство» (1920) Мачадо упоминает художника Эрменехильдо Англаду: «...в известной литературной зоне я чувствую косметический душок, который напоминает мне cabarets Монмартра, картины Англады... Искусство, перегруженное ощущениями, сегодня мне кажется не совсем уместным. Всему свое время. Нам нужен свежий горный воздух, не наркотические ароматы».
Каталонский живописец Эрменехильдо Англада (1872-1959) приехал учиться в Париж в 1894 году. «... завороженный ночной жизнью города, он начинает изучать атмосферу кабаре, цвет, свет, публику. ...пишет серию интерьеров в вечернем освещении в духе Тулуз-Лотрека или Дега, но с ярко выраженными различиями в смысле цвета (более интенсивный) и техники (более стремительная и свободная)...» В 1898 году состоялась персональная выставка Англады в Париже. Она имела успех. С воодушевлением художника встретили Барселона (1900), а за ней ряд европейских столиц. В Мадриде первая выставка Англады открылась в 1916 году, когда парижский этап его творчества был далеко позади. Следовательно, можно предположить, что Мачадо, знавший именно раннего Англаду, видел его во время своих первых поездок во французскую столицу.
К началу века относится знакомство поэта с кордовским живописцем Хулио Ромеро де Торресом (1880-1930). В одном из писем Мачадо 1930 года читаем: «... Только что получил печальное известие о смерти Хулио Ромеро де Торреса... Он был хорошим нашим другом, большим художником и необыкновенно добрым человеком. Я познакомился с ним в Кордове много лет назад, ездил с ним по тем землям, чьих женщин он умел писать лучше всех, и радовался его победам художника. Он был самым скромным художником из всех, каких я знал... У него была душа ребенка. Новое поколение уже предало его забвению. Но его живопись останется».
Впервые Мачадо встретился с художником в 1903 году, когда сопровождал Валье-Инклана в Гранаду. Многих художников (X. Соролью, В. де Субиаурре, И. Сулоагу и др.) в 900-10-е годы привлекали региональные особенности, характерность пейзажа и обитателей различных областей страны, трактовавшиеся ими часто в символическом смысле. Ромеро де Торрес представлял андалузский вариант этого «регионализма». Его портреты и картины, изображавшие андалузских женщин («Живущие любовью», «Кармен», «Цыганская муза», «Освящение коплы» и т. д.), давали критикам пищу для рассуждений о некоей метафизической тайне, заключенной в душе андалузки. Так толковал его произведения в сонете «Женщины Ромеро де Торреса» и Мануэль Мачадо, называя даже художника «кордовским Леонардо». Нетрудно найти точки соприкосновения в творчестве Ромеро де Торреса и Мануэля Мачадо. Но едва ли живопись Ромеро де Торреса была братьям Мачадо равно близка. Антонио посвятил ему в 1908 году стихотворение «Осенний рассвет»:
Эта долгая дорога, серый камень сьерры дикой, в стороне, неподалеку —
черные быки. И снова: дрок, бурьян и ежевика... (Перевод В. Андреева)
Живопись Ромеро де Торреса не нашла в нем никакого отзвука. Автору монументальных символических полотен — «чистый» пейзаж. Современные искусствоведы, отмечая, что Ромеро де Торрес был оценен в литературных кругах выше, чем заслуживал, объясняют это влиянием человеческих качеств художника. В цитированном письме Мачадо о привлекательных свойствах личности живописца говорится более убедительно и ясно, чем о его творческих достижениях.
«Осенний рассвет» — своего рода исключение в творческой практике Мачадо: других стихотворений, посвященных художникам, у него мы не знаем. Однако в одном из писем X. Р. Хименесу 1912 или 1913 года он сообщал: «...Ищу в своих бумагах стихотворение (una composición), которое написал к пейзажам Русиньоля, чтобы послать тебе...»
Барселонский живописец и писатель Сантьяго Русиньоль (1861-1931), учась в Париже у импрессионистов, по их примеру обратился к повседневности «в момент, когда большинство живописцев еще посвящало свои напыщенные кисти воссозданию великих исторических «событий» с парадными костюмами, фальшивым блеском мишуры, величественными позами героев далеких времен...» Вскоре по возвращении домой художник стал одним из лидеров «барселонского модернизма». Поездка в 1897 году в Гранаду определила область его интересов: Русиньоль стал живописцем садов. Он увлекся пейзажами Мальорки, писал сады Валенсии, Андалузии и в начале 10-х годов был уже признанным художником. В 1913 году Р. Дарио писал о нем, «садовнике с пером и кистью», для своего парижского журнала «Мундиаль». Судьба стихотворения Мачадо, посвященного художнику, неизвестна. Остается факт: поэт знал пейзажи Русиньоля.
Среди записей в «Дополнениях», датированных 1915 годом, одна прямо относится к нашей теме. Она озаглавлена «Художник Солана». «Этот Гойя, тяготеющий к мертвому (necrómano), или, что то же самое, этот антипод Гойи с нездоровым удовольствием пишет живое похожим на мертвое, а мертвое — похожим на живое. Но мы должны простить ему это нездоровье из признательности за смелость его кисти. Этот реализм кошмарного сна, который оживляет тряпки, черепа и манекены и делает безжизненными человеческие лица, подчеркивая все, что в них есть землистого и застылого, являет собой дурной сон испанского искусства, возможно — угол зрения, дополняющий наше эстетическое бодрствование...»
На ту же особенность Соланы — видеть и изображать живое мертвым, а мертвое живым — указывает Мачадо, не называя имени художника, в одном из фрагментов «Хуана де Майрены» (гл. XXX). «Этот живописец изображает нам людей с мертвенными лицами вокруг мраморного стола, а на нем чашки, бокалы и сверкающие бутылки, которые словно оживлены каким-то странным беспокойством...» (Здесь, очевидно, подразумевается работа Гутьерреса Соланы, выполненная в 1917-1920 годах: групповой портрет участников литературного кружка Р. Гомеса де ла Серны в столичном кафе «Помбо».) «...Это живописец, который увидел жизнь там, где мы ее не видим, и который лучше нас заметил смерть за нашей спиной. Мне он представляется просто гениальным художником, принимая во внимание то, что, видя вещи такими, какими мы их не видим, он заставляет нас видеть их так, как видит сам...»
Фрагмент говорит об устойчивом интересе к творчеству Хосе Гутьерреса Соланы (1886-1945). С произведениями этого мадридского художника Мачадо познакомился, судя по первому отклику, задолго до его персональной выставки, организованной в Музее современного искусства в 1927 году. Возможно, поэт видел его работы на небольших коллективных выставках 1906 и 1907 годов. Их личное знакомство могло произойти в кафе «Нуэво Леванте», где собирался кружок Валье-Инклана: Р. Бароха, X. Ромеро де Торрес, И. Сулоага, Л. Орос, А. Артета, А. Гарсиа Лесмес, В. де Субиаурре и другие художники. Солана был завсегдатаем этого кафе с 1906 по 1916 год, то есть до сближения с литературной группой «Помбо».
Судьба свела Мачадо и Солану в ноябрьские дни 1936 года, когда фашистская авиация бомбила Мадрид. Они попали в одну группу эвакуируемых. А летом 1937 года Мачадо снова писал о художнике: «И сегодняшний Солана остается всегдашним Соланой ... настоящим монстром среди шарлатанов от ужасного, который пишет с силой великих мастеров. Тем, кто не знает его прежних работ, художник Солана может показаться порождением сегодняшней войны. Тем не менее очевидно, что война не добавила ни грана ужаса тем фигурам из кошмаров, к которым Солана нас приучил».
Вернемся теперь к 10-м годам нашего века. В это десятилетие Мачадо писали художники Леандро Орос и Хоакин Соролья. Как выше отмечено, Л. Орос входил в число художников, собиравшихся в «Нуэво Леванте», поэтому, возможно, его знакомство с поэтом состоялось еще в начале века. X. Соролья был близок к создателям Свободного института, писал портреты Ф. Хинера, Г. де Аскарате и в 1908 году — Мануэля Бартоломе Коссио. Поэт не оставил никаких заметок по поводу работ Ороса и Сорольи. Осталась только оценка портрета М. Б. Коссио, на смерть которого в «Хуане де Майрене» он писал: «Велика была духовная красота великого испанца, который сегодня нас покидает... Нам не осталось хорошего его портрета. Лучший из тех, что у нас есть, написан одним валенсийцем, который хорошо передает изящество фигуры. Но ничего более. Выражение лица получилось вялым и неопределенным, как будто руке недостало твердости, чтобы запечатлеть ту внутреннюю значительность без тени напыщенности, которую все мы в нем видели...»
Тесные связи с художественной средой установились у поэта в 20-е годы в Сеговии. Здесь он познакомился с керамистом и художником Даниэлем Сулоагой (1852-1921), дядей тогда уже знаменитого живописца Игнасио Сулоаги; начал бывать в мастерской керамиста Фернандо Арранса, где собиралась по вечерам местная интеллигенция, «читались стихи, шли споры на художественные и литературные темы, обсуждались только что вышедшие книги и просматривались свежие номера журнала «Ревиста де Оксиденте». По воспоминаниям современников, мастерская славилась за пределами города: в ней бывали приезжавшие в Сеговию художники, скульпторы и музыканты. Гостеприимством Арранса воспользовался писавший сеговийские пейзажи американский живописец и рисовальщик Бен Силберт. О нем и его спутнике, тоже художнике, X. Эчеваррии есть упоминание в письме Мачадо к Унамуно от 16 января 1929 года: «Последние вести, которые я получил о вас, пришли от мистера Силберта, американского художника, и вашего земляка дона Хосе Эчеваррии».
В мастерской Арранса скульптор Эмилиано Барраль сделал в 1922 году бюст Мачадо.
Впервые Мачадо упоминает Барраля в письме к X. Р. Хименесу от 2 мая 1921 года: «Представляю тебе скульптора Эмилиано Барраля, который проектирует памятник Рубену Дарио. Эта вещь, как ты сам можешь судить по эскизу, обещает быть прекрасной...»
На свой портрет, выполненный из мрамора, Мачадо ответил стихотворением «Скульптору Эмилиано Барралю» (1922). Вглядываясь в черты каменного липа — свое отражение, — он увидел в них следы разочарования, «мрачной меланхолии», состояния, «характерного для испанца», склонного к «грезам о величии», и усилил эту вычитанную в портрете характеристику в финальных, исполненных горечи стихах:
и под арками бровей глаза, устремленные вдаль, какие я хотел бы иметь, как у твоей скульптуры: высеченными в твердом камне, в камне, чтобы не видеть.
В бумагах Мачадо сохранился небольшой рукописный фрагмент под заглавием «Дети в соборе. Сеговийский скульптор»: «В этих старых, обремененных историей городах Кастилии... прекрасное заключено всегда и вопреки всему — о, поэты, братья мои! — в живой действительности, в том, что не высечено и никогда не будет высечено в камне: прекрасное — это дети, которые играют на улицах... ласточки, снующие у башен, даже трава на площадях и мох на крышах». Отрывок полемически обращен к тем, для кого Кастилия — музей, кто замечает и ценит в ее городах только памятники и символы былого. Это вторая часть заголовка, под которым написан этот текст, не указывает ли на намерение рассказать о сеговийском скульпторе Эмилиано Баррале?
В 30-е годы Барраль, как и Мачадо, работал в столице. Там он погиб в первые месяцы гражданской войны, возглавляя отряд сеговийских ополченцев.
Через год после гибели Барраля скончался Блас Самбрано, учитель из Сеговии, участник кружка Фернандо Арранса. «Дон Блас Самбрано, — писал Мачадо в связи с печальной вестью, — когда я познакомился с ним в Сеговии, был зрелым человеком, приближался к пятидесяти, имел мужественную, но совсем не солидную фигуру, а благородством головы походил на римлянина и флорентийца. Некоторые из нас вспоминали, глядя на него, Николо Уццано Донателло. Эмилиано Барраль сделал его портрет из очень твердого камня и называл его — дона Бласа и его бюст — архитектором акведука». Запись полна отголосков тех разговоров, что велись в сеговийской мастерской. Несомненно, именно Барраль познакомил своих друзей с творчеством Донателло, привезя из Италии фотографии его работ (портрет Н. да Уццано находится в Национальном музее Флоренции). На бюсте Самбрано скульптор действительно выбил шутливую надпись «Архитектор акведука», подразумевающую римский акведук в Сеговии.
В те же сеговийские годы поэта писал Кристобаль Руис (см. следующую статью). Очевидно, между портретистом и портретируемым сложились отношения взаимного интереса и симпатии. Известно, что их знакомство поддерживалось во время гражданской войны: художник бывал у поэта в Рокафорте (под Валенсией). Летом 1937 года Мачадо комментировал репродукции работ Руиса, помещенные в журнале «Мадрид»: «Портреты детей, которые пишет Кристобаль Руис, выражают чувство, соответствующее чувству его «пейзажей детства», отнюдь не детских пейзажей, потому что ничего от детского не имеет искусство, с которым они выполнены. Критика ... могла бы раскрыть нам, какова эта движущая эмоция, это глубокое чувство, которое у Кристобаля Руиса имеет два в равной степени аутентичных выхода: изображение детей и живопись полей». Мачадо не взялся разбирать произведения Руиса, только заметил, что пейзажи и портреты последнего связаны одним общим чувством, признав тем самым лирическое начало ведущим в искусстве художника. Это наблюдение совпадает с оценками современных искусствоведов, которые называют К. Руиса лириком.
В тех же комментариях ко второму номеру журнала «Мадрид» (1937) Мачадо посвятил несколько строк рисункам художника-монументалиста Артеты. «Фигуры, — писал он, — которые сегодня вычерчивает Аурелио Артета, художник из Бильбао, как спокойные, так патетические и страдальческие, были нам знакомы и близки. Однако увиденные в свете войны, они кажутся нам символами или аллегориями этой грандиозной схватки... Не знаю, может ли война создавать в искусстве новые ценности, но верно, что она выделяет и обновляет в наших глазах настоящие ценности, которые нам уже были известны».
Как видно из комментария, Мачадо обратил внимание на творчество баскского монументалиста Аурелио Артеты (1879-1940) еще в довоенное время.
По-видимому, к началу 30-х годов относится замысел, о котором вспоминает один из современников поэта: воздвигнуть в севильском парке Марии Луисы (заложен в 1893 г.) фонтан в честь братьев Мачадо, Антонио и Мануэля. Заказ на проектирование фонтана получил севилец, специалист по садово-парковой архитектуре и живописец Хавьер де Винтуйсен (Wirithuysen, 1874 - ?). На персональных выставках Винтуйсена-художника (Мадрид – 1916, 1924) экспонировались пейзажи Севильи, Аранхуэса, Пардо, Эскориала. В области садового искусства он был признанным практиком, знатоком, автором фундаментальных работ («Пейзажная архитектура», 1928; «Классические сады Испании», 1930). Вполне вероятно, что с этим художником поэта связывало многолетнее знакомство. В 1937 году Винтуйсен был частым гостем Мачадо, наезжая в Рокафорт почти ежедневно.
В 20-е годы, регулярно выезжая по выходным из Сеговии в Мадрид, и в 30-е, последние мадридские годы, Мачадо имел возможность следить за художественной жизнью в столице. К середине 20-х годов в испанском изобразительном искусстве окрепло авангардистское движение (выставка «иберийских художников» - Мадрид, 1925). Однако едва ли искусство авангарда вызывало у Мачадо сочувствие. Он критически воспринял поэтические эксперименты молодежи (креасьонизм, ультраизм), а позже, в «Хуане де Майрене», резко отозвался о сюрреалистах.
Приведенные нами факты свидетельствуют о том, что Мачадо знал немало художников своего времени. Но круг известных ему живописцев, несомненно, не ограничивался найденными в его текстах именами.
Он должен был видеть полотна пейзажиста Аурелиано де Беруэте (1845-1912). Единомышленник и друг основателей Свободного института, один из первых испанских импрессионистов, Беруэте писал горы Гвадаррамы, милые сердцу поэта («Это ты, Гвадаррама, старый друг...»). Мачадо наверняка присматривался к работам живописца Игнасио Сулоаги (1870-І945), которого ценили Унамуно, X. Ортега-и-Гассет, Асорин. (В июле 1912 года Мачадо писал Ортеге-и-Гассету, что перечитывает его статьи о Сулоаге, ничего к этому, правда, не добавив.) Старокастильские пейзажи, портреты и нарочито театральные композиции Сулоаги, призванные раскрыть надвременную сущность Испании, снискали уже в 10-е годы международную известность. Вероятно, поэту были известны произведения импрессиониста Дарио де Регойоса (1857-1913).
В творчестве художников — современников Мачадо — в той или иной мере сосуществовали элементы разных направлений: академизма, символизма, модернизма, импрессионизма. Но поэт не выказывал стремления свободно ориентироваться в этой пестроте. Вместе с тем черновые записи показывают, что его интересовал процесс творчества художника, и в первую очередь — портретиста.
Так, в «Дополнениях» за 1923 год читаем: «Писать по памяти? Нелепость. Ни один художник не делал этого. Писать с натуры? Уже лучше. Модель необходима. Чтобы копировать ее? Нет, чтобы в нее вдумываться».
Годом позже в той же тетради Мачадо записывает: «В портрете сходство [с оригиналом] должно быть таким, чтобы мы даже не задумывались о нем. Так, когда мы эстетически созерцаем природу, то делаем это со всей свободой, потому что сходство нас не беспокоит, ведь мы не сомневаемся в том, что реальный предмет похож на себя. Точно так же перед портретом Мартинеса Монтаньеса Веласкеса вопрос о сходстве не отвлекает нас от эстетического созерцания, потому что нам ни на мгновение не приходит в голову усомниться в нем.
Вывод: красота портрета заключена не в сходстве. Но портрет без сходства плох».
Запись интересна, во-первых, тем, что здесь проводится аналогия между произведением искусства — портретом — и живой природой. Но это не должно нас удивлять. Для Мачадо, скептически оценивавшего возможности фотографии, портрет, выполненный художником, был потенциально единственным достоверным отражением внешнего облика и внутреннего мира модели, по которому и потомки могут создать себе верное представление о личности портретируемого. Осуществленная, воплощенная возможность ставится на один уровень с реальностью. Во-вторых, Мачадо обнаруживает здесь свое безграничное доверие к кисти Веласкеса.
Уже рецензируя в начале века «Старые портреты» Сайаса, он утверждал: «...В портретах испанской школы мы видим апогей живописного искусства у Диего Веласкеса...» По свидетельству брата, к Веласкесу, Эль Греко и Гойе Антонио относился с особым вниманием. О Веласкесе он вспоминает в «Хуане де Майрене» трижды.
В главе XXXII он пишет: «...его [Веласкеса] картины не просто произведения живописи, а живопись. Когда о нем говорят, не всегда с восхищением, которого он заслуживает, его более или менее откровенно упрекают в бесстрастной объективности. И даже намекают этим словом — какое остроумие — на объектив фотографического аппарата. При этом забывают... что объективность... это чудо, творимое человеческим духом, и что, даже если бы мы все ею обладали, ухватить ее, чтобы оставить на холсте или в камне, — это всегда подвиг гигантов».
Второй раз поэт вспоминает Веласкеса там, где речь идет о поэзии Беккера: «Беккер — севилец? Да, но в духе Веласкеса, ловец (enjaulador), повелитель (encantador) времени». Заметим, что севильцами были и Сурбаран и Мурильо, но Веласкесу Мачадо отводит совершенно особое место как художнику, сумевшему ввести в пространственное искусство время.
Наконец, во фрагменте памяти М. Б. Коссио, часть которого мы уже цитировали, говорится: «...Более всего похожа на его [Коссио] портрет веласкесовская фигура маркиза Спинолы, берущего ключи побежденного города. Потому что здесь изображен генерал, который, кажется, победил силой духа ... Вот что написал Веласкес, превосходная кисть: благородную победу без тени самодовольства...»
Ни о ком из художников не говорил Мачадо с таким глубоким и безусловным восхищением, как о «великом севильце».
Об Эль Греко есть запись в «Дополнениях» (1923): «У Эль Греко, в сущности, нет общего с венецианцами. Напротив, он продолжатель Микеланджело. Сила, которая заключена в микеланджеловских телах, подчиненная классическому ренессансному идеалу, производит взрыв у Эль Греко. Смотри «Воскресение» в музее Прадо. Взрывная живопись, но взрывчатку подложил Микеланджело». Как бы продолжение этой записи находим в главе XV «Хуана де Майрены» (1935): «Эль Греко — это взрыв Микеланджело. Все, что есть динамичного в барокко, начинается у Буонаротти и кончается у Доменико Теотокопули...» Других суждений поэта о толедском живописце, который был кумиром его товарищей по поколению в их молодые годы, мы не знаем.
В биографии братьев Мачадо М. Перес Ферреро упоминает среди их неосуществленных драматургических замыслов комическую оперу «Вечера в Монклоа, или Ведьмы дона Франсиско». Нам представляется, что фрагмент из главы XVI «Хуана де Майрены» («Для чего, вы думаете, Гойя нам пишет обнаженной свою маху или даму?..») связан с этим замыслом. В тяжелые для испанской республики часы Мачадо вспоминает другого Гойю: «У Мадрида уже есть... короткая и славная традиция, отмеченная кровью и героизмом, короткая трагическая история, которую Гойя запечатлел навсегда...».
С именами Веласкеса, Эль Греко, Гойи мы встречаемся также в черновой записи 1923 года, где они стоят рядом с литературными именами. «...Толедо и Эль Греко. — Кордова и Гонгора. — Севилья и Веласкес. — Остров Сервантеса. Остров Веласкеса. — Чудо Гойи».
Как уже говорилось, у Антонио Мачадо не было опытов поэтической интерпретации произведений живописи. Но попытки портрета с натуры были. В декабре 1908 года он опубликовал в журнале «Лектура» стихотворение «Портрет», которое вошло в «Собрание стихотворений» под заглавием «Иконографическая фантазия». Вот оно:
Преждевременная лысина блестит над широким и суровым лбом,
под кожей бледного глянца угадывается изящный череп.
Острый подбородок и скулы, вычерченные линиями граверного резца;
и неожиданным пурпуром окрашенные губы,
словно пригрезившиеся какому-то флорентийцу.
Тогда как губы, кажется, улыбаются,
проницательные глаза,
которые от вдумчивой сосредоточенности сощурены,
смотрят и видят глубоко и цепко.
На его столе старая книга, на которой рассеянно покоится рука.
В глубине залы, в зеркале уснул золотой закат.
Фиолетовые горы и пепельные скалы, земля,
которую любят святой и поэт, стервятники и королевские орлы.
От открытого балкона к белой стене тянется оранжевая солнечная полоса, которая воспламеняет воздух в сумраке угла, где сложены доспехи.
К сожалению, нет возможности установить, кто послужил моделью для этого портрета, однако можно сделать некоторые выводы относительно искусства портретиста.
Описание воображаемого портрета дается в той последовательности, которую диктует жанр: в первую очередь центр композиции — лицо. Характеристика черт портретируемого одновременно указывает на внешние особенности (лоб, череп, подбородок, очертания скул, губы) и свойства личности модели (мягкость в выражении губ, пытливость и ум во взгляде...). Детали фона (книга, доспехи, пейзаж) довершают образ личности духовно активной и благородной.
Если задаться вопросом, к какой школе принадлежит автор портрета, то следует признать, что «Иконографическая фантазия» ориентирована на высокие образцы европейского портретного искусства. Поэт изобразил свою модель в ограниченном пространстве, но для укрупнения фигуры портретируемого ему нужен был дополнительный кастильский фон, и он ввел пейзаж посредством зеркала, используя прием, который дважды (в «Менинах» и «Венере перед зеркалом») применял Веласкес. «Фиолетовые горы», горы Гвадаррамы часто составляли фон к портретам, которые писал при мадридском дворе севильский живописец. В образе маркиза Спинолы, созданном Веласкесом, Мачадо увидел «нечто очень испанское и специфически кастильское»69, благородство и духовную силу. Портрет неизвестного, который пишет Мачадо, это тоже изображение человека, как нам внушает пейзаж, не просто живущего активной интеллектуальной жизнью, но воплощающего свойства своего рода и земли. Наконец, в описании даны глубина пространства и воздушная среда, в передаче которой живопись XVII века преуспела, а Веласкес стал великим мастером.
В «Дополнениях» есть попытка портрета отца, датированная 13 марта 1916 года. Стихотворение имеет двойной заголовок — «Во времени. Мой отец», сопровождаемый тремя датами: 1882, 1890, 1892. Мачадо поясняет: «Даты над стихотворением относятся к портретируемому, а под ним — к портретисту». Здесь нет композиционной цельности «картины», но развернут ряд моментальных образов, отчасти даже не «работающих» на воссоздание облика портретируемого (но в памяти связанных с ним) и не всегда имеющих собственно пластическое значение.
У меня уже почти есть портрет моего доброго отца, портрет во времени, но время его уносит.
Мой отец охотник на берегу Гуадалкивира, в такой ясный день!
Голубой ствол его ружья, и меткого выстрела белый дым!
Большие глаза, высокий лоб,
Худощавое лицо, гладкие усы.
Мой отец пишет — мелкие буквы,— задумался, грезит, волнуется, громко говорит.
Гуляет — о, отец мой! Ты еще здесь, время тебя не стерло!
Стихотворение — дальний прообраз сонета, опубликованного в 1925 году без заглавия и дат, — зафиксировало желание сообщить образам прошлого силу зримой становящейся реальности.
У Мачадо были и другие портретные наброски, написанные по памяти и зрительно неполные: в сонетах «Дону Рамону дель Валье-Инклану» (1923), «Пио Бароха», «Рамон Перес де Айала», «Асорин» («Новые песни», 1924). В последнем, посвященном Асорину, намечен даже фон к портрету писателя.
Отметим также, что в поэзии Антонио Мачадо есть пластически разработанные реалистические портреты социальных типов: провинциальный обыватель-«сеньорик» («Из призрачного прошлого», 1913), изображенный в щегольском местном наряде, но не ради местного колорита; аристократ («Плач по добродетелям и строфы на смерть дона Гидо», 1917), заставляющий вспомнить одухотворенные, утонченные лица на полотнах Эль Греко, но не по сходству (оно в оболочке), а по контрасту.
Вдова Хосе Мачадо, знавшая поэта с начала 20-х годов, вспоминает, что Антонио никогда не отказывался позировать брату. Хосе не работал по памяти, и те десять или более портретов Антонио Мачадо, которые он написал, потребовали от последнего многих часов терпения. Но, оценивая очередной свой портрет, поэт должен был взглянуть на себя глазами портретиста. О том, что Мачадо действительно приходилось смотреть на себя изучающим взглядом художника, свидетельствуют его стихи 20-х годов, тех лет, когда он думал и писал в «Дополнениях» о специфике портретного искусства.
Так он изучал свое лицо вслед за Барралем («Скульптору Эмилиано Барралю», 1922). Всматривался в свои измененные временем черты в стихотворении «Симпатии» (1922):
Чей это лоб? Чей
этот синеватый подбородок?
Чей этот запавший рот и эти глаза,
уставшие от мелких букв и далеких гор?
Отмечал с некоторой долей самоиронии следы старения в сонете, озаглавленном «Поэт посылает свой портрет прекрасной даме, которая прислала ему свой» (1924):
Когда вы увидите этот запавший рот, который жажда уже не беспокоит...
Вновь вглядывался в беспощадную работу времени в сонете, записанном в черновую тетрадь в 1924 году:
Время, что серебрит мне бороду, углубило глаза и увеличило лоб...
Однако выше речь шла только о портрете в творчестве Мачадо. Между тем значительное место в его поэзии занимал пейзаж.
Как констатировал Асорин в своей книге «Испанский пейзаж глазами испанцев» (1917), до романтиков пейзаж в испанской литературе почти не существовал. В свою очередь, историки испанского искусства датируют
начало расцвета национальной пейзажной живописи второй половиной XIX века. Таким образом, пейзаж вторгается в литературу и изобразительное искусство Испании одновременно и осваивается писателями и художниками параллельно. Вслед за именами пионеров испанского пейзажа Карлоса де Аэса (Haes, 1826-1898), Казимиро Сайнса (1853-1894), Мартина Рико (1833-1908), Рамона Марти Альсины (1826-1894), Аурелано де Беруэте историки искусства называют десятки имен живописцев, работавших в этом жанре на рубеже веков и в первой трети XX века. (Упоминавшиеся выше в связи с Мачадо художники почти все были пейзажистами: Русиньоль, Соролья, Р. Бароха, Сулоага, Винтуйсен, К. Руис...) Асорин, посвятивший свою книгу эссе «Кастилия» (1912) памяти А. де Беруэте, «чудесного живописца Кастилии», был сам одним из тех писателей, кто «начал любить старые кастильские города», «увидел пейзаж Испании». Для книги «Испанский пейзаж глазами испанцев» он без труда нашел пейзажи в текстах Р. де Кастро, Валье-Инклана, П. Барохи, В. Бласко Ибаньеса, Л. Аласа, Гальдоса, X. Валеры. По непонятным причинам Асорин не упомянул Антонио Мачадо, хотя уже в 1912 году вышел сборник «Поля Кастилии» и в автобиографии, посланной в 1913 г. Асорину по его просьбе, поэт сообщал, что готовит книгу «Пейзажные наброски» («Apuntes de paisaje»).
Пейзаж занимал немалое место и в первых книгах Мачадо «Одиночества», «Одиночества, Галереи и другие стихи». И тогда поэт прислушивался к пению воды — но в фонтане, всматривался в краски меркнущего дня или занимающегося утра — но в парке или саду. Пейзаж города с его старыми парками, внутренними дворами, нищими на папертях, мхом заросшими камнями площадей не имел самостоятельного значения, как и природа, которая подчинялась душевному состоянию, помогала выразить настроение. В этой городской живописи доминировал мотив увядания (пожелтевшие страницы писем, выцветшие дагерротипы, ветхие дома, пожухлые листья). Взгляд поэта искал внешних впечатлений, которые отвечали бы его внутренней жизни. Ему было неважно, какое дерево предстало перед ним осенним днем («Осенние впечатления», 1904):
Это разбитое дерево на белой дороге
вызывает слезы жалости.
Две ветки на patíério и стволе,
и на каждой увядший, черный лист.
И клакой шаг навстречу природе в стихотворении «Старому вязу» (1912), где образ дерева перестает быть отвлеченным и вспомогательным, это настоящий портрет векового вяза, хотя в заключительных стихах и устанавливается символическая связь его судьбы с судьбой самого художника.
Его разбила молния шальная, наполовину сгнивший старый вяз.
Но с ливнями апреля, с солнцем мая кой-где листва на ветках занялась.
Столетний вяз, с песчаного обрыва глядящий в медленный дуэрский плес! давно для короеда стал поживой, и ствол белесый желтым мхом порос.
Лишь муравьиный движется поток вдоль по стволу, и серой паутиной затянута пустая сердцевина.
запечатлею я в своем блокноте твоих листков зеленых благодать и, обернувшись к жизни, к свету, буду от дней весенних ждать для сердца моего другого чуда.
(Перевод М. Самаева)
Переезд в 1907 году в Сорию очень скоро дал новое направление, новые темы лирике Мачадо. Около четверти века прожил он в провинции и многие стихи этого периода посвятил землям Кастилии и Андалузии. В его пейзажной поэзии можно выделить этюды и зарисовки (например, «Песни и наброски», 1924), «картины», в которых пейзаж увиден и написан как воплощенная, живая История («К берегам Дуэро», «Берега Дуэро», «Из моего угла»).
Размышляя о поэзии X. Морено Вильи (1925), по поводу стихов «ты видишь, что небо алое, //а луг — желтый...?» Мачадо замечает: «Это красное небо и этот желтый луг дают нам представление о редких состояниях неба и луга и приближают нас к внутреннему миру поэта, который их улавливает, уводя нас от родовых образов — голубое небо или зеленый луг...» Это замечание можно было сделать, только усвоив уроки импрессионизма.
Поиск возможных связей между пейзажной лирикой Антонио Мачадо и пейзажем в испанском изобразительном искусстве предполагает тщательный анализ живописного материала. В интересной статье «Поэзия и живопись в кастильском пейзаже Антонио Мачадо» X. X. Мартин Гонсалес убедительно говорит о «живописности» поэзии Мачадо, но с собственно живописью ее не сопоставляет, отметив лишь, что полотна вальядолидского художника Аурелио Гарсиа Лесмеса (1885 - ?) «имеют много общего с мачадовской пейзажной поэзией». В свою очередь, автор статьи «Антонио Мачадо и его визуальный мир» Э. Лафуэнте Феррари, цитируя отдельные стихотворения Мачадо, утверждает, что они напоминают ему произведения Регойоса, Беруэте, Сулоаги, Субиаурре, Г. де Маэсту, Р. Барохи. Смущает пестрота имен, а следовательно, живописных манер, способов видеть, чувствовать, понимать природу и вместе с тем жесткость устанавливаемых искусствоведом параллелей. Выходит, что поэт был копиистом, писал с картин, а не по непосредственным впечатлениям, что неверно.
Документы, воспоминания современников, биографические материалы, произведения Антонио Мачадо позволяют заключить, что поэт не только знал лично художников своего поколения, но постоянно интересовался изобразительным искусством. Сближение с художественной средой, особенно интенсивное в 20-е годы, отразилось в его заметках об искусстве, и в частности об искусстве портрета. Его оценки, наблюдения, замечания, касающиеся творчества того или иного художника (Соланы, Сорольи К. Руиса, Эль Греко, Веласкеса), не профессиональны, но свидетельствуют об известной художественной интуиции и определенных вкусах. Наконец, можно говорить о том, что изобразительное искусство побудило поэта к созданию стихотворений, «живописных» по замыслу. Анализ пейзажной лирики Мачадо в соотнесении с живописью остается актуальной задачей. Добавим только ко всему вышеизложенному еще одно свидетельство брата об отношении Антонио Мачадо к живописи: «Он находил высокопоучительным созерцание картин. Говорил, что художники учат видеть цвета мира, в котором мы живем...»
Л-ра: Литература в контексте культуры. – Москва, 1986. – С. 156-178.
Критика