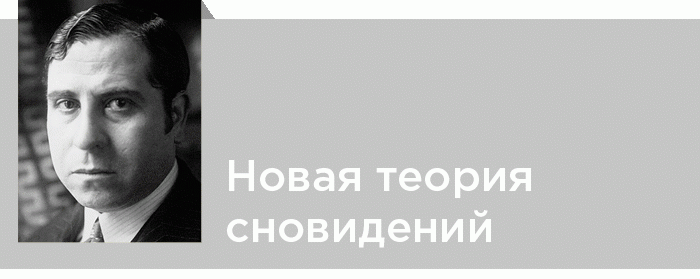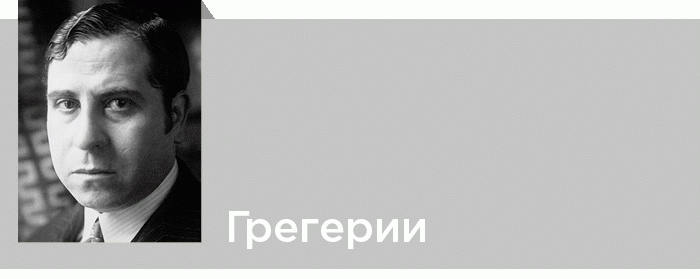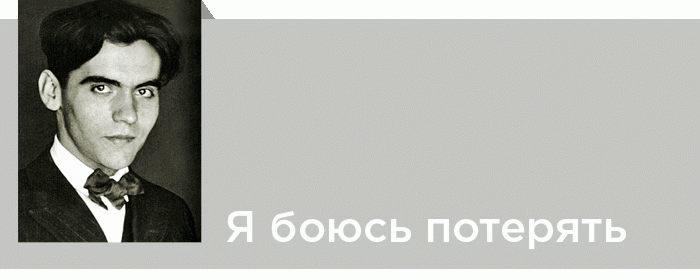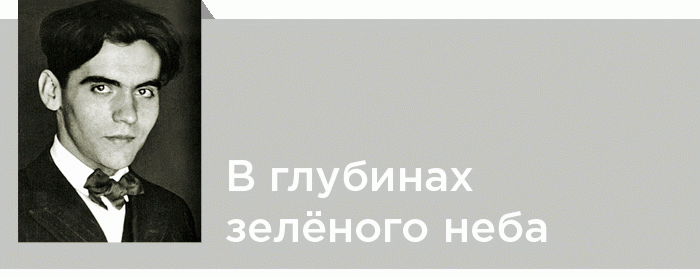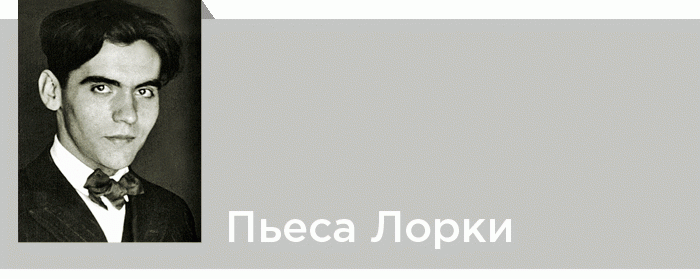Живой
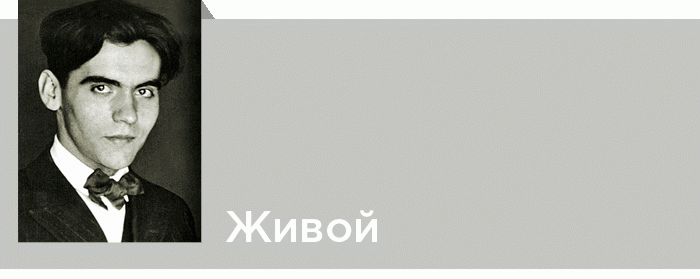
Леонид Велехов
Жизнь поэта бесконечна. Она продолжается и после его смерти — в его стихах, в образах, метафорах и коллизиях, созданных его фантазией и ставших частью духовной жизни общества, частью того бесценного наследия, именуемого человеческой культурой, которое передается от поколения к поколению без посредства дарственных надписей или завещаний, а как бы даже само собой.
Жизнь такого поэта, как Федерико Гарсиа Лорка, продолжается и будет продолжаться вечно. Прошло более пятидесяти лет с того дня августа 1936 года, когда фашистскими мятежниками был расстрелян Лорка: на рассвете, без свидетелей, у обочины сельской дороги в окрестностях Гранады, родных местах поэта, где он родился и жил. За это время изменилось многое. Канул в темное прошлое испанский фашистский режим, которому, казалось, не будет конца. С презрением забыты имена тех, кто еще недавно мнил себя властителями судеб народа. А убитый фашистами поэт жив. И проходит время, но оно словно приближает к нам Лорку, заставляет все внимательнее вслушиваться в неповторимую музыку его поэтических строф, вглядываться в освещенные страстями — такими человеческими и поэтически-обобщенными одновременно — лица и судьбы его героев, вчитываться в его суждения об искусстве, в эти блестящие образцы эрудиции, окрыленной поэтическим вдохновением.
Лорка — наш современник, и современником он останется для будущих поколений, каждому из которых предстоит открывать в поэте новое, близкое именно своему времени. Нашему времени, как мне кажется, мысли и образы Федерико Гарсиа Лорки созвучны необычайно, и в них многое может почерпнуть для себя художник, озабоченный состоянием искусства в современном мире и ищущий пути его обновления и превращения в мощное средство воздействия на умы и сердца людей.
Что же делает Лорку современником его потомков, одним из вечных спутников человеческой жизни, как кто-то хорошо назвал великих писателей прошлого?
Размышляя об Испании, Лорка говорил: «Испания — страна смерти, страна, открытая смерти». Он говорил, имея в виду бой быков, что Испания — единственная страна, где смерть стала национальным зрелищем.
Выражая трагическое мироощущение поэта, его поэзия — и лирическая и драматическая — насыщена образами смерти, метафорами смертельной опасности, гибельными столкновениями. Доказывается это даже не обилием сюжетных развязок, ознаменованных гибелью того или иного действующего лица стихотворения или драмы: Смерть всегда стоит за спинами героев Лорки. У него есть строчки:
А над всем этим — смерть, одна только смерть в пятом часу пополудни.
Смерть действительно витает над огромным, пестрым и многоликим миром созданным фантазией поэта, и кому-то Лорка может показаться пессимистом. Но это не так. Мотив смерти-гибели част в поэзии Лорки — так же, как част он в самой реальной, полной насилия жизни, окружавшей поэта. Однако не апология смерти, не пессимистический фатализм составляют пафос его творчества. Пафос в ином — он в отрицании смерти и в утверждении идеи борьбы жизни со смертью.
Эта борьба трагедийна: смерть, гибель обрывает нить человеческого существования. Но жизнь как идея противостоит смерти и утверждает свою бесконечность в череде земных природных превращений-метаморфоз. Ранний Лорка пишет:
Стань, мое сердце, цикадой, чтобы истек я песней, раненный над полями светом небесной бездны...
И розовым сладким илом пусть кровь моя в поле станет, чтобы свои мотыги вонзали в нее крестьяне.
Конечно, это стихи не о смерти, но о преодолении смерти, о победе над исчезновением силой творческого порыва, соединяющего его, художника, с природой, с полем, на котором трудятся крестьяне, со всей органической живой жизнью. Он хочет стать голосом природы и драматически переживает отторженность человека от целостного бытия. Собственно, смерть поэт и видит там, где разрушена гармония человека и природы, где утрачено человеком ощущение себя как части жизни общей. В поэтически-метафорическом восстановлении разрушенных бытийных связей, в преодолении дисгармоничности и нецелостности человеческого существования и в возрождении ощущения преходящей человеческой жизни как части жизни вечной поэт и видит бессмертие.
На ранней поре поэзия Лорки импрессионистична по своему духу и стилю, стихи этого периода — в основном лирические наброски, этюды, эскизы. Они полны настроений лирической грусти и меланхолии, навеваемой открывающейся поэту истиной скоротечности человеческой жизни и ее наполненности печалью и страданием. В дальнейшем в палитре поэта сохранились и краски грусти и меланхолии, не исчез из его стихов мотив трагедийный, но все чувствование жизни настолько углубилось и обогатилось, настолько совершенно стало его выражение, что эти краски «зазвучали» по-иному, наполнившись экспрессией, силой борения и сопротивления.
«Испания, — сказал он как-то, — страна резких очертаний... И тот, кто бросается в море сна, споткнется о лезвие варварской навахи». Всегда оставаясь лириком, переживающим мир неповторимо самобытно, поэтом бурного, неудержимого воображения, творцом исключительных в своей красочности метафор и образов, Лорка отрицает искусство, уводящее прочь от реальности в мир чистого вымысла, заоблачной иллюзии — в «море сна». В своей лекции «Воображение, вдохновение, освобождение» он говорил: «Реальная правда поэтичностью превосходит вымысел...» Однако нужно иметь в виду, что такой поэт, как Лорка, не понимал «реальную правду» как нечто, что может быть механически, «фотографическим» путем перенесено из жизни в искусство: выражение «реальной правды» и составляет суть сложного процесса творчества, в котором решающую роль играет воображение художника. Поэт замечательно определил функцию воображения: оно «дает связь и жизненную очевидность фрагментам скрытой действительности, в которой движется человек».
Иными словами, «действительность» и «реальная правда» — это не то, что лежит на поверхности и очевидно всем. Это суть явлений, которая должна быть познана, и искусство, поэзия в частности, ведет людей по одному из возможных путей познания. Одному из возможных, названному в эстетике путем к прекрасному. Реализм Лорки чужд фотографическому натурализму или эмпирическому бытописательству в такой же мере, как и искусству иллюзии, погружающему человека в «море сна».
Поэт как бы искал динамическое равновесие между раскрепощенной работой творческого воображения и выражением в искусстве драмы реальной жизни. Этими поисками отмечен его путь от ранних лирических миниатюр до лучшего поэтического цикла, являющего собой подлинную жемчужину мировой поэзии — «Цыганского романсеро». Всего семь лет (1921-1928) разделяют первую поэтическую книгу Лорки и эту, наиболее зрелую, в которой с удивительной прозрачной глубиной выразилась его поэтическая тема, обрел подлинное совершенство очертаний конфликт, вступили в гармоническое соотношение полет свободного воображения и воплощенный драматизм реальной народной судьбы.
Мир «Цыганского романсеро» — мир яростных, противоречивых чувств, вернее, страстей, буквально сжигающих их носителей. Все переживания, все страсти доведены до предельной точки кипения — с высокой точки действие начинается, а не заканчивается ею. Но этот опаляющий, а подчас и сжигающий героев Лорки огонь страстей суть огонь жизни. Да, эмоции его героев необузданны, непредсказуемы и не опосредованны разумом, и свои отношения они чаще всего склонны выяснять при помощи навахи. Но здесь никогда не бывает двоедушия, лицемерия, трусости и подлости. Именно эта Самобытная, первозданная чистота мира, как будто омытого соленой кровью и прокаленного пламенем огненных страстей, и приводит к нему поэта, блуждающего в поисках идеала. Нет, он не находит здесь полного соответствия своему идеалу и не идеализирует мир, в котором властвуют страсти огненные и темные одновременно. Но его цельность, его своеобразная верность себе не могут не увлечь поэта, по-донкихотски приверженного идеалам верности и цельности, и в этом поэт противопоставляет его миру буржуазной цивилизации, враждебной человеку, заглушающей в нем голос природы. Это противопоставление выявлено наиболее откровенно и сильно в замечательном «Романсе об испанской жандармерии», одном из лучших стихов цикла:
Их кони черным-черны, и черен их шаг печатный.
На крыльях плащей чернильных блестят восковые пятна.
Надежен свинцовый череп — заплакать жандарм не может; въезжают, стянув ремнями сердца из лаковой кожи.
Полуночны и горбаты, несут они за плечами песчаные смерчи страха, клейкую мглу молчанья.
От них никуда не деться — скачут, тая в глубинах тусклые зодиаки призрачных карабинов...
Это едут жандармы — антагонисты свободной, искренней жизни, несущие ей беду и смерть. Жандармы выражены через образы неживой природы и смерти («чернильные плащи», «восковые пятна», «свинцовый череп», «сердца из лаковой кожи» и т. д.). Жандармам, символизирующим мир насилия и подавления человека, противопоставлен излюбленный поэтом образ жизни простых людей и искренних, свободных чувств, слитых с жизнью природы, не отрывных от нее (и выраженных опять же через нее):
О звонкий цыганский город!
Ты флагами весь увешан.
Желтеют луна и тыква, играет настой черешен.
И кто увидал однажды — забудет тебя едва ли, город имбирных башен, мускуса и печали!
Вот в чем завязка трагедии: неизбежность конфликта между жизнью и смертью — здесь он выявлен в конфликте свободы и тирании. Да, перед нами своеобразная маленькая трагедия. Справляющая свой праздник Жизнь подвергается нападению. Со свойственной ему выразительной точностью показывает Лорка, как тень смерти, пав на праздничный цыганский город, накрывает его все больше и больше. Стих передает это последовательно, акт за актом разворачивается трагедия:
Они въезжают попарно — а город поет и пляшет.
Бессмертников мертвый шорох врывается в патронташи.
Они въезжают попарно, спеша, как черные вести.
И связками шпор звенящих мерещатся им созвездья.
Можно проследить, как в описании действия (въезд жандармов) нарастает выражение тревоги:
А город, чуждый тревогам, тасует двери предместий.
Верхами сорок жандармов въезжают в говор и песни.
Далее картина трагедийного нарастания — момент кульминации и разрешения событий — дается через изображение предметов и неодушевленных явлений, которые поэт одушевляет и наделяет реакцией на происходящее. И уже через них мы видим ход дальнейших событий. Необычный прием, необычный взгляд — благодаря ему суть происходящего пронзает особенно сильно и остро:
Часы застыли на башне под зорким оком жандармским.
Столетний коньяк в бутылках прикинулся льдом январским.
Застигнутый криком флюгер забился, слетая с петель.
Зарубленный свистом сабель, упал под копыта ветер.
Нельзя переоценить здесь роль ритма: его сложно построенное нарастание с исключительной выразительностью передает трагедийное нагнетение действия. Прием классический для испанского музыкально-поэтического фольклора, и он использован Лоркой необычайно богато: по аналогии можно вспомнить, как, разрабатывая испанскую тему в музыке, использует этот прием современник Лорки, Равель, в своем «Болеро».
«Город имбирных башен» уничтожен отрядом жандармов — расстрелян и сожжен дотла — неизвестно за что, видимо, только за то, что он свободен и любит радость и праздник. Освобожденный от конкретной детализации конфликт звучит расширительно и актуально. Создается выразительная метафора подавления народа, свободы, воли, красоты властью диктатуры. «Романс об испанской жандармерии» — это предупреждение поэта, сигнал об опасности, это призыв проснуться.
В «Цыганском романсеро» впервые в поэзии Лорки с такой силой выступает социальное начало. Оно самобытно, как и все в этом поэте. Он писал в одном письме: «...я хочу быть поэтом во всем в своей жизни: родившимся из поэзии и уходящим в поэзию...» Но поиски самого себя в искусстве с неизбежностью привели его туда, куда почти всегда они приводят подлинно большого художника, — к народу. И становилось все более очевидным, что враги, желая скомпрометировать Лорку и называя его «красным», не были так уж далеки от истины. Хотя и не стоит это понимать излишне прямолинейно и буквально. Лучше всех сам Лорка выразил свою социальную и политическую позицию. В одном из интервью он сказал: «На этой земле я всегда буду с теми, кто лишен всего, кого лишили даже покоя нищеты. Мы — я имею в виду интеллигенцию, людей, получивших образование и не знавших нужды, — призваны принести жертвы. Так принесем же их. В мире борются уже не человеческие, а вселенские силы. И вот передо мной на весах итог борьбы: здесь — моя боль и моя жертва, там — справедливость для всех, пусть сопряженная с тяготами перехода к неведомому, едва угадываемому будущему, и я опускаю свой кулак на ту чашу, чашу справедливости».
«Цыганское романсеро» возвышается над поэзией Лорки как образец гармонического единства поэтического чувства и мысли, звука и смысла, полета воображения и погружения в драму реальной жизни. Таинственно-прекрасные мелодии народных напевов бьются в поэтической симфонии «Цыганского романсеро» со зловещим звоном шпор на сапогах скачущих по Испании жандармов.
Интересно увидеть и то — «Романс об испанской жандармерии» дает возможность увидеть это очень явственно, — как в «Цыганском романсеро» муза поэзии как бы встречается с музой трагедии и как стихотворение, написанное в традиционном для испанской поэзии жанре романса, буквально на наших глазах «перерастает» лирический жанр и превращается по сути дела в маленькую драму. Маленькую по размерам, но обладающую таким насыщенным событийным рядом, таким зарядом драматизма, какие нечасто встретишь в «настоящих» пьесах.
И, очевидно, не случайным совпадением нужно объяснить тот факт, что после «Цыганского романсеро» поэт больше занимался драматургией, нежели стихами. Поиски форм выражения поэтической темы и конфликта вели Лорку от поэзии лирической через высокий перевал «Цыганского романсеро» к поэзии драматической.
Поэзия и драматургия Лорки связаны исключительно глубокими и сущностными взаимосвязями, дающими основания говорить скорее о переходе лирики Лорки в драму и о превращении некоторых героев его стихов в персонажей пьес, обретающих плоть и оживающих на театральных подмостках. И если многие стихи Лорки драматургичны и во многих из них содержится в зачатке начало пьесы, а в некоторых (причем лучших, как романсы об Антоньо эль Камборьо, «Романс об испанской жандармерии», «Романс о черной тоске», «Сомнамбулический романс», «Погибший из-за любви» или «Романс обреченного») разыгрывается немногословная, но действенная драма с сюжетом, конфликтом, характерами и диалогами, то, с другой стороны, пьесы Лорки — и те, что написаны стихом, и те, что написаны прозой, — это большие, развернутые поэтические метафоры.
Наконец, лирическую и драматическую поэзию Лорки связывает общность поэтической темы и конфликта. Причем движение темы и конфликта в драматургии, как и в лирике, с исключительной выразительностью отражает углубление взглядов и мировоззрения поэта. И на разных полюсах этого движения стоят две пьесы замечательные. Ранняя, написанная в 1925 году — «Марьяна Пинеда». И последняя завершенная пьеса поэта — «Дом Бернарды Альбы», законченная им в год 1936 — год гибели. Сопоставляя их, можно увидеть, какой мыслительный путь проходит поэт в поисках нравственного жизненного идеала, способного противостоять уничтожающей человека силе угнетения и подавления.
В «Марьяне Пинеде», жанр которой, кстати сказать, как обозначил его автор — народный романс, — может служить еще одним доказательством своеобразной преемственности лирики и драматургии Лорки, — так вот в «Марьяне Пинеде» поэт еще не выходит из круга своего лирического «я», выразительницей которого становится главная героиня, чье имя дало название драме.
Марьяна Пинеда — фигура историческая: гордость Гранады, героиня антимонархической борьбы конца 30-х годов прошлого века, приговоренная к смерти за то, что она своими руками вышила повстанческое знамя с девизом «Закон. Свобода. Равенство». В драматургии Лорки это единственная историческая пьеса с содержанием, охватывающим борьбу политических идей. Но не они являются главными в пьесе. Словно подчеркивая это, Лорка в интервью сказал однажды: «Марьяна — не героиня для оды. Она — лирическая натура. Но в итоге она превращается в олицетворенную свободу, когда понимает, что ее возлюбленный предал ее — вместе со свободой».
Марьяну в лагерь повстанцев приводит любовь к одному из заговорщиков. Но именно она для Лорки — подлинная героиня идеи. И именно в этом она противопоставлена мнимым борцам за идею, ведущим на самом деле игру мелких политических интересов и во имя этой игры не останавливающимся перед тем, чтобы принести в жертву саму Марьяну (в финале те, кто вовлек ее в политическую борьбу, предают ее). Предательство, совершенное по отношению к ней, символично. Марьяна — это преданная Свобода. Преданная теми, кто клялся ее именем — именем Свободы. Недаром она сама говорит: «Я — Свобода, распятая людьми».
В этом суть Марьяны Пинеды как идеи человеческой личности. В ней существуют в гармоническом единстве личное (Любовь) и внеличное (Свобода, понимаемая и как личная и как внеличная категория), лирическое и героическое. Только в этом единстве, по мысли Лорки, и может быть обретена истинная идея свободы: вне его она мираж («Я — свобода, ради которой ты меня покинул», — говорит Марьяна Педро).
Жизнь не сводится ею к борьбе за власть, и мир открыт ей во всей сложности и противоречивом драматизме. Изначально она существует в гармонии с ним. Она единственная из персонажей пьесы, кто может сказать о себе:
Песчинкою меж тонких пальцев
Я ощущаю этот мир.
Она погибает как героиня трагедии — в одиночестве, преданная всеми, с трагическим сознанием того, что люди, с которыми она связывала свои большие и внеличные надежды, того не стоили. И это сознание тяжелее дороги на эшафот. С тоской говорит она:
Ах, никто из друзей не видел,
Как у тихого водоема
Умирала моя надежда.
Ее гибель символизирует гибель идеи, принесенной в жертву борьбе мелких самолюбий, выдающих свои личные интересы за высокие принципы. Главный конфликт Лорки выступает здесь как столкновение живой, подлинной идеи свободы, олицетворенной в образе Марьяны Пинеды, с псевдоидеями, призванными прикрыть эгоистические интересы и личную жажду власти их носителей.
Вместе с тем пафос пьесы, сам посыл мысли поэта не чужды некоторой расплывчатости, в драматической форме дающей себя знать более ощутимо, чем, скажем, в лирической. Лирический порыв, пронизывающий пьесу, как бы «замещает» порой недостающее развитие драматического конфликта. И дело здесь, конечно, не в драматургической неопытности Лорки, да и вряд ли приложимо объяснение неопытностью к таким талантам. Но поэт, еще не вышедший в ту пору из лирического медитативного самоуглубления, не решил для себя проблем, которые с неизбежностью ставит перед ним выбранная драматическая коллизия: проблем человеческой свободы, смысла и пути борьбы с силой порабощения и деспотизма. Он воспевает в образе Марьяны идеал жертвенности, говоря, что она «...подняла в своих руках — не для того, чтобы победить, а для того, чтобы погибнуть — два кинжала: любовь и свободу». Однако это не может стать решением тех проблем, которые оказываются затронутыми в пьесе о судьбе свободы личности в обществе.
Но, подобно тому, как в поэзии он идет от лирической замкнутости первых стихов к своеобразнейшему слиянию романтической и фольклорной стихий в «Цыганском романсеро», и в этом слиянии обнаруживают себя все «начала и концы» его поэзии, — подобно этому в драматургии Лорка движется от лирической печали «Марьяны Пинеды» к исполненным внутренней мощи и трагедийной экспрессии «крестьянским трагедиям» и лучшей из них — «Дому Бернарды Альбы». Здесь находит свое разрешение конфликт, здесь важнейшие мотивы творчества Лорки оказываются сплетены в единый, упругий драматический узел.
Пьеса о том, как мать пятерых дочерей, Бернарда Альба, обрекает их на многолетнее домашнее заточение в знак траура по умершему мужу, лишая их счастья любви, и как одна из девушек, младшая, Адела, бросает вызов фанатическим предрассудкам, пытаясь бежать из дому, и погибает, — не бытовая драма на тему косных испанских нравов. И не драма любви.
На самом деле любовь здесь для Лорки — это метафора свободной, естественной жизни. Так же, как власть Бернарды Альбы над жизнью и чувствами ее дочерей это метафора противоестественной власти человека над жизнью других.
Это не драма любви, а драма жизни человека в неволе, и чем дальше, тем яснее становится, что Лорка говорит здесь о подвиге, который откроет путь на свободу, и кто-то этот подвиг совершит. И, погибнув, преодолеет смерть.
Преодоление смерти (синонимы которой — несвобода, унижение человеческого достоинства, подавление человеческих чувств) — в движении человека путем подвига к жизни: к освобождению, к воле. Вот смысл той целостной метафоры, какой является «Дом Бернарды Альбы» — вершина театра Гарсиа Лорки.
Конфликт у Лорки неизменно фокусируется в женском характере, женской судьбе. Она всегда выступает в качестве жизненосного начала — Марьяна, Росита, Йерма, Адела, — а в «Доме Бернарды Альбы», где женский характер разработан непревзойденно глубоко и многогранно, Лорка в нем самом обнаруживает непримиримое противоречие и двойственность и «внутри» него сталкивает антагонистические конфликтные силы. Ибо не только жизненосное (Адела), но и подавляющее, стирающее и аннигилирующее жизнь начало выражено здесь через женский характер (Бернарда).
И в драматургии и в поэзии Лорка обнаруживает себя как тонкий знаток и психолог женской души. Отсюда идет и связь с его драматургией великих актрис — Маргариты Ксиргу, Марии Казарес, Лолы Мембривес, Луисы Вейль, Нурии Эсперт. Прибавлю к ним замечательных современных кубинских актрис: незабываемую Йерму — Идалию Анреус, Ракель Ревуэльту. Прибавлю ещё актрис — грузинок Э. Хутунашвили, Д. Табатадзе, Н. Сагарадзе, которых я видел в талантливом спектакле Георгия Кавтарадзе «Дом Бернарды Альбы», открывшем для меня необычайную близость драматической поэзии Лорки грузинской сцене и грузинскому национальному характеру. Из моих собственных впечатлений самым, однако, сильным остается Нурия Эсперт в «Донье Росите». Талантливо-загадочным образом соединила замечательная испанская актриса в своей игре тончайший психологический реализм с обобщенной символикой, и, проживая на сцене частную человеческую судьбу, она проводила нас одновременно путем земного существования в каком-то гораздо более широком и общем смысле этого понятия — через сами фазы человеческой жизни, которую Лорка сравнивает с жизнью цветка, розы (отсюда и название пьесы: «Донья Росита, девица, или Язык цветов»). В ее исполнении действительно было что-то почти таинственное: ее героиня была наделена чертами и женщины, человеческого существа, и цветка. Это возникало из пластики, легкой, почти невесомой, из летящего, словно завертывающегося полетной спиралью движения и жеста. Своими, глубоко индивидуальными средствами актриса раскрывала мысль поэта, заложенную в названии и так волновавшую Лорку, — мысль об идеале гармонического единства человека со всем целостным бытием, невыделенности человека и его преходящего земного существования из общей, большой, вечной жизни природы. На наших глазах она словно истаивала, эта хрупкая женщина-цветок с черной гладкой сияющей головкой, окруженная свечением легких белых одежд, растворялась в пространстве, заполненном множеством цветов, словно превращаясь в один из них. В своей скромной донье Росите, посвятившей жизнь обманувшему ее возлюбленному, возвращения которого она верно и безуспешно прождала двадцать пять лет, актриса открывала образ человеческой личности, возведенной Лоркой в идеал, близкой Марьяне, Башмачнице, Аделе, — личности цельной и целеустремленной, существующей в гармоническом единстве с миром живой природы и живых чувств и противопоставленной поэтом лишенному гармонии и цельности миру наличных человеческих взаимоотношений и ценностей; личности, вступающей с этим миром в трагедийное для нее противодействие и погибающей. Росита Нурии Эсперт была одинока не потому, что ее оставил ее жених. Она одинокая среди всех. Как одиноки все героини Лорки.
Возвращаясь к судьбе самого Лорки и задумываясь над тем, что же в 30-е годы столь явно повернуло его интересы к театру, нельзя не увидеть связи этого поворота с изменениями, происходившими в социальной действительности Испании. В 1930 году пала военная диктатура Примо де Риверы, в 1931 году в Испании была провозглашена буржуазная республика. Наступило время подъема демократических, левых настроений, сменившееся, правда, в 1933 году периодом «черного двухлетия», но затем вновь возродившееся и приведшее к ряду социальных преобразований и, наконец, в феврале 1936 года, к победе Народного Фронта.
Художник-демократ, Лорка возлагал большие надежды на эти перемены и думал, как может участвовать в них искусство. Одновременно он чужд был наивному оптимизму, он чувствовал сгущающиеся в испанском небе тучи, приближение грозы и торопился многое сделать до того, как она разразится. В выступлении тех лет, возражая вымышленному собеседнику — стороннику чистого искусства, некоему «необузданному карикатуристу», он говорил:
«Я сказал бы, что сама по себе идея искусства для искусства бесчеловечна, если бы она не была, по счастью, столь откровенно пошла. Серьезный человек не может возлагать надежды на эти бирюльки... Наше время чревато трагедией, и художник должен быть вместе с народом, рыдать, когда рыдает народ, и хохотать, когда он хохочет. Довольно любоваться лилиями, пойдем к тем, кто, увязая в грязи, ищет лилии, и поможем им. Что касается меня, то я всей душой жажду общения с людьми. Эта жажда привела меня в театр и заставила посвятить ему все душевные силы».
Лорка понимал, что театр в своем существе демократичнее, нежели литература, уже по одному тому, что доступен даже неграмотным, а для Испании, в которой в ту пору треть населения была неграмотна, это преимущество театра было особенно существенным. Сразу после образования республики Лорка организовал передвижной студенческий театр «La Barraca» («Балаган»), из названия которого уже очевидно, что он ставил своей целью обращение к широкому народному зрителю и общение с ним на языке понятном и доступном. Задумывая свой театр, Лорка мысленно обращался к прошлому — к далеким временам Лопе де Руэды, создавшего в Испании в XVIII веке подлинно народный театр в виде странствующей труппы, дававшей спектакли в испанских городах и деревнях в самых неприхотливых условиях. (Для своего театра поэт и название взял, которое носила труппа де Руэды.) Раскрывал свой замысел Лорка так:
«Мы хотим работать в духе великого идеала воспитания народа нашей возлюбленной республики, возвращая ему его же театр. Мы повезем опять в города Испании добро и зло и веру в бога, и они будут играть свои роли в древнеримском театре в Лериде, на площадях по всей Испании — площадях, которые являются центрами народной жизни, площадях, которые видят ярмарки и бои быков».
Он мечтал о подлинно всенародном театре, выполняющем высокую воспитательно-просветительскую миссию, и противопоставлял его театру обуржуазившемуся, коммерческому. Он выдвинул идею театра, выраженную в поистине бессмертной формуле — «театр социального действия». Раскрывая ее, Лорка высказал мысли, которые полны актуального значения и для современности. Он бил тревогу по поводу того, что современные театры «полны обманщиц-сирен с розами в волосах, и публика разражается аплодисментами, услышав излияния сердец, набитых ватой, и диалоги, произносимые только губами, без участия души».
Отвергая этот вид театра, Лорка, назвав себя «яростным поборником театра социального действия», утверждал:
«Театр — это одно из самых тонких и действенных орудий в строительстве страны, это барометр, показывающий ее подъем или ее упадок. Чуткий театр, сумевший найти верный путь во всех своих жанрах, от трагедии до водевиля, может в короткое время возвысить душу народа, а театр поверхностный и расхлябанный, где свиные копыта заменяют крылья, может притушить художественный вкус целой нации, погрузив ее в сонное безразличие.
Театр — это школа слез и смеха, это трибуна, с которой можно свободно вскрывать пороки отжившей или ложной морали и разъяснять на живых примерах вечные откровения человеческого чувства».
И далее, подытоживая свою мысль о кровной связи театра и народа, Лорка сказал:
«Если народ не печется о своем театре, не питает его — значит, этот народ умирает или уже умер. А театр, не вобравший в себя душу своего народа, своеобразие пейзажа родной страны, драматические судьбы ее людей, их радость и горе; театр, в котором не бьется пульс социальной жизни, пульс истории, — не имеет права называться театром; это игорный дом, или, еще ужаснее, — место, где можно убить время».
Определяя театр как «социальное действие», поэт выразил свою мечту, свое представление об идеале театра — демократического по духу и стилю, наследующего народным традициям. Театра, чье место — в самом средоточии социальных коллизий эпохи, в самой гуще реальности; чья цель — воспитание народа и преобразующее воздействие на жизнь общества. Театра, насыщенного остроактуальными конфликтами действительности и движимого задачей внести свою реальную лепту в их разрешение. Театра, тесно связанного с жизнью своего народа, не отгораживающегося от него стеной самоценных эстетических исканий и ставящего художественные поиски в прямую связь с силой «социального действия» зрелища.
По сути дела Лорка говорил не о чем ином, как о возвращении театра к его истинному и первоначальному назначению. Ведь он выдвигал подлинную идею театра — ту идею, с которой театр, может быть, начался. Недаром Пушкин сказал: «Драма родилась на площади». Конечно, он имел в виду не просто место, на котором состоялось первое театральное представление. Он говорил о гораздо более важном — о сущностном генезисе театра. Площадь здесь — метафора всенародного собрания, на которое сходились во имя обсуждения самых важных, насущных вопросов жизни. Театр может и должен стать подобием такой, кипящей человеческими страстями и спорами площади.
Лорке был близок образ именно такого искусства. Он выступал его активным созидателем — в своих блистательных речах, в своей деятельности в театре «Ла Баррака». Драматургическое творчество Лорки — прежде всего его крестьянские, или андалузские, как их еще называют, трагедии — замечательные плоды идеи «театра социального действия», театра о народе и для народа, сочетавшего в себе идеалы общедоступности и высокого художественного вкуса, народности и подлинного просветительства.
И трудно найти, на мой взгляд, идею более актуальную и насущную для современного театра, чем идея «театра социального действия». Потому что всегда, когда говорят о кризисе театра — а такие разговоры ведутся в последние годы часто, и не без оснований, — важно разобраться в подоплеке и существе этого кризиса. Что это такое — кризис театра? Это прежде всего и главным образом кризис взаимоотношений театра и публики. Это потеря взаимопонимания и, если можно так сказать, взаимонеобходимости. А она происходит, как показывает практика, именно тогда, когда театр теряет связь с современной действительностью. Переставая быть ее выразителем, он теряет способность воздействовать на нее через зрителя. Ведь если несколько распространить мысль А. Блока, выраженную им применительно к поэзии, на искусство в целом, в произведениях настоящего художника «это, может быть, принадлежит не ему, а среде, эпохе, ветру». Поэтому и поиски путей преодоления кризиса должны вестись в направлении восстановления утраченных взаимосвязей сцены и зала.
Однако контакт может быть найден и за счет угождения невысоким и пошлым вкусам — в зрительном зале всегда есть определенная, порой немалая часть публики, имеющая именно такие запросы и ждущая от театра не более чем пустого развлечения, шутовства, возможности посмеяться не важно над чем. Контакт может быть найден и за счет упрощенной и потому легко доступной иллюстрации на актуальные злободневные темы действительности, когда зрителю все подается со сцены в виде готовых
выводов и схем и ему не надо прикладывать душевных и умственных усилий для того, чтобы постичь глубину авторской мысли, игру творческой фантазии, разобраться в сложности построения драматического конфликта, вникнуть в тайну художественного образа и выразительного языка сцены. Потому что всего этого в таком театре нет. Самобытная авторская мысль о жизни и диалектика развития конфликта подменены здесь суммой известных и не автором открытых выводов и положений, а образный язык — основа искусства — безмолвствует. И тоже всегда находятся излишне доверчивые зрители, которые принимают эту подмену за подлинно современный и актуальный театр. Но и этот вид обретенного контакта театра и публики вряд ли можно назвать плодотворным.
Лорка понимал все сложности, стоящие перед театром, который хочет работать не только для искушенных в тайнах искусства интеллектуалов, но прежде всего — для народа, и на знамени его театра было написано рядом и «Высокое искусство» и «Социальная активность». Это самый сложный путь, но и единственный, дающий подлинные плоды искусства и воспитания человеческого сознания средствами искусства. Это единственный плодотворный путь, следуя по которому, искусство остается верно себе и приносит при этом реальную пользу обществу. А что может быть современнее такого искусства?
Дочитывая этот очерк, мне могут сказать, что Лорка прошел через различные влияния, прежде всего сюрреалистические, отдав им немалую дань, а я об этом не пишу, выводя его стиль к реалистической ясности и чистоте красок, спрямляя его путь от «Цыганского романсеро» к крестьянским трагедиям и минуя самый «сюрреалистический» этап конца 20-х годов, отмеченный в первую очередь поэтическим циклом «Поэт в Нью-Йорке». Но ведь этот очерк и не претендует на полноту охвата творческого пути поэта — очерка для этого и не хватило бы, а задачу такого охвата выполнили многие посвященные поэту исследования. Вместе с тем я хотел здесь определить — минуя более частные — генеральные, с моей точки зрения, темы поэта и моменты его творческой траектории. В связи с этим вспоминается пастернаковское:
В родстве со всем, что есть, уверясь
И знаясь с будущим в быту,
Нельзя не впасть к концу, как в ересь,
В неслыханную простоту...
Так и Лорка — побыв в родстве со многим, впал к концу в простоту крестьянских трагедий, странствий по городам и весям с «Ла Баррака», идеей «театра социального действия». И в этом была своя стройная и непреодолимая логика. Это был не конец, а насильственный обрыв? Да, конечно. Но ведь великие художники, особенно в XX веке, далеко не всегда умирают в своих постелях. Насильственно оборванная жизнь не искажает логики творческой эволюции.
Между прочим, и самого Дали, лидера сюрреалистов и друга Лорки, что восхищало больше всего в его поэзии? Чистота и экспрессия красок «Цыганского романсеро», которое он назвал «непредсказуемой свадьбой слов», выпуклость и рельефность образов, далеких от сюрреалистического стиля. Хотя он и звал Лорку прочь от реализма, энергично атакуя его: «В тот день, когда у тебя пропадет страх и ты наплюешь (у Дали выражение более крепкое. — Л. В.) на всех этих Салинсов (испанский критик, друг Лорки. — Л. В.), забудешь рифму и, наконец, вообще искусство, как его понимают эти свиньи, ты сделаешь такие занятные, необдуманные, причудливые и поэтичные вещи, какие не удавалось до тебя сделать ни одному поэту». Так писал Дали в одном из писем к другу, в свойственном ему импульсивном и даже агрессивном стиле стремясь «завербовать» Лорку в единомышленники.
Но, пойдя было по этому пути, Лорка свернул с него. И не случайно его увлечение сюрреализмом в поэзии связано более всего с нью-йоркской темой: сюрреалистическая действительность «топкого», «телеграфного» и «гиблого» города «сверхчеловеческой архитектуры и яростных ритмов» дала пищу сюрреалистическим поэтическим видениям. Но здесь они и локализовались, очень мало распространившись на испанские темы. Не случайно в стихах после «Поэта в Нью-Йорке» (1930) наступает перерыв, если иметь в виду крупные поэтические циклы, и далее следует в 1935 году ничего общего не имеющий с сюрреализмом «Плач по Игнасио Санчесу Мехиасу», затем «Диван Тамарита» и «Сонеты темной любви».
Если что Лорка и взял от сюрреализма в свой «итоговый» багаж, так это, пожалуй, декларируемую сюрреалистами волю переделать мир средствами искусства. То есть как раз то, что сами они декларировали, но в осуществлении чего потерпели крах, как расценил это Бунюэль в конце собственного пути. А Лорка, пришедший в финале к идеям Народного Фронта, «Ла Баррака», «театра социального действия», как раз, наоборот, проявил в воплощении этой воли настоящую последовательность и не изменил ей. И доказал верность идее участия искусства в реальной жизни своей жизнью и смертью.
По сути дела, он и в этой идее, взятой из сюрреализма, разошелся с ним, ибо пошел в ее осуществлении дальше своих друзей. Не говоря уж о том, что ушел от них и в поисках образности, языка и стиля, ибо весьма значительная дистанция отделяет, скажем, насыщенную сюрреалистическими влияниями «Публику» или «Когда пройдет пять лет» от «Кровавой свадьбы» и «Дома Бернарды Альбы».
Конечно, были разные увлечения, страстные или более поверхностные, спрессованные, переосмысленные и «перегоревшие» в самобытном стиле зрелого Лорки. Без них не было бы этого стиля. Но в чем поэт выразился полнее и законченнее? Наконец, что определило его посмертную судьбу и славу? «Публика», в которой еще не «перегорел» сюрреализм, или «Дом Бернарды Альбы» и «Иерма»? Что определило образ его театра в истории театра мирового? Я думаю — «крестьянские» трагедии.
Сегодняшний день театра многолик. Его составляют очень разные тенденции, стили и направления, в нем идет, отражая процессы «большой» жизни, окружающей театр, напряженная борьба идей. И в лучших опытах театра демократического, противостоящего искусству коммерческому и пусто развлекательному, театра, ставящего своей целью высокое просвещение и воспитание человеческой души, живут идеи Лорки. Даже независимо от того, ставит ли этот театр пьесы Лорки, декларирует ли он свои принципы, используя цитаты из Лорки. Ведь не в цитатах дело.
...Приезжая в Гавану, я люблю прийти в старинную, колониальную ее часть, идти по мощенному светлым гранитом бульвару Прадо и, дойдя почти до его конца, увидеть открывшееся взгляду прекрасное, несколько даже подавляющее своей архитектурной нарядностью здание из серого камня с огромными венецианскими окнами, украшенное старинными фонарями и многочисленными скульптурными изображениями греческих муз, покровительниц искусств. Это Гран Театр Гарсиа Лорка. Кубинцы чтут Лорку до своеобразного поклонения, платя поэту великой любовью за ту любовь, которую он питал к этому острову и запечатлел в своих стихах («Если ночь будет лунной, поеду в Сантьяго-де-Куба... О Куба! О ритмы сухого гороха! Поеду в Сантьяго. О гибкое пламя, зеленая кроха! Поеду в Сантьяго...»). Они гордятся тем, что даже на родине поэта его память не увековечена столь монументальным образом. Девяносто лет назад родившийся и пятьдесят с лишним лет назад убитый поэт жив. Его жизнь продолжается в камне этого здания. Она продолжается в жизни его стихов, его образов, его пьес, многие из которых еще не разгаданы современным театром и лежат, как клад, под ногами режиссеров и актеров, которые, надо прямо сказать, обращаются к ним реже, чем они того заслуживают. Жизнь поэта продолжается в его идеях, в бессмертие которых дают основания верить лучшие поиски современного демократического театра — «театра социального действия». Живой, неубитый поэт — Федерико Гарсиа Лорка.
Л-ра: Театр. – 1988. – № 6. – С. 109-119.
Произведения
Критика