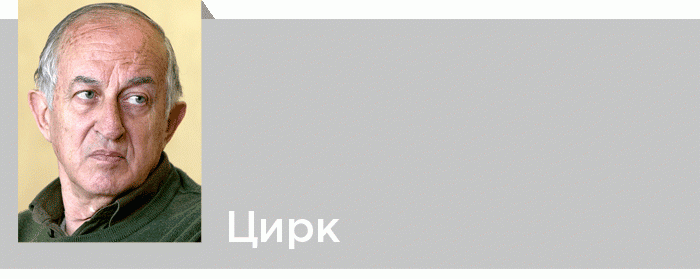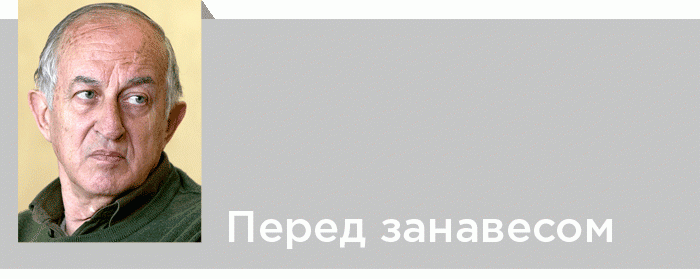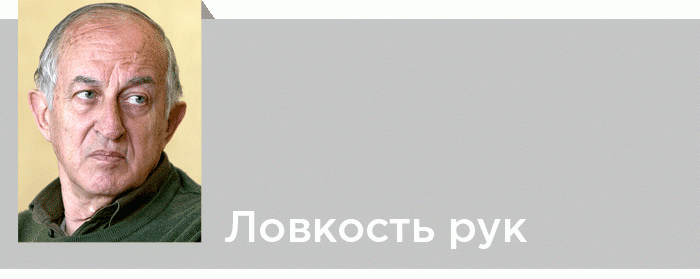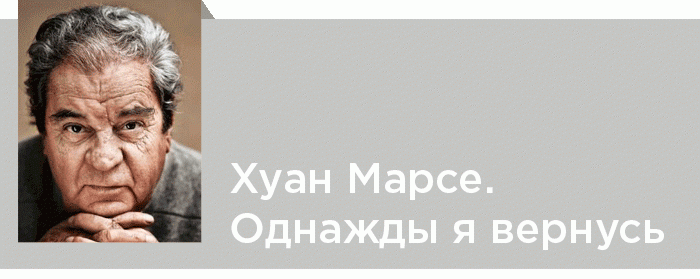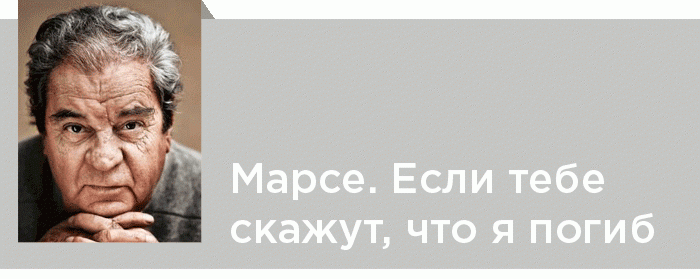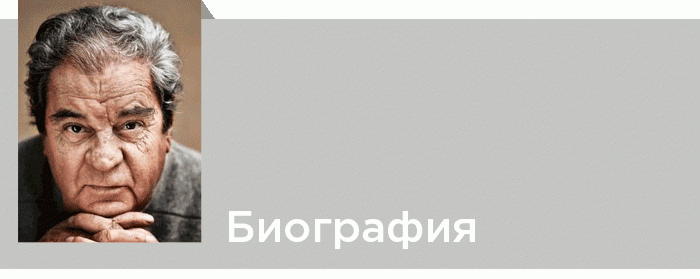Хуан Марсе. Двуликий любовник
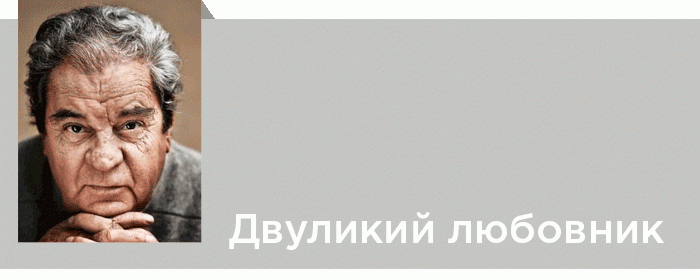
(Отрывок)
Посвящается Берте, а также моим вторым родителям и второй сестре, там, внутри зеркала.
Часть первая
Настоящий карнавал — это не когда человек надевает маску, а когда снимает свое собственное лицо.
Антонио Мачадо
1
Тетрадь 1
День, когда Норма меня бросила
Как-то раз дождливым вечером в январе семьдесят пятого года, придя домой в непривычное время, я застал мою жену в постели с незнакомым мужчиной. Первое, что я увидел, открывая дверь в спальню, — себя самого, открывающего дверь в спальню. По сей день, спустя вот уже десять лет, когда я стал лишь жалкой тенью того, кем был прежде, каждый раз при входе в спальню я вижу это зеркало, которое неизменно встречает меня все тем же мерцающим воплощением отчаяния, призраком катастрофы, превратившей меня в развалину: передо мной человек, насквозь вымокший под дождем, ослепленный ревностью; человек на пороге своего падения и распада, у которого не осталось ничего, даже остатков самоуважения.
Чтобы сохранить память о том дне, разбережу еще раз мою незаживающую рану и опишу в этой тетради события того вечера. Маленькая, уютная спальня. Низкая кровать со сбитыми простынями. И мое отражение в зеркале напротив входа. Норма поспешно прячется в ванную комнату, закрывая дверь изнутри. Потом я замечаю баночку с гуталином на сером паласе и полуголого типа, который сидит на краю кровати и ловко обрабатывает щеткой пару моих лучших башмаков. На нем нет ничего, кроме поношенного форменного жилета чистильщика обуви. У него крепкие волосатые ноги. Глубокие морщины на лице.
— Какого черта вам дались мои ботинки? — задаю ему нелепый вопрос.
Он не знает, что сказать. Бормочет с сильным андалусским акцентом:
— Вы ж сами видите...
По правде говоря, я тоже не знаю, как себя вести в такой ситуации.
— Слушайте, это возмутительно. Это черт знает что.
— Да, да, конечно...
— Вы спятили... Да вы просто идиот...
Стоя у кровати в набежавшей с одежды лужице дождевой воды, я разглядываю незнакомца, который продолжает надраивать мои башмаки, и спрашиваю:
— Ну и что теперь?
—Такая тоска, знаете, смертная, вот я и говорю себе: ботинки, что ли, почистить...
— Представляю.
— Я ведь чистильщик обуви. К вашим услугам.
— Да, да.
— Ладно, я пойду.
— Нет, нет, не уходите, останьтесь, пожалуйста.
— Не надо только сильно расстраиваться, — советует он мне сочувственно. — Вы ведь муж сеньоры Нормы, так я думаю...
Чтобы чем-то заполнить паузу, он продолжает машинально надраивать башмак. Со стороны кажется, что это нелепое занятие поглотило его с головой.
— Я спокоен, — говорю я себе. — Все хорошо.
— Я очень рад.
— Может, отложите башмак?
— По мне, главное — чтобы обувь блестела, понимаете? Но лучше я пойду, честное слово.
Мысль о том, что я останусь с Нормой наедине, ужасает меня. Я уже знаю, что потерял ее.
— Подождите немного. На улице ливень.
Смущаясь, он натягивает кальсоны. На мгновение вижу его член, свисающий между ног. Темный, здоровенный. Он поспешно надевает брюки и ищет на полу носки. С его грубого, животного лица еще не сошло выражение испуга; роль случайного любовника хозяйки, застуканного ее мужем, ему явно не по нутру. Меня совсем не удивляет, что это простой трудяга, чистильщик обуви, смахивающий на пастуха, скорее всего, безграмотный, которого она подцепила где-нибудь в баре на Рамбле. Когда я впервые заподозрил, что Норма меня обманывает, я подумал, что это Эудальд Рибас или еще какой-нибудь пижон из рафинированного общества, в котором она вращалась. Но вскоре обнаружилось, что ее слабость — андалусийцы со смуглой кожей и крепкими зубами. Самые разнообразные чарнего всех сортов. Таксисты, официанты, певцы и гитаристы с длинными ногтями и кошачьими глазами. Андалусийцы, пропахшие табаком, потом, грязными носками и крепким вином. Красавцы, конечно, что правда, то правда. Однако этого трудно было назвать неотразимым, да и молодым тоже. Лет сорока, смуглый, с крючковатым носом, кучерявыми волосами и длинными бакенбардами. Самый затрапезный чарнего, который к тому же боится посмотреть мне в глаза.
Я по-прежнему не знаю, как быть.
— Что б тебе, — шепчу я задумчиво по-каталонски, глядя в пол. — Что же теперь делать?
— Не надо только сильно расстраиваться, — настаивает незнакомец, — вот ведь черт подери...
Чувствую, что сейчас взорвусь. Открываю гардероб и достаю всю свою обувь, шесть пар, а заодно и туфли Нормы, и в гневе швыряю все это на диван.
— Вот вам еще башмаки. Вы ведь чистильщик? Или вы не чистильщик? Ну так приведите их в порядок! — Я кричу, чтобы Норма тоже меня слышала. — Возьмите щетку и пройдитесь по ним хорошенько!
— Да, сеньор.
Он торопливо разбирает на кровати башмаки, раскладывая их по парам, затем берет один из них и принимается чистить.
— Вот, вот... Давайте надраивайте...
Я смотрю на дверь ванной, ожидая, что Норма выйдет. Но она не появляется. Вижу на ночном столике ее очки с толстыми стеклами. Одевается на ощупь, не глядя в зеркало, говорю я себе. А вот я отлично ее вижу, слышу, чувствую ее запах. В нашей маленькой квартирке на улице Вальден тонкие перекрытия, и я слышу, как Норма одевается в ванной, как она надевает чулки — до меня доносится шуршание шелка о ее кожу, щелчок застежки.
Чувствую, как силы оставляют меня. Снимаю наконец мокрый плащ и сажусь на край кровати напротив незнакомца. Дождь по-прежнему хлещет по окнам. Собачья погода.
— Это первый раз? — спрашиваю я и сам удивляюсь, как спокойно звучит мой голос. — Отвечайте! Первый?
— Да, сеньор.
— Не лгите.
— Клянусь предками.
— Но вы ведь уже давно с ней знакомы.
— Да что вы! И двух месяцев не прошло, как я в первый раз ей туфли почистил, сам не знаю, сеньор, как все произошло... Ладно, я пошел.
— Останьтесь...
Чистильщик опускает голову на грудь и вздыхает так тяжко, словно его сердце разрывается от боли.
— Господи ты боже мой!
— Где вы работаете?
— На Рамбле.
— Как вы познакомились?
— В баре отеля «Манила». По вечерам я там часто бываю. Не наказывайте сеньору слишком строго и разрешите мне уйти...
— Спокойно. Я сам уйду.
Однако ни один из нас не трогается с места. Уходит Норма, и к тому же навсегда. Она выходит из ванной комнаты холодная и спокойная, на ней облегающая серая юбка и синий свитер с высоким воротом. Приглаживая на ходу волосы и не глядя ни на кого из нас, она берет с ночного столика свои очки с толстыми стеклами, надевает их, затем достает из шкафа кожаную куртку и маленький зонтик, выходит из спальни и исчезает, громко хлопнув входной дверью.
По сей день во мне живо эхо того удара. По сей день я не могу сбросить с себя оцепенение. Передо мной коллекция башмаков, — Норма обожала покупать мне туфли, самые лучшие, — сейчас они весело глядят на меня, такие сияющие, такие невинные, чопорно выстроенные по парам.
Взяв одну туфлю, чистильщик бережно полирует ее щеткой.
— У вас очень элегантная обувь, сеньор.
— Наверное, вы спрашиваете себя, — говорю я, не обращая на него внимания и не отводя глаз от двери, за которой исчезла Норма, — как женщина ее класса могла выйти замуж за такого дона Пустое Место, как я...
— Что вы, сеньор, я ничего такого не думал...
— Я сам иногда задаю себе этот вопрос.
— Знаете, каждому свое. Я вот уже целый час не могу уйти отсюда.
— Не уходите... Я расскажу вам кое-что про меня и эту сеньору, которая только что ушла. Про Норму Валенти. Мы познакомились четыре года назад. Мне было тридцать семь, ей двадцать три. То, что мы сошлись, было чудом.
Я рос в верхней части улицы Верди, — объясняю я чистильщику, — среди оборванцев, которые понятия не имели, что такое школа, и целыми днями болтались по улицам Итардо и парку Поэль. Это были мрачные послевоенные годы. Норма была единственной дочерью покойного Виктора Валенти, фабриканта кожаных изделий. В сороковые годы его дела резко пошли в гору он заключил выгодный контракт с армией. Девушка росла в батисте и кружевах в сказочном особняке в Гинардо, который стоял в громадном парке, с родителями и двумя тетками, старыми девами. Когда ей было пятнадцать, ее родители погибли в нелепой аварии на горе Монсеррат. Они остановили машину на склоне и, не выходя из нее, любовались пейзажем. Они смотрели на Каваль-Бернат, а машина меж тем медленно, так, что они и не заметили, съезжала назад и упала со святой горы...
Дело перешло в руки дяди Луиса, брата дона Виктора, и со временем Норма должна была унаследовать баснословные доходы, о которых я мог только мечтать. И, как видите, домечтался...
— Мечтать-то оно хорошо, да только голову нельзя терять, — рассудительно заметил чистильщик Хотите узнать, что за счастливый случай столкнул вместе и заставил полюбить друг друга богатую девушку и оборванца, сына жалкой алкоголички, бывшей оперной певицы, и Мага Фу-Цзы, нищего артиста варьете? Сейчас расскажу.
Мы познакомились в центре «Друзья ЮНЕСКО» на улице Фонтанелла во время голодовки против режима Франко, организованной группой адвокатов и левой интеллигенцией. Я туда попал случайно... Стоял декабрь семидесятого года. Меня в то время интересовала фотография, и я часто ходил на всякие выставки. Однажды вечером, выйдя из кино, я зашел в центр «Друзья ЮНЕСКО», чтобы посмотреть фотографии, развешанные в вестибюле. Дело было перед закрытием, и внизу собралось человек двадцать, они оживленно болтали, не обращая на фотографии ни малейшего внимания. Я сразу понял, что пришли они туда не за этим. Никто не расходился, и я не заметил, как двери закрылись и мы оказались запертыми внутри: началась голодовка против процесса в Бургосе, на котором было вынесено девять смертных приговоров. Разумеется, все, кто собрались внизу, об этом знали — все, кроме меня. Помимо адвокатов, было несколько студентов, врачи, какой-то писатель и журналист. Ими командовала энергичная зеленоглазая дама-адвокат. Никто меня не замечал; многие здесь не были знакомы и потому думали, что я один из них, так что лишних вопросов мне не задавали. Их целью было прийти сюда в условленный час и, когда начнут закрывать двери, отказаться выйти наружу и остаться в вестибюле. Я сообразил, что к чему, подслушав обрывки разговоров и, главное, поговорив с одной молоденькой студенткой, которая спросила меня, кто я такой. Это была Норма. Я сказал, что представляю один каталонский театральный коллектив, известный своими антифранкистскими настроениями. Норма околдовала меня, и ради нее я решил примкнуть к голодовке. Это были четыре незабываемых дня. Мы ничего не ели, пили только чуть подслащенную воду и много курили. Помню, Норма зажигала сигареты спичками из салона «Боккаччо», легендарного заведения на улице Монтанер, которое облюбовали прогрессисты... Нам принесли одеяла, и мы спали на полу прямо в одежде. В течение всей голодовки мы с Нормой были неразлучны. Наша группа получила поддержку подпольного комитета рабочих, нас посетило шведское телевидение. С первой же ночи Норма спала рядом со мной. На рассвете последнего, четвертого дня, когда полиция взламывала дверь, чтобы вытащить нас наружу, моя рука была под одеялом Нормы, между ее ног. Никогда не забуду теплый шелк, мешавший мне продвигаться дальше, и смесь наслаждения и страха в глазах Нормы, когда замок был взломан и франкистская полиция ворвалась в вестибюль... Нас всех поволокли в участок, и мы с Нормой крепко держались за руки.
— Чудесный рассказ, сеньор, да...
— Она изучала каталонскую филологию в университете и была романтичной современной девушкой, — продолжаю я добивать и без того уже совершенно уничтоженного чистильщика. — Не спрашивайте, как она смогла полюбить меня, как вообще произошло это чудо. Вы, вероятно, подумаете — как подумали в свое время ее тетки и друзья, — что я женился из-за денег. Но сам я в этом совсем не уверен, судя по тому, как я вел себя потом... У Хуана Мареса печальная история, дружище. Это история человека, который в тридцать семь лет стал альфонсом, а потом так и не смог встать на ноги. Я был альфонсом, сам того не желая...
— Но душа-то у вас добрая...
— Несколько месяцев мы прожили с двумя старыми девами, тетками Нормы, на Вилле Валенти, в волшебном особняке в Гинардо. Всю жизнь меня притягивали его крыши, отливающие золотом, и безмятежный пруд с зеленоватой водой. А потом, следуя современной моде, Норма приобрела квартиру на улице Вальден, в некогда популярном здании архитектора Бофилла, в районе Сант-Жуст, там, где мы с вами, собственно, и находимся, сидя на заваленной башмаками кровати...
— Ради бога, хватит...
Он откладывает туфли, поднимается, собирает в коробку щетки и тюбики с кремом и смотрит на меня, сжимая банку с гуталином в руках, и терпеливо ждет, когда я закончу рассказ.
— Работы у меня не было, — безжалостно продолжаю я. — А раз нужда не заставляла меня зарабатывать на хлеб, я быстро оставил попытки что-нибудь подыскать. До знакомства с Нормой я служил в старинной лавчонке в готическом квартале, где продавал шляпы и перчатки, а иногда участвовал в любительских постановках в Грасии. К тому времени моя мать умерла, других родственников у меня не было (отец, фокусник, ушел из дома, когда мне было двенадцать), и я жил с одной неудавшейся актрисой в ее темной квартирке на улице Трех Сестер. С Нормой все сразу пошло по-другому. Мы с ней были романтической, чувственной и лишенной будущего парой. Эта связь не могла длиться долго, потому что ни один из нас двоих не знал, какого черта мы вместе и что нас связывает, помимо кувырканий в кровати...
— Не плачьте, ради всего святого...
— Вскоре Норма начала тяготиться своей зависимостью, и у нее начались депрессии, которые через год привели к двум грязным романчикам: сперва с официантом, потом с таксистом.
— Запутаться каждый может, вы же понимаете...
— А теперь вот с чистильщиком обуви, которого она подцепила неизвестно где, в каком-то баре... О, святые небеса!..
— Забудьте все это. Ваша жена любит только вас.
— Потерпите, уже немного осталось. Четыре года — столько длился наш брак — я засыпал рано и видел чудесные сны. С самого детства я мечтал уйти далеко-далеко, подальше от нашего квартала, от дома, от тарахтения «Зингера», за которым сидела моя мать, от ее старомодных опереточных арий, пирушек и опустившихся друзей по труппе. Все мои мечты осуществились с Нормой. А теперь все потеряно.
— Слушайте, мне пора. Дождь кончился.
— Останьтесь еще немного.
— Нехорошо это, сеньор, честное слово. Вот, я вам тут всю обувь почистил.
Завороженный, я смотрю на батарею вычищенных туфель и ботинок, которые сверкают на кровати, выстроенные в ряд. Они словно улыбаются мне. Тут меня осеняет, что я должен ему за работу. Он уже в дверях.
— Вы с ума сошли!
— Что мне еще остается, разве пулю в лоб пустить.
— Не болтайте ерунды. Всего доброго. Лучше пойдите поищите вашу жену.
Еще долго я не двигаюсь с места. Норма уже никогда не вернется в нашу квартиру на улице Вальден в доме номер семь: она отправилась к своим теткам на Виллу Валенти и наутро прислала служанку за одеждой и вещами. Пару раз мне удалось поговорить с ней по телефону, но я так и не убедил ее вернуться. Она сказала, что я могу оставаться в нашем доме сколько угодно (квартира до сих пор записана на ее имя) и что она не собирается вышвыривать меня на улицу. И больше ничего обо мне не захотела знать.
Терпеливый чистильщик уходит, и я снова слышу удар двери внизу, на этот раз не такой сильный. И одновременно передо мной распахивается другая дверь: та, за которой меня ждет нищета, крушение надежд, головокружительное падение в бездну одиночества и отчаяния.
2
Много лет назад, когда Марес был одиноким подростком и, нацепив на лицо черную маску, продавал потрепанные книжки и комиксы на пустынных перекрестках квартала, он мечтал, что, когда станет старше, напишет удивительную книгу, которая будет начинаться такими словами: «Много лет назад, когда я был одиноким подростком и, нацепив на лицо черную маску, продавал потрепанные книжки и комиксы на пустынных перекрестках квартала, я мечтал, что, когда стану старше, напишу удивительную книгу, которая будет начинаться такими словами...»
Теперь он сидел на грязном ледяном тротуаре Раваля, одетый в лохмотья, вдали от родного дома, и держал в руках аккордеон. У его ног, на разложенной на асфальте газете, лежало несколько монет, брошенных прохожими. В свои пятьдесят два года Марес выглядел моложе: его молодил след от ожога, появившийся на лице после того случая, когда группа каталонских националистов устроила манифестацию прямо на Рамбле. В тот день, три года тому назад, он точно так же сидел на тротуаре, как вдруг кто-то из манифестантов швырнул бутылку с зажигательной смесью, да так неудачно, что она разлетелась вдребезги прямо перед ним. Пламя искалечило его руки и навсегда нарисовало на щеках причудливую печальную улыбку. Брови у него с тех пор не росли, их приходилось пририсовывать черным тупым карандашом; зато на переносице по весне появлялись длинные черные волосы.
Когда тоска и горечь воспоминаний становились невыносимыми, он наклеивал рыжеватые элегантные усики, и это несколько оживляло его безмятежно-унылое, без единой морщины лицо. У Мареса были высокие гладкие скулы, жидкие волосы и медового цвета маленькие живые глаза. Сидя на тротуаре со стареньким аккордеоном в руках, он бойко наигрывал пасодобли, а висящий на его груди плакат гласил:
нищий безработный чарнего
представляет уважаемым каталонцам
грустный провинциальный спектакль
помогите, пожалуйста
Просидев битых полтора часа, Марес заработал всего четыреста песет. Тогда он перебрался в центр Рамблы, сел на асфальте у входа в метро «Лицео», постелил перед собой газетный лист, перевернул плакат другой стороной и с большим чувством принялся наигрывать «Cant dels ocels». Надпись, красующаяся у него на груди, теперь выглядела так:
Родной сын Пау Казальса просит помощи
Популярная песенка Казальса наводила на него тоску. Какие-то прохожие остановились рядом, читая надпись. Их лица выражали недоверие. Один из них приблизился к нему: ухоженный толстяк в сияющих поскрипывающих туфлях. Он опустил левую руку в карман брюк, но денег оттуда не достал.
— Простите, уважаемый, — проговорил он по-каталонски с кроличьей улыбкой, — в этой надписи ошибки.
— Что вы такое говорите, добрый человек? — простовато ответил Марес по-испански.
— Как! — изумленно воскликнул толстяк — Вот тебе и раз: родной сын Пау Казальса не говорит по-каталонски?! Ну и дела!
— Видите ли, — оправдывался Марес, — я вырос в Альхесирасе, меня воспитывала мать, которая была простой служанкой в доме нашего прославленного маэстро и патриота...
— Ну и дела! — Физиономия толстяка искривилась в кислой гримасе. — Так, так.. — все повторял он, удаляясь.
Несмотря на это маленькое происшествие, меньше чем за два часа Маресу удалось заработать три тысячи песет, и вдобавок не какой-то там мелочью, а монетами по сто и двести песет.
3
Около полудня он принялся наигрывать песенки Эдит Пиаф. Его тоска улеглась, и ему вполне хватало общества бледных теней, скользящих по Рамбле или проплывающих в его воспоминаниях. Опустив голову на аккордеон и прикрыв глаза, он заиграл «C'est à Hambourg». Ему представлялись гудки пароходов и сырой прибрежный туман, окутывающий печальную проститутку, которая, прислонившись спиной к фонарю, окликала матросов. Неожиданно этот затасканный образ остро напомнил ему его бывшую жену, Норму Валенти: тридцать восемь лет, социолингвист, очки с толстыми стеклами и великолепные ноги. В эти минуты она, должно быть, сидела за одним из столов в офисе Главного управления языкового планирования. Он ясно видел ее, независимую и соблазнительную, в юбке из черного сатина и чулках в сеточку. Вот она, положив ногу на ногу, разговаривает по телефону. Размышляя о ней, он проиграл одну и ту же мелодию три раза подряд. В своих мечтах он опускал Норму на самое дно порочной жизни гамбургских портовых кварталов, и жалобный вой воображаемых пароходов сливался со звяканьем монет, падающих к его ногам.
Вот уже десять лет Норма ничего не желала о нем знать, и уж тем более видеть его или разговаривать с ним. Марес погрузился в нищету и одиночество, но по-прежнему был безумно влюблен в свою жену и придумывал множество уловок, которые позволяли ему иногда разговаривать с ней, оставаясь неузнанным, или просто слышать ее голос. Он поставил аккордеон на асфальт, взял несколько монет, поднялся и поспешил к ближайшей телефонной будке.
4
— Консультация по вопросам перевода. Говорите.
Это был голос Нормы. Она подходила к телефону не всегда, на этот раз ему повезло. Несколько секунд Марес не мог произнести ни слова, в горле у него стоял комок.
— Слушаю!
— Але!
Он кашлянул и заговорил — развязно, с легкой хрипотцой и сильным южным акцентом:
— Я звоню за советом. Я, сеньора, торгую всякой всячиной, одеждой там и нижним бельем. У меня свое маленькое дело, так, пара магазинчиков. Над каждым отделом вывески на испанском, их бы надо перевести на каталонский, мало ли что... Вы-то ведь знаете, сеньора, как ведут себя эти недоноски из «Свободного Отечества»...
— Вам, — ответила Норма по-каталонски, — надо позвонить в «Асерлус»...
— Что вы говорите?
— Позвоните в «Асерлус». — Норма перешла с каталонского на испанский. — Эта организация оплачивает десять процентов расходов учреждениям, которые заказывают вывески на каталонском. Они сотрудничают с нами.
— Сеньора, у меня все равно нет денег. Магазинчики очень скромные, сеньора, все вывески я пишу от руки. Мне нужно только, чтобы вы сказали, как пишутся по-каталонски названия одежды...
— Пожалуйста. Что именно вас интересует?
— У меня тут список, он довольно длинный, но...
— Скажите по-испански, я вам переведу. Только побыстрее, пожалуйста.
— Ладно. Пальто...
Марес называл вещь за вещью, а Норма говорила, как это будет по-каталонски.
— Куртки... Пояса...
Он отлично знал перевод каждого слова, но вслушивался жадно, словно слышал их в первый раз:
— Черт, ну и словечки, и не выговоришь...
— А вы как думали, такой уж у нас язык..
— Вы очень любезны. Теряете кучу времени из-за моих дурацких проблем.
— Говорите дальше...
— Блузки... Рубашки... Носки...
— Так.. А вы правильно записываете?
— Да, сеньора... Лифчики... Майки... Подтяжки...
После каждого ее слова Марес выдерживал паузу, словно старательно записывал. На самом деле он жадно впитывал любимый голос, тая от блаженства.
— Трусы...
— Трусы, — ответила она нежно.
— Халаты... Звучит просто неприлично, сеньора...
— Так уж говорится по-каталонски, дорогой мой. — Норма вздохнула. — У вас все?
— Нет, подождите...
В отчаянии прикусив зубами кулак, Марес силился вспомнить название еще какой-нибудь вещи и не мог. В голове было пусто.
— Трусы и лифчики...
— Это мы уже записывали.
— Ну, ладно... Вы даже не знаете, сеньора, как я вам благодарен за внимание, которое вы уделили бедному чарнего и...
— Не за что... Всего доброго.
— Спасибо, сеньора.
— До свидания.
5
«Наконец-то четверг», — сказал себе Марес. По четвергам около половины второго Норма заходила в центральный офис на площади Сан-Жауме и через четверть часа появлялась в сопровождении известного социолингвиста и рьяного общественного деятеля Жорди Валльс-Верду. Этот Валльс-Верду был шефом Нормы и ее любовником. Он занимал какую-то ответственную должность в комиссии, которая продвигала план Женералитата по лингвистической нормализации Каталонии. Марес познакомился с ним лет десять назад, когда таскал книги Берната Меже из богатейшей библиотеки покойного Виктора Валенти, отца Нормы.
В своем живописном тряпье — на нем были лохмотья, очень чистые и тщательно подобранные: серые полосатые фланелевые брюки, потрепанный свитер, заштопанный пиджак, рваный шарф и стоптанные ботинки без шнурков, — настоящий бродячий музыкант, нищий и жалкий, — Марес, скрестив ноги, сидел на газетном листе на углу площади Сан-Жауме и улицы Ферран, возле витрины парфюмерного магазина, где громоздились флаконы с одеколоном, тюбики зубной пасты и куски мыла. Пряча глаза за темными очками, он услаждал слух прохожих причудливыми вариациями на тему «Вздохов Испании», которые он украшал переборами сомнительного вкуса. Шесть монет по пятьдесят песет и еще четыре по сто поблескивали возле его башмаков. Мимо прошли пятеро лохматых молодых людей со скрипками и гитарами в футлярах. По площади сновали служащие, изредка проезжали казенные машины.
Пробило два часа. Из здания Женералитата вышли служащие и отправились обедать. «Сегодня моя публика уже вряд ли появится», — сказал себе Марес. Он увидел, как из здания муниципалитета вышла болтливая дама, похожая на переодетого уборщицей мужчину. Марес начал терять терпение. С минуты на минуту, зайдя за Валльсом-Верду в его кабинет, Норма Валенти должна была появиться перед Маресом, чтобы направиться в ресторан «Л'Агу д'Авиньон», который находился поблизости. Марес спрашивал себя, сколько времени мог продлиться у Нормы этот гнусный моноэтнический романчик, сколько еще четвергов он, Марес, будет являться сюда и торчать на углу только затем, чтобы мельком увидеть предмет своей страсти и изредка получить монетку. Сколько всего песет получил он от Нормы? Смехотворная плата за безнадежную страсть! Все эти монеты он бережно пересчитывал и хранил дома, в стеклянном аквариуме.
Вдруг Марес увидел, что они вышли на улицу и направились в его сторону, к улице Ферран. Марес раскинул умом и, припоминая, что Норме нравились мелодии Казальса, оборвал пасодобль и заиграл «Cant dels ocels». Одновременно он быстро перевернул висящий на груди плакат, возвещавший теперь, что он — родной сын великого музыканта, который ищет себе пропитание. Не замедляя шага, Норма порылась в сумочке. На ней была серая плиссированная юбка и черный джемпер, через руку она перекинула белый плащ. Ее спутник, прочитав плакат, насмешливо улыбнулся, промычал, не разжимая зубов, священный для каждого каталонца мотив и швырнул на газету горсть монет. «Вот тебе, дармоед», — буркнул он по-каталонски, проходя мимо. Норма тоже хотела бросить монетку, Валльс-Верду попытался перехватить ее руку, но опоздал: монетка пролетела по воздуху, аккордеонист разинул рот и ловко поймал ее зубами. Двадцать дуро, источающих благодать, благодать ее рук... Как обычно, Норма почти не взглянула на Мареса и не узнала его, она пошла дальше, даже не догадываясь, что этот оборванный уличный артист, увязший на самом дне жизни, отрезанный забвением от всего мира, раздавленный нищетой, — ее бывший муж.
Норма и ее спутник удалялись по улице Ферран. Марес резко поднялся, собрал монеты и поплелся за ними, взвалив аккордеон на плечо. Общественный деятель, остановившись на краю тротуара, обвил рукой талию Нормы и, улыбаясь, прошептал несколько слов ей на ухо. Марес тоже остановился: с болью он вспомнил неторопливый слащавый голос Валльса-Верду, его четкое, подчеркнуто-правильное носовое произношение, весь его высокомерный облик бдительного стража, денно и нощно охраняющего чистоту каталонского языка в прессе, на радио, в кинодубляже, на канале TV3 и на региональном телевидении. «Сволочь, тварь паршивая, — бормотал Марес по-каталонски в его адрес. — Мудак».
Нежности Валльса-Верду были сейчас Норме ни к чему, и она выскользнула из его объятий. Он торопливо чмокнул ее в щеку, остановил такси, сел в него и умчался в сторону Рамблы, а Норма пошла к ресторану «Л'Агу». «Значит, сегодня они не собираются обедать вместе», — сказал себе Марес и, сделав крюк, обогнал Норму и притаился в сумерках навеса, в самом начале переулка, где был ресторан. И там, изогнувшись от напряжения и нетерпения, улыбаясь краешком дрожащего рта, быстро пробормотал вслед Норме гнусным, измененным до полной неузнаваемости слюнявым голосом с сильным андалусским акцентом целый набор непристойностей, которые, как он знал, на нее обязательно подействуют. «Шлюха дешевая, бесстыжая девка, гладкие ляжки», — забормотал он, и тут все затаенные желания хлынули из его пересохшего рта непристойными похвалами ее горячему клитору, вздернутой заднице и томным оргазмам. И вдруг он забормотал гортанное, непонятное, дикое: «Дрянь, тварь, мразь, гнусь...»
Норма остановилась и через плечо посмотрела на свои ноги, якобы проверяя швы на серых чулках. От этих слов она вздрогнула, они явно предназначались именно ей — в переулке в этот момент не было ни души. Она почувствовала горячий укол внутри, хотела броситься прочь, но от хриплого голоса и потока непристойностей ноги ее словно парализовало. Съежившись в темноте и горько улыбаясь, Марес мысленно приподнял ей юбку: вот этот крошечный шрам на внутренней стороне бедра, незаживающий след от сигареты той ночью, когда он обезумел от ревности, а она грозилась бросить его... Сейчас его пальцы аккордеониста-попрошайки вновь ласкали кожу вокруг шрама, но он уже не мог вспомнить тепло ее чулок и наслаждение, которое доставляли ему эти ласки. Его измученная память, казалось, снова различала мягкое сияние ее обнаженного тела, мерцающий ореол, который окружал ее наготу, когда с величавым спокойствием она проходила по его воспоминаниям: вот она, голая, подходит к звенящему от солнечного света окну над садом Виллы Валенти, вот она оборачивается и бросает через плечо яростный взгляд. Как же далеко остался этот обжигающий образ!
Он все еще повторял свою непристойную скороговорку, и Норма, застыв, все еще слушала его, изучая швы на чулках. Потом, встряхнув своими прекрасными каштановыми волосами, она направилась к дверям ресторана. Не доходя, она достала из сумки ручное зеркальце и, улыбаясь, оглядела свои накрашенные губы. Марес заметил, как легкое облачко ее дыхания затуманило поверхность зеркала и дрожащий отблеск упал на ее тяжеловатую нижнюю губу, в которой ему всегда виделось что-то животное. И, прежде чем потерять ее из виду, сквозь набежавшие слезы он увидел розовый, дьявольский кончик ее языка.
Критика