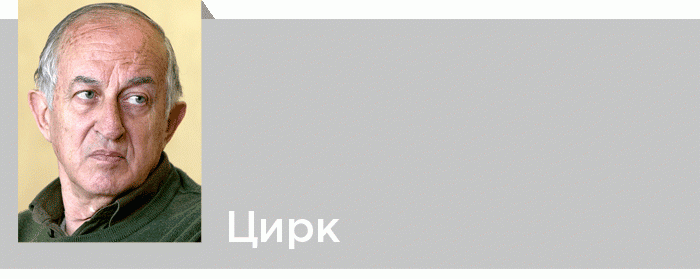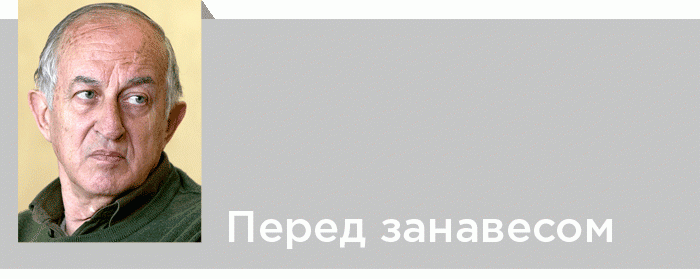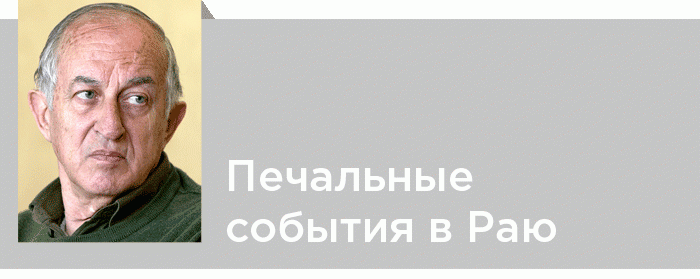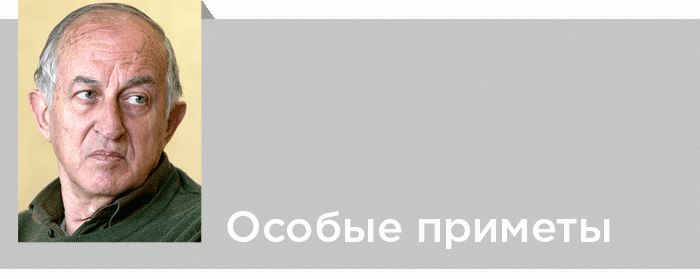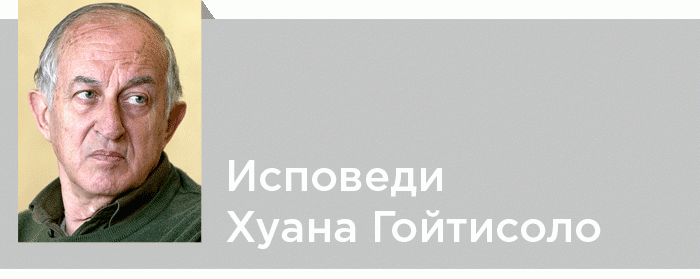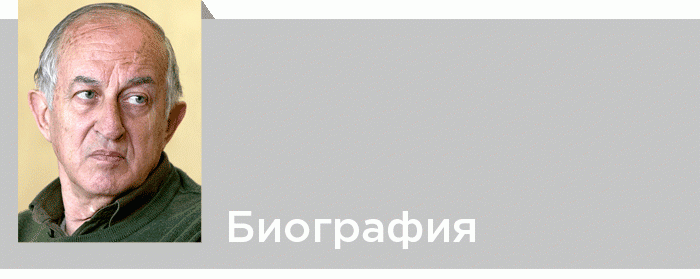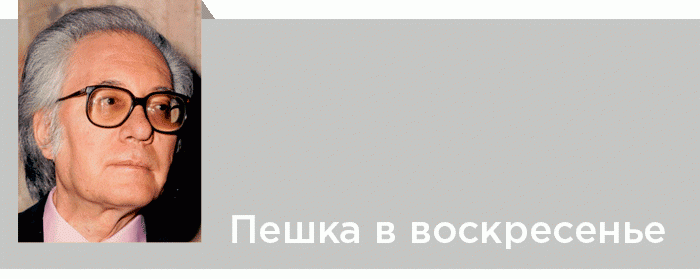Хуан Гойтисоло. Ловкость рук
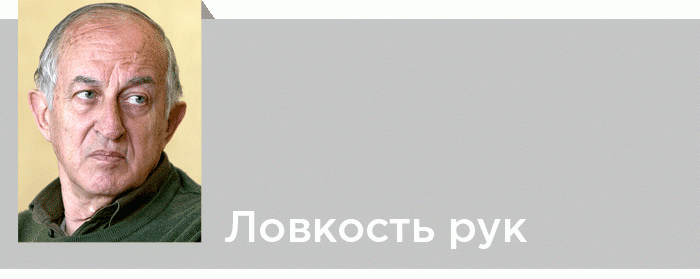
(Отрывок)
Мы вернемся на то же место, ибо преступник всегда возвращается па место своего преступления.
Э. М. С.
I
Когда они вышли на улицу, дождь все еще лил. Капли, отрываясь от кровли, падали на шиферный желоб, и сточные колодцы у обочин тротуара с шумом всасывали потоки воды.
Они остановились у самой двери, не решаясь идти дальше, слушая, как бранится хозяин чуррерии , недовольный слишком малой платой за беспорядок, учиненный в заведении.
— Ну, ладно, пошли, что ли. Я же вам говорил...
Пепельно-серый рассвет навевал невыразимую печаль.
Ореолом вокруг шаров на фонарных столбах желтел туман.
Здания, обступившие с двух сторон улочку, походили на плоские декорации, поставленные для съемки фильма. Кругом не было пи души.
— Мне холодно.
Эдуардо Урибе, Танжерец, отцепился от жепщин, которых держал под руку, и забарабанил в только что закрытую дверь.
— Откройте, откройте!
Дыхание, словно облачко табачного дыма, вырывалось у него изо рта. Было холодно, и Танжерцу хотелось пропустить глоток виша.
Женщины поспешно окружили его и умоляюще обняли, стараясь предотвратить новую драку.
— Пойдем, Танжерец, видишь, закрыто?! Все уже ушли!
— Пойдем с нами, милый. Мы отведем тебя домой. Ляжешь в теплую постель. Сейчас важно согреться.
Но Урибе не желал, чтобы о нем заботились. Подобные знаки внимания приводили его в ярость. Он с силой оттолкнул женщин.
— Оставьте меня. Я не хочу, чтобы меня трогали. Я хочу войти туда.
И он снова забарабанил кулаком в закрытую металлическую дверь.
— Откройте, откройте!
Самая маленькая из трех женщин, виновница разыгравшейся перебранки, не переставая плакать, тащила Урибе в сторону.
— Дорогой мой, любовь моя!
Урибе в бешенстве обернулся.
— Вы не моя любовь и никогда ею не были.
И снова град ударов обрушился на дверь.
— Сторож, сторож! Откройте дверь!
Улица была пустынна. Моросило. Из окна соседнего дома высунулась женщина.
— Бесстыдники! Нашли время устраивать скандалы, не даете людям спать.
Подруги Урибе набросились на непрошеную защитницу тишины.
— А вы заткнитесь! Вас никто не спрашивает!
В ответ раздались брань, оскорбления. И окно с треском захлопнулось.
— Наконец...
Прислонившись к фонарному столбу, Рауль Ривера с безразличным видом наблюдал эту сцену.
Это был грузный, крепкий, с квадратными плечами парень, немного старше Урибе; у него были густые курчавые волосы и огромные черные усы.
Экстравагантный костюм его был в беспорядке: пиджак расстегнут, брюки в грязи. На незастегнутой рубахе болтался полуразвязавшийся галстук. Серое помятое лицо Рауля словно впитало в себя блеклый неясный цвет последних клочьев утреннего тумана.
Стоя у фонарного столба, в сдвинутой на затылок шляпе и зажав в зубах сигарету, он всем своим видом показывал, что держится в стороне от Урибе и его подруг, на которых, однако, неотрывно смотрел.
— Ничего не выйдет,— буркнул он.
Одна из женщин, самая толстая, с презрением посмотрела на него.
— А вас тоже не спрашивают. Вы-то и виноваты во всем. Могли бы с ним договориться, не пуская в ход кулаки.
Она умолкла на миг и, указав на Урибе, добавила:
— Будь вы настоящим другом, вы бы не затевали ссоры и не оскорбляли бы его за то, что он не ввязался в драку.
Ривера криво усмехнулся.
— Так. Выходит, теперь я во всем виноват. Очень хорошо. Это мне урок на будущее — не вмешиваться в чужие дела.
Уперев руки в бока, и пуская кольца дыма, он являл собой живое воплощение оскорбленного достоинства.
— Обычная история. Бедненький мальчик ни в чем не виноват. А я совращаю его.
Он обращался не к женщине, которую не любил и не желал, а к самому себе, причем говорил жалобным тоном, как человек, который испытывает удовольствие, растравляя свою рану. «Я думал, что подрался из-за него, а выходит, я во всем виноват...» С похмелья он часто размякал.
Урибе между тем продолжал колотить в дверь чуррерии.
Откройте, откройте!
«Так не может продолжаться»,— подумал Рауль.
Эти слова он говорил себе не в первый раз, и воспоминание об этом привело его в ярость. Вечер, как всегда, кончился плохо. Так бывало всякий раз, когда они отправлялись в Лавапьес: Урибе начинал голосить. Оба они напивались. А стоило им напиться, как кто-нибудь из них, обычно Урибе, затевал скандал. И Ривере приходилось пускать в ход кулаки, чтобы унять драчунов, а Урибе смеялся от удовольствия, точно ребенок.
«В следующий раз и пальцем не пошевелю, пускай его хоть разорвут на куски»,— подумал он злорадно. Его отношение к Урибе было каким-то странным сплавом восхищения и презрения.
Обычно он любил поиздеваться над Урибе, высмеять его манеры "и одежду, сказать что-нибудь мерзкое о его привычках и вообще с удовольствием выводил его из себя. И наряду с этим он просто не мог жить без Урибе, всегда таскал его с собой, благосклонно слушал его болтовню и испытывал настоящее удовлетворение всякий раз, когда втравлял приятеля в какую-нибудь драку.
Недостатком, а может быть добродетелью, Риверы была его чудовищная физическая сила. С кем бы он ни дрался, он всегда выходил победителем.
Вот почему он каждый раз раскаивался в том, что позволил втянуть себя в драку. Тогда он набрасывался с оскорблениями и бранью на Урибе. Он обзывал его трусом, бабой, обещал разделаться с ним и вздуть. А порой и в самом деле колотил его.
Но потом, как правило, тут же раскаивался. Унижения, которым он подвергал своего друга, терзали и мучили его самого. И не проходило и часа, как он со слезами на глазах умолял Урибе простить его, гладил друга по голове и обнимал. И все снова шло по-старому, словно ничего не случилось. Ривера уводил с собой
одну из женщин, а Урибе провожал домой подгулявших пьянчужек. В этот вечер Ривера не побил Урибе. Прислонившись к фонарю, уперев руки в бока, он чувствовал себя униженным и задетым.
Урибе, видя, что хозяин чуррерии не обращает никакого внимания на его стук, уселся на край тротуара и мрачно уставился осовелыми глазами на струящиеся под ногами потоки воды.
Женщины, став в кружок, обсуждали дальнейшие действия. Считая своих друзей вдрызг пьяными, они говорили, не заботясь о том, что их могут услышать.
— Надо найти такси.
— Так поздно не найдешь.
— Хоть бы стоянку здесь устроили.
— Лучше самим поискать. Может, на Аточе...
— А ты думаешь, он пойдет?
— Мы его дотащим.
Они взглянули на Риверу.
В мертвенном желтоватом свете фонаря резко выделялись мелкие морщинки на его бескровном лице.
Дождь прекратился, но с мокрых балконов на тротуар продолжала стекать размытая краска (так линяют подкрашенные глаза у плачущей женщины), и тротуарные плиты будто впитывали в себя трепетный свет зари, смешанный с белесой пеной, которую выплевывали стены домов.
Улица по-прежнему была пустынна; казалось, влажный асфальт поглощал шум шагов. Где-то вдалеке раздался властный мужской окрик, громкий топот ног и цоканье скользящих копыт.
Маленькая женщина подошла к Урибе и потянула его за лацканы пиджака.
— Пойдем, Танжерец,— сказала она.— Будешь здесь торчать, совсем окоченеешь.
Урибе не пошевелился.
Женщина помедлила немного, не зная, что предпринять дальше; в доме напротив открылась дверь, и толстощекий паренек с любопытством разглядывал их.
— Танжерец!
Она схватила его за плечи и кое-как поставила на ноги.
Урибе тупо смотрел на нее и лениво тер глаза.
— Уфф! — выдохнул он.— Бабы — гориллы.
Они пошли по улице*.
— А он?
Проходя мимо фонаря, возле которого стоял Ривера, Урибо указал на него пальцем.
Женщина снова потянула его за рукав; платил Урибе, и Ривера ее не интересовал.
— А-а, черт с ним. Ты же видел, как он обращался с тобой. Оскорбил тебя. Он плохой друг.
Урибе снова обернулся и заносчиво посмотрел на приятеля. Ривера стоял, привалившись к фонарю; сигарета косо торчала у него изо рта, и он горько улыбался.
Урибе в нерешительности остановился. Затем, припомнив недавние оскорбления, которые нанес ему Ривера, угрюмо поджав губы, буркнул:
— Ладно, пошли.
Он сказал это, словно внезапно обрел безграничную власть над товарищем, но из каприза не пожелал воспользоваться ею. Взял под руки обеих девиц и презрительно повернулся спиной к Ривере.
Рауль тут же швырнул на землю сигарету, застегнул пиджак и быстро зашагал в противоположном направлении.
Урибе с женщинами молча взбирался вверх по улице. Холодный ветер кружил клочки бумаг на зеркалах луж и срывал с губ легкие облачка белого пара.
Урибе улыбался. Короткий отдых на тротуаре, во время которого он даже немного вздремнул, отрезвил его. И теперь, когда он проходил мимо шеренги однообразных фасадов, ему чудилось, будто дома идут вместе с ним. Как обычно, он шел, не зная куда, ноги сами несли его, и он послушно переставлял их. Винные пары постепенно улетучились, и вместе с рассветом в Урибе снова просыпались безумство и любовь к чудачествам.
— Брачные рыбы,— произнес он.
Эту пришедшую на ум фразу он вычитал в какой-то поэме, и она ему очень нравилась.
— Я сказал: брачные рыбы.
Женщины недоуменно смотрели на него.
— Ну, смейтесь! Надо быть веселым на рыбьих похоронах.
Он остановился посреди тротуара и вытащил из кармана маленькое зеркальце, оправленное в перламутр.
— Привет, старина,— сказал он, обращаясь к своему отражению. Он всмотрелся: освещенное утренним светом лицо его выглядело постаревшим. На лбу, вокруг глаз, в углах губ неведомый художник постарался нарисовать множество мелких морщин.
Позируя перед зеркалом, Урибе высоко поднимал брови, и кожа на лбу, лишенная мускулов, покрывалась бороздками, как при плохо наложенном гриме.
— Я выгляжу старым и грустным,— пробормотал он. И вдруг с яростью швырнул зеркальце на тротуар: асфальт покрылся мириадами крошечных звездочек.
Женщины наклонились, чтобы поднять разбитую оправу.
— Ой, такая красивая...
Урибе, блуждающим взором глядя вокруг, разглагольствовал сам с собою.
— Надо красоваться, блистать... Мне нравятся юпитеры и музыка. И только... противны бабы-гориллы.
Он подошел к самой маленькой и фамильярно похлопал ее по спине.
— Еще где-нибудь открыто?
— Сейчас?
— Да, какой-нибудь бар, кафе... Какое-нибудь место, где был бы народ.
Ему не ответили.
— Здесь поблизости, на Аточе...— наконец сказала одна.
Урибе взял ее под руку.
— Я найду тебе самца, девочка... Получше меня... Честное слово.
Женщины послушно поплелись за ним.
— Знаете, однажды в «Ирландии»...
Они завернули за угол.
Порыв холодного ветра подернул рябью лужи. Редкие прохожие поспешно шагали по тротуарам. Ветер крепчал; день обещал быть дождливым.
* * *
В резком свете обстановка комнаты казалась выгравированной: голые стены светло-серого тона, американский письменный стол с острыми углами, ультрасовременные металлические кресла. Настольная лампа — большой матовый шар. Пепельница, блестящий разрезной нож и прочие письменные принадлежности на столе, казалось, сами излучали свет кроме того, что лился из окна сквозь занавеси. Дону Херонимо, так звали хозяина кабинета, было немногим за пятьдесят, лицо его сплошь состояло из розо-вых шишек, а посреди мясистого подбородка торчал нарост с большую фасолину. За толстыми стеклами роговых очков глядели добродушно-веселые глаза.
— Так вы сын Паэса... Просто не верится... Настоящий мужчина... Ваш отец чувствует себя хорошо?.. Мы с ним давнишние друзья, не знаю, известно ли это вам... Мы бьши из одного круга... Но жизнь... Каждый избирает свой путь... Женится... Да, кстати, как поживает ваша мама? Я видел ее в прошлом году на празднике благотворительного общества... Всегда такая веселая...
Луис расплылся в улыбке. «Таких типов хлебом не корми, только дай потрепаться», но тут же сделал серьезное лицо. Кор- тесар, сидевший слева, тайком наблюдал за ним. Прямо каменная рожа. Ну и мерзость. Только ради дела можно терпеть такого типа. Он наблюдал, как Луис подчеркнуто вежливо склонял голову и очаровательно улыбался.
— А вы? Уже в университете? Так, так!.. Да, молодость... Вот что значит двадцать лет, никогда не устану повторять... Что же вы изучаете?.. Медицину? А-а, юриспруденцию. Ну, разумеется. Как папа... Вот это сынок!.. Вы, молодежь, ненасытны, любознательны... В мое время мы столько не занимались, больше думали о развлечениях... Все, кроме вашего отца, разумеется... Он всегда был примером для нас... Достаточно сказать, что он ни разу не ходил на танцы...
Когда дон Херонимо говорил, складки жира на его шее тряслись, как желе. Он был воплощением динамизма и веселья. При виде этого жирного туловища, насаженного на вращающийся стул, Паэс внезапно припомнил обложку экономического журнала, который выписывал его отец. Толстый лысый господин в очках, подобно доброму волшебнику, простирал вперед руку: «Улыбайтесь. Это увеличит ваши доходы». Мысленно он послал толстяка к черту, однако улыбка не сошла у него с губ.
— И вы пришли попросить у меня разрешения. Ну, ну... Итак, вам нравится механика... Ах, нынешние молодые люди интересуются всем на свете... Вы раньше водили машину?.. Да, конечно... Давно?.. Габриэль сказал, что проверка прошла удачно. Сколько вам лет?
— Восемнадцать,— ответил Луис, стараясь выразить своим взглядом сложную гамму добродетелей, столь почитаемых в примерном молодом человеке: внимание, уважение и восхищение старшими.
— А вы принесли поручительство вашего отца? До двадцати одного года мы не можем разрешать вам, если...
«Тра-та-та-та». Очки в роговой оправе придавали ему еще более самодовольный вид. «Умейте улыбаться, и тогда...» Луис с самого начала разговора ожидал этого вопроса, и теперь уныние, выразившееся на его лице, казалось весьма убедительным.
— Нет, я не знал... Перед отъездом папа сказал мне, что все согласовано... У меня и в мыслях не было...
— Ваш папа сейчас в отъезде?
— Да, уже две недели.
Луис вспомнил рецепт и еще усердней изобразил на своем лице улыбку. «Она должна быть,—подумал он,—печально-меланхоличной, как у примерного юноши, который совершил оплошность, и в то же время выражать непоколебимую уверенность во всемогущей власти взрослых». Луис жалел, что не может посмотреть на себя в зеркало, но по лицу Кортесара догадывался, что играет неплохо.
— Досадное недоразумение,— сказал дон Херонимо.
Ласковые глаза юноши вновь устремились на него с мольбой
о помощи.
— Я был уверен, что все в порядке... ,
В голосе Луиса прозвучало такое отчаяние, что толстяк начал колебаться. «Один раз...» Так жестоко было разочаровывать молодого человека, который решил научиться полезному делу. Дон Херонимо всегда повторял: «Не надо никому чинить препятствий».
— Хорошо. Я посмотрю, что можно сделать. Правило гласит вполне определенно: нельзя доверять несовершеннолетним автомобиль без поручительства родителей. Но когда речь идет о таком старом друге, как ваш отец...
Он встал и уже в дверях послал Луису ободряющую улыбку.
— Подождите минуточку. Кажется, у Габриэля заготовлены все документы.
Оставшись одни, молодые люди переглянулись, и Луис скорчил рожу.
— Видал борова?! «Ах, нынешняя молодежь такая любознательная. Ваш папа...» Ну и скотина!
— Еще воображает! О таких типах надо книги писать.
— «Постараюсь сделать все,,что возможно». Постараюсь... постараюсь... Ох, и дам же я ему...
— Не ори так. Он может услышать.
— Пусть слышит. Сам меня довел.
Луис достал портсигар и закурил сигарету.
— Такие типы действуют мне на печенку.
— Да помолчи ты! — цыкнул Кортесар.
Луис взял со стола пепельницу и сунул в карман.
— Ты что?
— Возьму себе. Дома пригодится.
— Не дури. Он догадается.
— Подумаешь. Не будет же он нас обыскивать.
Только что разыгранная комедия оставила у Луиса неприятный осадок, хотя таким способом он хотел успокоиться.
— Ты спятил,— сказал Кортесар.
Он с изумлением следил за спокойной отвагой друга. Паэс не обращал на него никакого внимания. Развалился в кресле и, попыхивая сигаретой, огляделся кругом. Свет, сочившийся сквозь занавески на окнах, походил на мутный лимонад. На журнальном столике лежал вестник светской хроники. Луис наугад раскрыл его. «В своем особняке на улице Серрано маркиз де Лерига устроил прием для выдающихся представителей мадридского общества. На фотографии: уголок зала. Обратите внимание на консоль в стиле Людовика XV и золототканный фламандский гобелен». Луис скривил губы. Голос друга вывел его из задумчивости.
— Нам еще надо раздобыть тысячу песет. Пока они не будут у нас в кармане, мы ничего не добьемся.
— Не беспокойся. Достанем.
— Интересно, как это?
— А разве мы уже не получили водительские права? Ты тоже не верил в это.
— Деньги совсем другое. Их никто не даст взаймы.
— Я тебе говорю, достанем. Не пройдет и недели, как у нас будет машина.
— Особенно, если ты возмешься за это дело...
— А почему бы и нет.
Зевая, он обернулся к окну. На небе сгущались тучи, и с каждой минутой становилось все темнее. В тревожном молчании застыли деревья и кусты. На неподвижной, как фотография, улице нелепо двигались прохожие. Луис задернул занавеску.
— Послушай,— сказал Кортесар.— А если этот старикан встретит твоего отца?
Паэс успокоил друга.
— С правами в кармане мы...
Он вдруг замолчал, и на его губах заиграла прежняя улыбка. Дон Херонимо возвращался с бланком в руках. Садясь, он повернул вращающееся кресло градусов на тридцать.
— Как видите, безвыходных положений не бывает. Уж если человек задался какой-то целью, рано или поздно он ее добьется.— Дон Херонимо улыбнулся.—Друг мой, ваше дело улажено. Мы заполнили бланк так, словно поручительство уже дано, и, как только ваш папа приедет, он его подпишет.
Луис улыбнулся с очаровательным подобострастием.
— О, благодарю вас!
И пока дон Хероннмо подписывал документы, приятели обменялись торжествующими взглядами.
— Как приятно помочь молодым людям, которые стремятся к знаниям...
«Тра-та-та, завел шарманку...» Морщины, складки, жировики, живое сало. Толстяк говорил с удвоенным энтузиазмом. За круглыми стеклами очков глаза его походили на голубые пуговки с молочно-белой каймой. Любезным голосом он осведомлялся, покатает ли Луис в машине своего «папу». «Обязательно,— думал Луис,— покатаю, только девочек». Он пожал пухлую руку и вышел из кабинета, пообещав в скором времени прийти вместе с отцом.
Вот уже несколько дней, как атака на нервы домашних, которую он вел, достигла высшего напряжения. Все водопроводные краны постоянно были отвернуты, гобелены в гостиной прожжены, ковер усыпан окурками. Он припомнил, как прошло последнее рождество, елку, которую купила донья Сесилия, свечи, игрушки и елочные украшения. На столе лежали подарки: у каждого места, рядом с прибором, красовалась написанная от руки карточка: «для папы», «для мамы», «для Луиса»... Люстра была погашена, чтобы создать в комнате более уютную обстановку. Когда Луис пришел домой, дон Сидонио крепко обнял его. Отец был в бумажной шляпе, которая держалась на резинке, он открывал шампанское, без умолку болтал и всячески показывал, что вспышка гнева, приключившаяся с ним накануне, была полностью забыта. Дон Сидонио твердо верил, что Луис поступил осенью в школу инженеров, и известие об обмане как громом поразило его, но он решил оправдать сына. Вероятно, он сам слишком старомоден. «Да, должно быть, так»,— говорил дон Сидонио печальным голосом, каким обычно произносил свои ежедневные соглашательские сентенции и который так хорошо был знаком донье Сесилии. «В мое время мы считали чудовищным обманывать родителей. Я осеняю себя крестом, когда вспоминаю твоего бедного дедушку. Он умер бы от огорчения, поступи я с ним подобным образом. Да, я становлюсь совсем стариком»,— и отец смотрел на Луиса с надеждой, ожидая услышать, как тот будет оправдываться, отпираться, искать примирения, хватаясь за соломинку. «Нет,—думал Луис,— нет, нет и нет». Гордость не позволяла. Но в то рождество все было забыто: дои Сидонио встретил шампанским блудного сына, нацепил на себя бумажную шляпу, шухмно ласкал малышей. Словом, рождественский колокольный звон! Луису показалось, что он слышит отцовский голос: «РазвершГсвой подарок, Глория». «А ну-ка, что подарили малышам?» И радостные вопли: «Спасибо, спасибо, папочка». Счастливое семейство. Игра в безмятежную семейную жизнь. А Луис? Разве он не хочет посмотреть свой подарок, чтобы доставить удовольствие мамочке? Нет, не хочет. И даже если его попросит об этом отец? Да, и тогда тоже. К черту, всё и всех, к черту! Он уйдет. Уйдет? Куда? Он сам не знает. Где-нибудь поужинает. Его ждут друзья. Какие друзья? Бандиты, вот они кто, жулики, шулера, анархисты! Лицо дона Сидонио побагровело под бумажным колпаком. Золотистые пузыри шампанского пенились у края бокала; на крышке бара плавали виноградные веточки, апельсинные и лимонные корки. Младшие братья и сестры во все глаза смотрели на Луиса. Донья Сесилия ради святого праздника призывала всех помириться. Ссору прервал звонок; в коридоре раздались шаги, словно кто-то шел по опавшим сухим листьям. «Никогда я не испытывал такой боли, как в ту минуту. Неужели возможно, чтобы вся трудовая жизнь окончилась вот так? Неужели? Боже мой, неужели?» В столовую, держа в руках погремушки и свистульки, ввалился пьяный Танжерец, отважно попирая нормы приличия: «Я вестник мелкобуржуазной морали». Он произносит это с безграничной гаммой оттенков, которые умеет придавать своему голосу, когда наряжается феей или проституткой и преподносит присутствующим высохшие цветы — увядшие воспоминания, извлеченные из ветхих требников, куда их положили старушки, почившие в бозе, этот аромат прошлого, рассыпающийся в пальцах... А он, Луис, зачарованный тем, что должно случиться, тем, что уже случилось в эту минуту, находился во власти дьявола, который постепенно прибирает его к рукам. «Дорогой мой сеньор, да, дорогой, ибо я безмерно люблю и уважаю вашего сына, с которым меня связывают тесные узы. Я надеюсь, что вы великодушно извините мое вторжение в столь интимную обстановку, учитывая мое состояние, которое я, дабы не употреблять слова, могущего оскорбить слух присутствующих здесь дам, осмелюсь квалифицировать, как плачевное». Криво улыбаясь, лихорадочно блестя глазами и дыша винным перегаром, он потряс погремушкой перед самым носом дона Сидонио. «Пошли, гуляка: гориллы ждут нас внизу». Луис в последний раз почувствовал себя раздвоенным: с одной стороны перед ним встало прошлое, застывшее в сухих глазах матери,—сладкая комедия семейного счастья, а с другой стороны он увидел робкое существо, во все глаза разглядывающее перекошенное пьяное лицо Урибе, его скоморошеские ужимки, сургучную печать его губ. Сам не зная как, Луис вдруг очутился на улице. Да, к черту! Отец не хотел понимать его, он обманывал самого себя, Всех к черту! Старика, братишек, сестренок и мамашу. Их только подцеплять на палочку, как севильские оливки. Урибе, повисший у Луиса на руке, удивился мрачному выражению его лица. «Я пе-ресолил, да, гуляка? Я, наверно, сболтнул лишнее. Ты меня простишь? О, ответь мне! Я умру от огорчения!»
Как свежо все это было в памяти и как далеко! Он вышел из битвы окрепший, почти неуязвимый. «Как Зигфрид из крови дракона»,— шутил он. В дальнейшем он стал смотреть на вещи другими глазами: «Мир — это взаимные услуги». Чувствам нельзя поддаваться: под ними всегда кроется подЪох. Дон Сидонио поведал сыну о том, как он трудился в молодости, чтобы выбиться в люди: «Спроси об этом у твоей матери». И донья Сесилия, очутившаяся между двух огней, в своей обычнее роли статистки, тягучим голосом рассказывала о деловых встречах, долгих бессонных ночах, маленьких кирпичиках, из которых складывался семейный очаг, домашнее благополучие, каким он, Луис, пользуется теперь. Ласточки по кусочку строят свои гнезда, так и его отец воздвиг стены их дома, построил свою раковину, свою розовую мечту, добыл насущный хлеб, поддерживающий его жизнь, одежду, которая спасает его от холода. И так — все. Несомненно, он просто чудовище, если считает, что этого мало. А Луис думал: «Отец — бес-чувственный кусок мяса». Агустин был прав: «Чтобы быть настоящим мужчиной...» Так мало настоящих мужчин... «Как трудно создать что-то новое. Все уже решено и сделано другими. Мы никогда не чувствуем себя самими собой». И краны оставались по- прежнему отвернутыми, кресла прожженными, в доме царил раздор. Родители Луиса хранили молчание, и хотя он не слышал, как они, укладываясь спать, говорили между собой, знал, что отец сокрушенно и тайно вздыхает: «Что он там делает? Чем занимается? Откуда достает деньги?» Шепот, приглушенные голоса, обрывки фраз, отзвуки слов, тотчас же поглощенные жгучим стыдом, морем покорного смирения, и все это при полной уверенности, что в конечном счете ничто не изменится...
Кортесар тронул Луиса за руку, и тот вздрогнул.
— Прости,— сказал он.— Повтори, что ты сказал. Я задумался и не расслышал.
Они спокойно продолжали идти к гаражу.
Рауль на миг задержался на пороге: сбитая на затылок шляпа, расстегнутый пиджак, небрежно зажатая в зубах сигарета придавали ему вид немного потертого уличного сутенера. Он стоял, вызывающе уперев руки в бока. Рубашка была залита вином. Галстук торчал из кармана пиджака, куда он его засунул во время перебранки с женщинами. От чуррерии он шел пешком, и все его лицо покрылось мелкими капельками пота.
Пока он шел, мысли его становились все мрачнее. Подлые трусы. Он побил их всех и обратил в бегство, а теперь даже не помнил, сколько их было. Он помнил лишь самого высокого, который зажимал нос платком, тщетно стараясь остановить льющуюся кровь. Блондинка, которая отвечала на его оскорбления, плакала. Хозяин чуррерии подбирал стулья. Все смотрели на него осуждающе. Он снова показал себя: напился, подрался, оскорбил женщин, и все из-за этой паршивой проститутки Танжерца. «Да- да, именно проститутки, клянусь моей святой мамашей, он такой! Ради него кулаки в кровь разбиваешь, а он вон чем платит. Так ему и надо. В другой раз не будет лезть куда не просят».
Критика