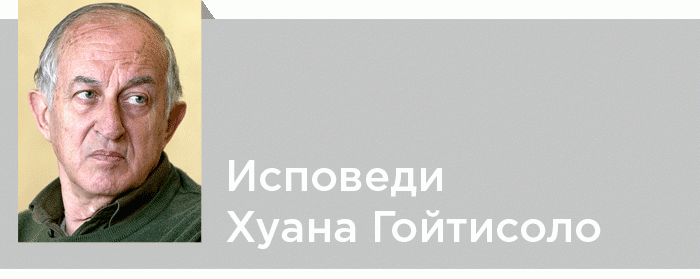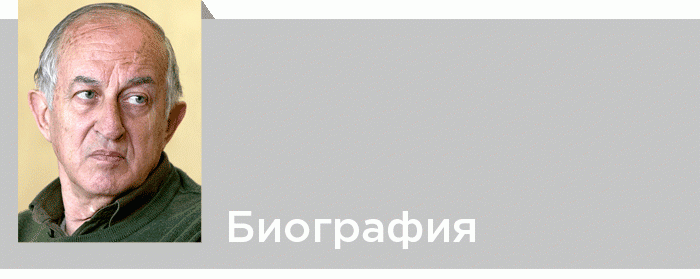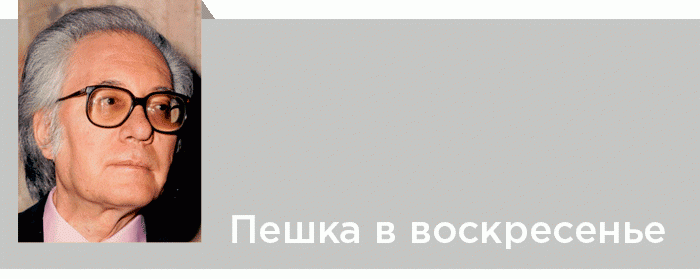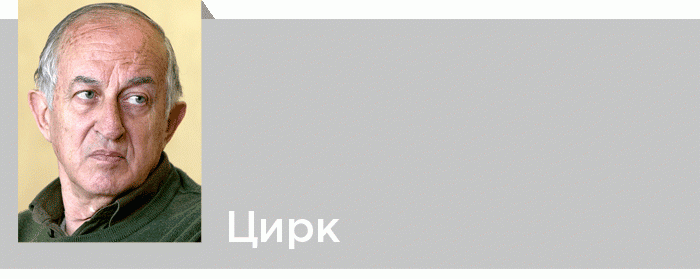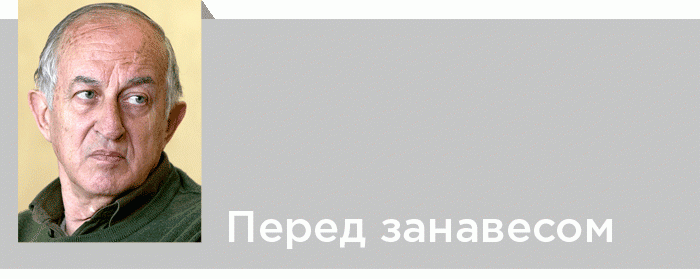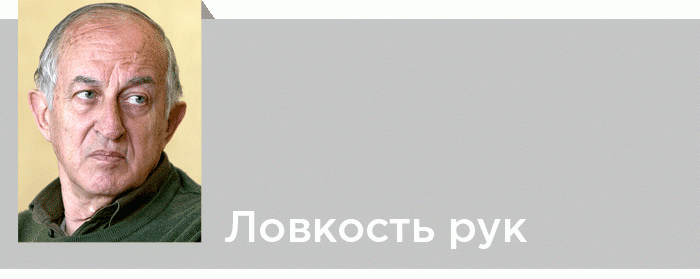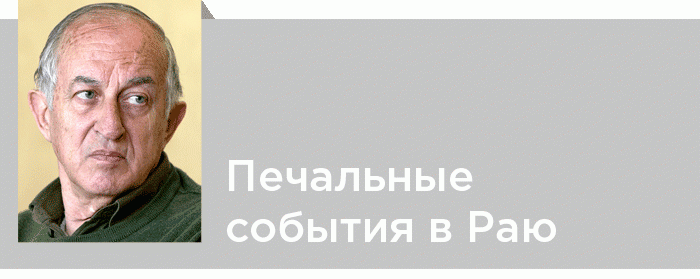Особые приметы
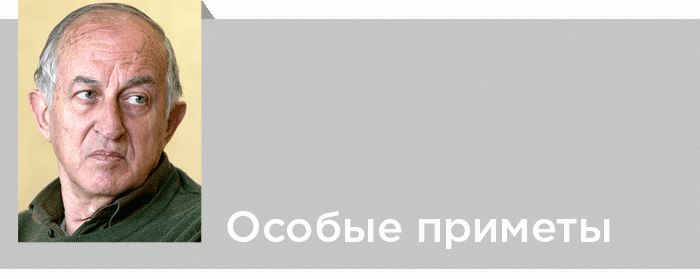
Л. Зонина
Объектив фотоаппарата или кинокамеры (стекло, металл) — холоден, объективен. Но направляет линзы человек — его страсть или корысть, нежность или ненависть, преклонение или презрение. Двуединость искусства здесь очевидна, наглядна, и, возможно, именно в этой наглядности причина того, что в последние годы фотограф — свидетель и маг — часто становится героем романов и фильмов, где раздумья об искусстве слиты с раздумьями о человеке, истории, прошлом, настоящем и будущем.
Альваро Меядиола — герой последнего романа Гойтисоло — фотограф.
В фильме Алена Рене «Война окончена» испанский коммунист подпольщик Диего должен сообщить жене товарища о том, что ее муж попал в руки полиции Франко. В этот миг трагического накала сценарист — Хорхе Семпрун — требует от камеры, чтобы она оглядела комнату в парижском пригороде Иври, комнату, которая тридцать лет служит убежищем эмигрантов, ни на минуту не прекращавших борьбы за то, чтоб вернуться на родину, — чтобы она оглядела эту комнату «взглядом трезвым и в то же время исполненным нежности», чтобы она прочла скудость быта и страстную безмерность надежд, затаившихся в томиках книг, в шеренге пестрых матрешек.
Трезво и в то же время с нежностью, трезво и в то же время с ненавистью — так написан и роман «Особые приметы».
В споре об «ангажированной» и «неангажированной» литературе, который возгорается и гаснет на горизонте Запада с регулярностью мигалки, Хуану Гойтисоло, как и другим испанским поэтам и прозаикам его поколения, не к чему было даже принимать участия. Слишком свежи и болезненны были исторические рубцы на теле его родины, слишком неотвязно ныли у сыновей раны, нанесенные отцам, чтоб можно было отвлечься от социальной действительности, уйдя в «чистую» литературу. Легко было во Франции апологетам нового романа рассуждать о том, что факты и события общественные — это, мол, достояние журналистики, дело документального кино. Франкистская Испания лгала в газетах, фальсифицировала действительность на экране. Молодая испанская литература в пятидесятые годы выплеснулась криком боли и гнева, врезалась в жизнь социологическим скальпелем.
Воздуха.
Разве в Испании
нет воздуха?
Воздуха! Воздуха! —
кричал молодой Хесус Лопес Пачеко в своей первой книге «Положив на Испанию руку». Литература стала требовательным голосом народа, прерывистым, задыхающимся, но незаглушимым.
«В трудные периоды задача писателя состоит в том, чтоб обнажать подлинное лицо общества и отражать его противоречия», — утверждал Хуан Гойтисоло, и его романы обнажали лицо испанского общества, отражали его противоречия. Они были правдой об Испании — о нищих, голодных, бесправных крестьянах Нихара, о жалкой старости и поруганной юности барселонских предместий, о лицемерии церкви, армейской муштре, о перерождении тех «идейных» борцов фаланги, которые к зрелым годам порастратили убеждения, зато приобрели солидное положение в обществе. Ненависть к фасадной империи Франко вела «объектив» Гойтисоло, и он фиксировал картины жизни больного, насквозь прогнившего, пораженного гангреной строя. И наконец взгляд, обозревший широкую панораму, с бескомпромиссной требовательностью и ожиданием обернулся к двойнику писателя, к его подобию.
Альваро Мендиола, разумеется, не автопортрет, роман — не автобиография. Однако трагизм мироощущения Мендиолы и его жестокая придирчивость к себе близки писателю, прожившему, подобно герою, долгие годы в добровольном изгнании и не избывшего любовь к ненавистной отчизне.
Как жить, когда все кажется безнадежным, когда душит, сжимает сердце ощущение собственной слабости перед всемогуществом государственной машины, перед агрессивностью и самодовольством буржуа, наконец-то начавших «догонять Европу», перед трусливой неподвижностью мещанина, которому несть числа?
В те несколько дней, описанных в романе, когда Альваро, пораженный тяжким недугом, с обостренной ясностью, с пронзительностью, которая дается только одиночеством перед лицом смерти, — страшным и плодотворным для художника, — пересматривает свою жизнь — ее истоки, ее слагаемые, ее радости и непоправимые ошибки, — он обозревает не только свой внутренний мир, свои «особые приметы», но и «особые приметы» эпохи, его воспитавшей. Внутренний монолог (Гойтисоло выделяет его ломкой строки, отбрасывая знаки препинания, чтоб подчеркнуть стремительность мыслей, их текучесть, слитность), воспоминания Альваро пестрым коллажем накладываются на звуковой фон туристской болтовни, вавилонский бред пошлости; подлинные переживания, истинные чувства Альваро сплетаются со злобной чушью, источаемой по его адресу так называемым «общественным мнением» франкистской элиты. Рассказ о жизни Альваро и его друзей, как она видится им самим, дополняется полицейскими донесениями, программами официальных торжеств.
В октябре 1952 года Альваро Мендиола уехал из Барселоны в Париж, чтобы дышать воздухом свободы.
Десятки тысяч его соплеменников, «пережившие двадцать пять, тридцать, а то и тридцать пять лет голода и лишений, исходившие весь Пиренейский полуостров в поисках работы и жилья», искали за границей не воздуха, а хлеба. В гамбургском порту, на вокзалах Женевы и Франкфурта, в дешевых бистро и барах Парижа и Амстердама встречает фотокорреспондент «Франс суар» Альваро Мендиола «Хуанов и Хуан», предлагающих свои самые дешевые руки в Европе.
Альваро в хлебе насущном не нуждается. Потомок астурийских идальго, ставших предприимчивыми купцами, правнук рабовладельца — кубинского плантатора и сахарозаводчика, внук барселонского буржуа, сын помещика, убитого в 1936-м восставшими крестьянами, он мог бы, как его дядья и кузены, существовать безбедно, респектабельно и законопослушно, слегка меняя оттенки политических надежд и привязанностей в соответствии с модой эпохи. Но эти — классовые — корни Альваро обрубил, сознательно, бесповоротно. Детство, проведенное в атмосфере сентиментального мистицизма, отрочество в стенах иезуитского коллежа, все, что было заложено в отпрыска рода Мендиола, оказалось потрясено и сдвинуто встречей с батраком Херонимо, ставшей для Альваро вторым — нравственным — рождением, началом сознательного пересмотра основ.
После нескольких каникулярных месяцев дружбы с Херонимо, оборвавшихся трагически, когда Херонимо (а может быть, его звали вовсе не Херонимо) ушел на рассвете из поместья, отстреливаясь от жандармов, и, наверно, погиб, так и не добравшись ни до маки, одним из вожаков которого он был, ни до спасительной границы, — после этих недолгих месяцев оказалось невозможным просто вернуться к скучным урокам и покаяниям в интернате коллежа святого Игнасио. И хотя о Херонимо ему больше никогда не довелось услышать, щедрый дар этого человека, «умершего за всех и каждого», в том числе и за него, пробудил в мальчике нравственные и духовные запросы, отрезавшие его от касты, к которой он принадлежал по рождению. Пробудил в нем любовь к народу.
Однако путь к народу — в народ — не прост, не прям. Образ Херонимо сиял путеводной звездой, история утверждала подвиг народа-героя, в симпатиях к униженным и оскорбленным не было недостатка, но контакта не получалось. «Всепожирающая любовь к своему народу», которую Альваро испытывал, была любовью высокой и чистой, она требовала столь же незапятнанной чистоты и высоты объекта, но личные встречи с народом неизменно разочаровывали и раздражали Альваро. И после ряда попыток глубже проникнуть в жизнь испанских эмигрантов, разобраться в их нуждах, трудностях и надеждах, после долгих волнующих разговоров за рюмкой испанского коньяка в грязных барах или в его собственной мансарде на улице Вьей-дю-Тампль в Париже Альваро стал избегать своих соотечественников, покинувших родину в поисках хлеба, «изо всех сил желая навсегда забыть о самом их существовании, хотя полностью это никогда ему не удавалось».
Десять лет добровольной эмиграции, десять лет опьянения свободой и нарастающего похмелья, подточили ту «общность с собственным племенем», к которой стремился интеллигент Альваро. Такова была плата за воздух.
Его друзья пошли иным путем. Они избрали борьбу. Жестокий опыт тюрем и ссылок дал им зрелость, закалку, которой не было у Альваро, судьба их слилась с судьбой народа. У Альваро же, поскольку он не действовал, его «пиренейские корни» отсыхали, продолжая болеть, — как болят ампутированные конечности. И боль достигла той остроты и нестерпимости, когда стало — либо умереть, либо вернуться домой и исполнить свой долг. А долг этот был в том, чтобы оставить свидетельство.
Сравнительно проста задача историка и художника, вступающего в спор с фашистской историографией, с явной и неприкрытой ложью. Сравнительно легко восстановить для потомков то, что преднамеренно замалчивается и что ты еще помнишь. И нетрудно назвать тех, чьи тела покоятся под немыми могильными плитами, серое безмолвие которых должно способствовать забвению героических подвигов. Труднее вступить в спор с теми, кто тебе близок, с легендой, что, как надежда, живет и в твоем собственном сердце.
Но если ты свидетельствуешь о прошлом ради настоящего и будущего, нельзя идти на компромиссы даже с самим собой.
Роман Гойтисоло пропитан горечью правды.
Пылкий прием, оказанный молодому барселонскому интеллигенту в прогрессивных салонах Парижа, быстро оборачивается пустопорожней левой фразой. За революционной болтовней в уютных кабинетах (книжные шкафы, мягкие кресла, божоле или виски) скрывается, в сущности, равнодушие. На смену страстному желанию помочь «испанским радикальным силам» через неделю приходит еще более горячее желание содействовать еще более радикальному движению в Венесуэле или на Мадагаскаре. Через несколько лет Альваро перестает обольщаться, узнает подлинную цену этому бездымному и негреющему огню.
Не может внушить оптимизма и кафе мадам Берже с его «напластованиями» испанской эмиграции, местничеством, академическими спорами и самозабвенным погружением в мифологизируемое прошлое. Отрыв от родной земли никому не проходит даром.
Однако горше всего видеть, как бесплодно истощаются молодые силы Испании. Как национальное самосознание перерождается, выпячиваясь уродливыми наростами «местного колорита», иберрийской достопримечательности, оплачиваемой туристами в иностранной валюте. В этом смысле сцены энсьерро в Иесте, перемежающиеся повествованием о восстании крестьян и лесорубов, утопленном в крови на два десятилетия раньше тут же, в Иесте, — ключевые для романа.
Дети героев Гвадалахары и Бельчите, Брунете и Гандесы хорохорятся, показывая храбрость, издеваются над затравленным, растерянным бычком, и гнусность этой травли, запечатленной на пленке Альваро Мендиолы, отрицает романтизацию тавромахии как символа испанского национального духа, восстает против литературно-туристической моды на испанца, которому, дескать, нет ничего дороже боя быков. Эти парни могли бы быть революционными милисианос, думает Альваро и грезит наяву об Испании настоящей.
Гойтисоло-художник многим обязан Хемингуэю. Но в романе «Особые приметы», где элегическая жалоба героя на нелепость собственного существования перерастает в беспощадное самобичевание, в отчаянный поединок с собственной безответственностью, слышится не только эхо хемингуэевских тем, но и полемический на них отклик. Не восхищение прекрасной мужественностью, а чувство нестерпимого стыда вызывает нозильяда в Иесте, суррогат иной, революционной возможности приложения молодых сил. Спор о сравнительных достоинствах матадоров вкладывается вуста полицейских палачей, для которых он прелюдия к очередной пытке, и «милая шутка» заключается в том, что заключенному, едва очнувшемуся после избиений, предлагается «выбрать», кого из соперников он предпочитает: именами матадоров названы два особенно умелых мастера заплечных дел.
Ненависть к открыточным Пиренеям с сегедильями и хабанерами, быками, солнцем и красотками — ко всему, чем франкистская Испания прикрывает свои язвы, выставляясь напоказ туристам, ко всему, что является предметом национального самодовольства, — была и в прежних романах Гойтисоло. Острота боли в «Особых приметах» усилена режущим чувством стыда: Альваро казнит себя за то, что смотрит на жизнь народную со стороны, что он пока ничего не сделал, чтоб изменить положение.
Тема свидетельства как деяния в «Особых приметах» утверждается с яростью, она выношена и выстрадана.
В упомянутом фильме Хорхе Семпруна и Алена Рене «Война окончена» Диего, возвратись в Париж из Мадрида, с яростью кричит товарищам по работе, когда ему кажется, что они не хотят посмотреть правде в глаза, заслоняются от нее прошлым: «...Четырнадцать миллионов туристов проводят каникулы в Испании. Только и осталось от Испании, что мечта туриста да легенда о гражданской войне... Я не был... ни под Теруэлем, и на фронте у Эбро тоже не был. И те, кто сейчас делает дело в Испании, делает что-то серьезное, тоже там не были. Им по двадцать лет, и движет ими не наше прошлое, а их собственное будущее...»
Для Альваро Мендиолы, как и для Диего, всегда будет жива память о гражданской войне, но прошлое не должно, мешать трезвому пониманию настоящего, не должно превращаться в «лирическое самооправданье». Альваро хочет и должен свидетельствовать о настоящем, а значит, и о прошлом. Преодолевая кризис самоотрицания, отметая лукавые подсказки слабости, толкающей его на привычный путь наименьшего сопротивления («лучше жить в чужой стране среди людей говорящих на чужом для тебя языке чем среди земляков которые каждодневно проституируют твой родной язык склоняют голову перед силой и говорят плетью обуха не перешибешь хотя дело идет о бесчеловечном общественном порядке который отказывает им в праве на существование высасывает из них единственное и невосстановимое их достояние их жизненные силы»), АльвароМендиоло чувствует, как «властная, непререкаемая, почти исступленная разгорается» в нем «жажда свидетельствовать». И вместе с героем романа читатель понимает: только став правдивым свидетелем — а значит, соучастником народа, — интеллигент может спасти себя от смерти. Иначе ему грозит удушье. Ибо если нет в Испании воздуха, воздухом чужбины голода не утолить.
Л-ра: Новый мир. – 1968. – № 1. – С. 252-255.
Критика