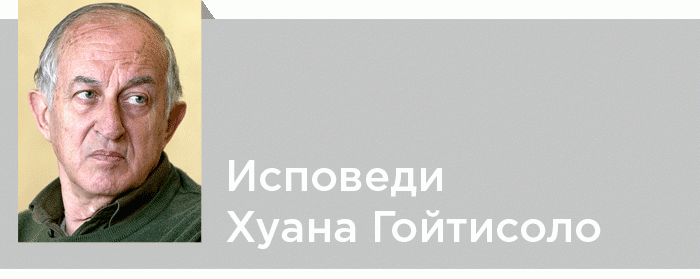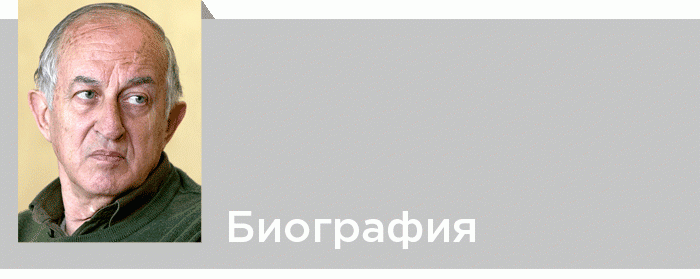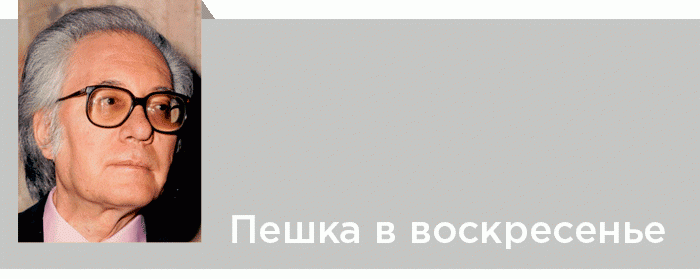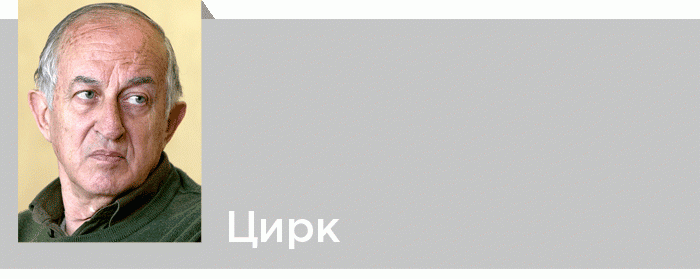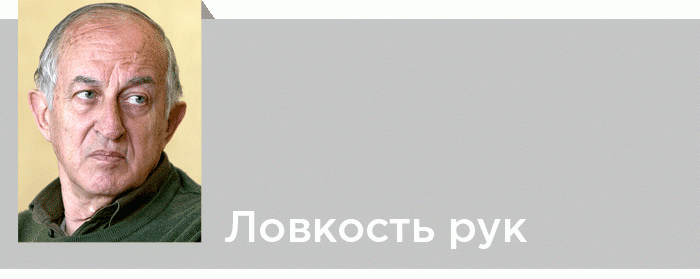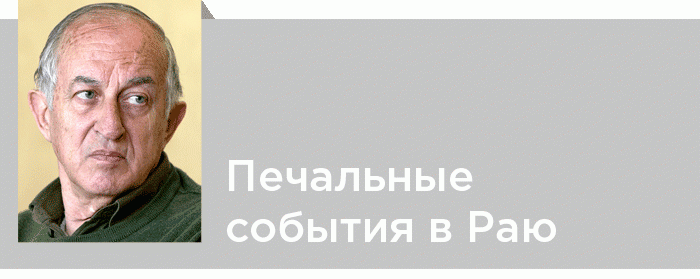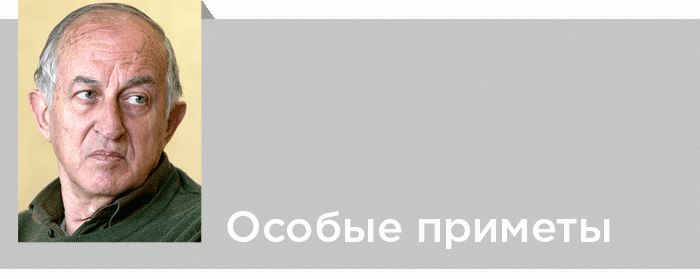Хуан Гойтисоло. Перед занавесом
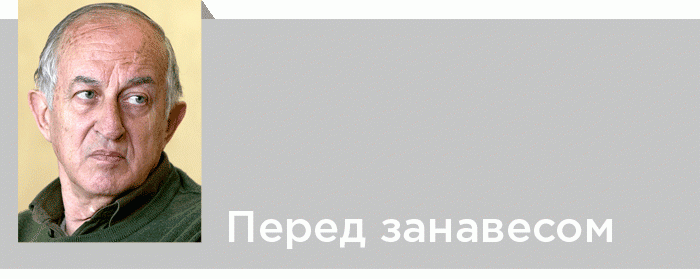
(Отрывок)
I
Много месяцев его мучила бессонница. Он давно уже пристрастился к снотворному и теперь принимал по три таблетки, но это не помогало. Друг-фармацевт предупреждал, что он привыкнет к лекарству и память ухудшится, но никакие уговоры не действовали на него: он-то как раз считал, что только потеряв память, и можно спастись. Он пробовал гулять перед сном; отправлялся пройтись и бродил, бродил, в потёмках среди осколков дневной жизни Площади до полного изнеможения. Дома принимал снотворное и без сил валился в постель, но сон не шёл, и он ворочался, пока не наступал неумолимый рассвет.
Потом пришла новая напасть. Маясь бессонницей, он всё чаще стал слышать песенки и незатейливые музыкальные мелодии. Ничего странного, если бы в ушах у него звучала музыка, которую они с ней так любили слушать после ужина: сонаты Шуберта, «Дон Жуан» или «Масонская ода» Моцарта, оперы Верди, «Немецкий реквием» Брамса. Но нет, приходили незваные гости - низкопробная бравурная музыка, которая беспрерывно лилась из репродукторов в тот год, когда закончилась война и он вместе с отцом и братьями вернулся в родной город. Грязная пена того далекого времени - словно где-то распахнулись створки дамбы и хлынула застоявшаяся прогнившая вода со зловещим запахом угнетения и нищеты - накрывала его с головой, и ничего не оставалось, только покориться. Он слушал гимн Фаланги, гимн рекете, гимн Испании в обработке Братства святой Девы Марии и визгливый голос певички Рины Сели. Приливом, несущим вперемешку водоросли, морскую траву и отбросы, которые оседают потом на отмелях, накатывали на него плотные волны назойливой и бессмысленной радиорекламы, забивая голову мусором: песенкой о кофе «Колумба» или о новом жилом районе Ла-Миранда. Их сменял перечень школьных приятелей или полный список игроков футбольной команды, который когда-то без конца твердил старший брат. И как он ни старался, отрешиться от них не удавалось.
Он считал, что с детством давно покончено, и это возвращение в прошлое его потрясло. Мелодии возникали в сознании сами, против его воли, и уже не отпускали. Иногда он слышал франкистский гимн «Лицом к солнцу», иногда «Ориаменди» или гимн Испанского Легиона, и не было спасенья от их назойливого жужжанья. Он старался отмахнуться - так отгоняют мошкару, - но, сколько ни бился, слова и звуки не уходили.
Возможно, они были предвестниками старческого слабоумия? Порой ему казалось, что да, и тогда обречённость охватывала его. Было что-то общее между его утратой и тем далёким временем, когда в знак приветствия вскидывали руку и в ходу был имперский язык, временем стремительных завоеваний фюрера и религиозной восторженности иезуитской школы. Что-то непонятное, таинственное, связывало их, но что? Может быть, возвращаясь к детству, к символам и характерным приметам тех лет, он бессознательно пытался уйти от своего горя, заслонить его, пытался выжить вопреки всему? Никак иначе не мог он объяснить навязчивое вторжение ненавистных мелодий и бездарных песенок.
Кое-что прояснилось после разговора с её лучшей подругой в одну из редких теперь поездок в тот мир, который больше не существовал для него. И в детстве, и сейчас он остро ощущал свою бесприютность. И когда вдруг, внезапно, не стало той, к кому он был так привязан, душа вспомнила глубоко запрятанное давнее горе, и всколыхнулись, выступили на поверхность ускользнувшие в подсознание образы того времени, когда не стало матери. Он понял, что, преодолевая боль недавней раны, поневоле возвращался к старой.
***
В доме поселилась смерть, и не только за ним она пришла. Как-то утром земля в саду оказалась усыпана мёртвыми бабочками и стрекозами, жертвами непонятной болезни. Потом он нашёл на земле мертвую птицу из той большой стаи, что с наступлением темноты устраивалась на ночлег в ветвях апельсиновых деревьев. Ещё раньше умерла одна из двух черепах. Он заметил, что в углу, куда она обычно забивалась, копошатся муравьи, и поразился, обнаружив её окоченевшее тельце: он считал, что черепахи живут больше ста лет, и был уверен, что они протянут дольше него. А теперь остался только безутешный вдовец; он избегал того места, где умерла его подруга, и вяло съедал ежедневную порцию салата и мелко порезанных фруктов. Надо бы найти вдовцу новую подругу, подумал он, но лучше подождать, пока горе уляжется.
Пол умершей черепахи выяснился случайно и с большим запозданием. Она жила у него несколько лет, и он не подозревал, что это самка. Но однажды, сидя за рулём своей малолитражки, увидел за городом прямо на шоссе черепаху. Он остановился, вылез из машины и, повинуясь внезапному порыву, взял её с собой. Дома новичок приблизился к его питомице и, не тратя времени на то чтобы заслужить её расположение, загнал в угол. Их соитие производило впечатление. Самец пару раз сильно долбанул панцирь самки, пытаясь взобраться на неё, но потерпел неудачу, отступил и несколько раз повторил свою попытку. «Ты бы возмутилась, увидев, как грубо он себя ведёт, - рассказывал он ей по телефону. - Это была sui generis порнографическая кассета из Амстердама». - «Ну и выгнал бы его, - засмеялась она. - Если узнают мои подруги, они тебе покажут». - «А ты не рассказывай, - сказал он. - Я займусь его воспитанием, и в следующий раз он будет вежливее». Но такой возможности ему не представилось: соитие не повторилось. Черепаха отложила яйцо и закопала его в саду под апельсиновым деревом, но яйцо почему-то сгнило. По-видимому, это охладило пыл самца, и с тех пор черепахи мирно жили рядом, не трогая друг друга. Приехав на несколько дней из Европы, она осталась довольна и похвалила его педагогические способности. Какое-то время все, казалось, были счастливы, и буйство лета сменялось зимней сонливостью. Так прошло несколько лет, а когда черепаха умерла, уже не было той, кому он мог рассказать об этом.
Тут, одна за другой, пошли смерти и пропажи: на террасе нашли дохлую птицу; умер живший на их улочке его любимый кот; прилетел и скоро покинул гнездо аист. Начались нелады и с домом: лопались трубы, по стенам и потолкам множились трещины. Эта череда зловещих знаков вгоняла его в тоску. Неужели существовала тайная связь между тем, как начал сдавать он сам, и упадком всего, что составляло его мир?
Уверен же он был только в одном: тени сгущались, а материя таяла.
***
Он сравнивал свою жизнь, то, что от неё ещё оставалось, с велосипедным колесом, замедляющим свой бег, если крутить педали еле-еле, без прежнего задора. То же происходило и с ним: движения его становились размеренными, неторопливыми, а сам он - неповоротливым. Всё теперь требовало усилий: встать с кресла, в котором он обычно читал газеты, подняться по лестнице на террасу, пройтись, как делал он каждый день, по Площади, поболтать с приятелями. Он стал хуже слышать, особенно высокие звуки. Он слышал голоса детей, но не различал слов, и это особенно его огорчало: он испытывал идущую из глубин своего существа потребность разговаривать с ними. Всё шло так, как обещал врач: сначала он перестанет понимать магнитофонные записи на иностранных языках, потом - нечеткую речь и отдельные фразы, затем станет трудно различать слова, произнесённые в шумных и людных местах. Кроме того, глухота у вас в роду, - добавил врач и посоветовал купить слуховой аппарат. - Если вы к нему привыкнете и научитесь следить за движениями губ говорящих, вам будет легче понимать их». Но он совсем не был уверен, что хочет понимать, - ему достаточно было слышать, привычный гул завсегдатаев кафе. Она первая это заметила и сказала ещё давно: «Тебя устраивает глухота. Ты всё больше и больше уходишь в себя, а другие, и и в том числе, только прерываем что-то. Да, пожалуй, именно так - мы тебя прерываем».
Разве окружающие что-то прерывают? Впрочем, пожалуй: люди прерывали истончившуюся нить его беспорядочно блуждающих мыслей. Но теперь он уже не знал, стоят ли чего-нибудь эти мысли. Он начал отдаляться от мира, и сомнений в том не оставалось: это читалось во взглядах, в уважении и подчёркнутом внимании окружающих. Сначала это его задевало: он ещё не чувствовал себя стариком и готов был доказать это всем, в том числе и себе самому. Он старался держаться прямо и ходить быстро, не остерегаясь ни яростного потока машин на прилегающих к Площади улочках, ни неожиданно выскакивающих грузовиков и повозок, но потом отказался от этого бессмысленного тылового боя. Самому себе он напоминал садовые растения, которые сначала зеленеют и цветут, а потом никнут и желтеют. Но каждый год садовник подрезает их, и они оживают, покрываются листвой. Почему растениям это дано, а людям - нет? Сравнение было детским и глупым, но не шло у него из головы. Он думал о фазах жизни вьющегося по стене дома плюща или кустарников, росших в саду в высоких горшках, сравнивал их между собой. Каждый организм проходил все положенные ему циклы - кто быстрее, кто медленнее - и угасал. Только растения и животные не знали, что они угасают, а вид. к которому относился он - бесчеловечный, - знал. Мысль, что придётся уйти из этого мира, его ужасала, но не своей неизбежностью - это как раз было в порядке вещей. Ужасало, что уйти придётся, так и не разгадав смысл, возможно, заложенный в жизни. Попытка постичь его обернулась бы отстранением от самой жизни и её ритмичности; стремление к познанию заставило бы забыть всё, что он знал, в чём был уверен. Ничего не оставалось от него, тишь тень на оконном стекле поезда, мчащегося в неизвестность.
* * *
Жизнь делилась на «до» и «после». И жизнь ребёнка, неожиданно лишившегося материнского тепла, и жизнь старика, душа которого пропиталась известием о её смерти и который, пережив самого себя, существовал теперь на развалинах построенного ею дома, не вполне сознавая, что сам он тоже мёртв.
Дряхлый нищий пел, опираясь на посох. Он брёл, сантиметр за сантиметром продвигаясь сквозь толпу праздных или деловито снующих людей, и никому не приходило в голову обратить внимание на то, как медленно он передвигается. Сидя на табурете приятеля-букиниста, он следил взглядом за нищим, то и дело отвлекаясь, чтобы перекинуться словом с букинистом, выпить глоток воды или чая, посмотреть на пустячное уличное происшествие, вызванное «мерседесом» какого-нибудь богача с наглой рожей. Взглянув на нищего опять, он каждый раз убеждался, что тот не одолел и метра. Сколько времени он будет Идти до Площади? Живёт он неподалёку или ему нужно пересечь гудящую от голосов, шума и криков зазывал, Площадь, и ни одна дружеская рука заботливо не поддержит его, подсказывая путь? Словно дряхлый нищий, почти не двигаясь с места, продвигался и он к ясно обозначенной, но ускользающей цели. И неведомо было, удастся ли ему самому с миром и достоинством достичь другого берега Площади. Возможно, это знали Единый или Мефистофель, но они не собирались открывать ему эту тайну. Через несколько минут, потеряв нищего из виду, он спохватился, что так и не помог тому. А ведь хотел, но не поднялся с места. Наверное, Единый или Мефистофель смеялись над ним, над бесплодностью его порыва, но кругом были верующие, поэтому он не стал пререкаться. отложил спор с ними - научный или философский? - до другого раза.
***
Жизнелюбие её било через край, она умела хранить верность друзьям, любила пляжи и солнце, увлечённо собирала зеркала, пепельницы, пресс-папье и прочие безделицы, изящные и безвкусные. Что это было, как не попытка обозначить свой путь камушками, оставить память о себе? Путь, который неминуемо вёл к угасанию, к концу короткого и яркого сна.
С течением времени объединявшее их раньше пространство начало сужаться. Наступила пора, когда он стал плохо переносить солнце, и пляжи, сначала средиземноморские, а потом и бретонские, перестали существовать для него. С тех пор, взяв свои шляпы, книги, блокноты, полотенца, соломенные подстилки, она ходила купаться одна, а он заходил за ней, чтобы вместе пообедать или вернуться в гостиницу.
Он стал меньше бывать на людях. Теперь они приглашали к ужину только несколько человек, обычно одних и тех же. Работали они в разное время, а по вечерам она ходила в кино с кем-нибудь из подруг, он же любил пройтись по близлежащим улочкам или, сев на метро, доезжал до своих любимых парижских кварталов около станций «Северный вокзал» или «Барбе».
Один жестокий удар судьбы - и всё потемнело вокруг: он снова видел лишь засохшие сады, разрушенные стены, изъеденные червоточиной деревья да чёрную дамскую шляпу и одинокую шерстяную пинетку, сиротливо лежавшие в грязной луже. Беречь было нечего, даже воспоминания стали не нужны. Кому пришла в голову пагубная мысль измерять ход времени, подчинять свою жизнь смехотворной тирании часовых стрелок?
* * *
Неожиданно он понял, что хочет избавиться ото всего. Речь не шла о том, что стало ненужным - с этим он расстался, как только минуло тридцать дней. Теперь избавляться надо было от дорогого, от того, что приходилось отрывать от себя с болью в сердце, - от их общих увлечений. Всегда наступает минута, когда путешествующим на воздушном шаре, чтобы продолжить путь, приходится выбросить за борт балласт. Чем меньше привязанностей он сохранит, чем меньше воспоминаний у него останется, тем легче будет проститься с этим миром и уйти налегке.
Кино было их общим увлечением. Она каждый день ходила на первый вечерний сеанс, и пару раз в неделю он составлял ей компанию. Обычно они выбирали какой-нибудь кинотеатр поблизости, но таких оставалось всё меньше, поэтому иногда они садились в автобус и доезжали до Елисейских полей или Монпарнаса. Он вспоминал, как горячо она отстаивала фильмы Лоузи и Феллини, как сдержанно относилась к Рене и Бергману. Он не мог себе представить, что идёт в кино без неё: входит в зал, словно в храм, устраивается в кресле, листает журнал, пока не погаснет снег. В последним раз они видели иранский фильм; жестокий и правдивый, он напомнил им раннего Росселини. Это был конец целый пласт его жизни ухнул, и возврата к нему не было: он стал областью света, вход куда был ему заказан. Жестокостью, едва ли не кощунством, казалось ему погрузиться в полумрак кинозала без неё, даже с близким человеком. И перед тем как навсегда уехать из их квартиры, все видеокассеты, которые они с ней насобирали, он раздал друзьям, чувствуя себя так, словно ему отрезают руку или ногу; легче стало потом, когда всё было позади. Так же поступил он и с музыкальными дисками. В оперу или на концерты они никогда не ходили, но у них собралась прекрасная коллекция музыки, и им было из чего выбирать, когда вечером, после ужина, хотелось послушать что-то любимое.
У неё было много пристрастий, и она легко переходила от одной музыки к другой; он же предпочитал по несколько раз слушать одно и то же. Вокальное искусство, особенно сопрановые партии, было для неё верхом художественного совершенства, и постепенно он научился разделять эту страсть. Пока звучали Моцарт или Верди в их любимом исполнении, они читали, разговаривали, а когда начинало клонить в сон, аккуратно убирали диски на место и расходились по своим комнатам.
Оставшись один, он долго колебался, раздавать ли диски: они были неотъемлемой частью его жизни. И всё же решил обойтись без этой крупицы счастья - ещё один балласт был сброшен в пустоту со смешанным чувством боли и облегчения: ему оставалось немного, и надо было избавляться от лишнего. Когда он оглядывался на пройденный путь, жизнь представлялась чередой расставаний с тем, что он считал своим, и что на самом деле ему не принадлежало. Ничего не удержал он, ни унаследованного им когда-то добра, ни идей, - совсем ничего. Не было ничего общего между ребёнком, юношей, зрелым человеком и немощным телом, к которому он раздражённо приноравливался. Только имя и фамилия, но что они могли сказать о нём? Он уже не был самим собой, от него прежнего осталась лишь оболочка: после её ухода неё стало мелким и пустым.
***
Когда он смотрел на детей, возвращающихся из школы с рюкзачками, набитыми учебниками и тетрадями. или гоняющих на велосипедах под апельсиновыми деревьями, он силился вспомнить то, что безвозвратно ушло из его жизни вместе с детством: как он играл или ссорился с братьями, как перед ним. знавшим только родной дом и семью, постепенно открывался большой мир. Но старался он напрасно: всё забылось. Он не мог вспомнить, как мать брала его на руки, в памяти остался лишь размытый её образ, который не имел к нему никакого отношения. Лёгкость, с которой дети забывают. казалась ему жестокой и несправедливой: разве можно обрекать на небытие единственное время полной самоотдачи, время полного, пусть и недолгого, счастья? Сейчас старшим мальчикам было почти столько же, сколько ему, когда не стало матери. Эти дети, которых он усыновил, чтобы заполнить пустоту, были его последним редутом перед неотвратимой дряхлостью. Неужели они забудут, как сильно любили его, как каждый день кидались ему на шею? Очевидность этого угнетала, и поверить в неё до конца он всё же не мог.
Он решил сфотографировать детей и самому спиться имеете с ними в каникулы или когда они куда-нибудь поедут все вместе. Можно было также сфотографировать их в школьной форме или в какой-нибудь особый, торжественный день. Он обманывал самого себя, думая, что по фотографиям им будет легче вспомнить его, когда он уже уйдёт со сцены. И весёлые, счастливые мордашки заняли своё место на застеклённой полке в его рабочем кабинете рядом с фотографиями других дорогих ему людей. Никого из них давно уже не было, и жестокое время стёрло память о них: он один знал, чьи это фотографии. А когда не станет и его, никто уже не сможет назвать имён этих людей. Бог был бессилен превратить когда-то существовавшее в небывшее, но это было под силу забвению.
* * *
Он вспомнил, как в трудную минуту загорелся идеей призрачного потустороннего опыта. У Сан Хуана де ла Крус искал он утешения в тревожные дни: симптомы болезни, подхваченной им в долине Нила, походили на симптомы пандемии, косившей всех вокруг. Тогда он испугался, что и в его крови поселился чудовищный микроорганизм, быстро и яростно разрушающий лимфу живых существ, - так описал эту болезнь один из его друзей. Боясь беспощадного приговора, он не решался сдать анализы. Тогда-то и родилась в самых глубинах его души потребность в поэзии. Может быть, за прозрачностью и блеском «Духовной кантаты» скрывался достоверный опыт личного познания человеком той области, где нет места разуму с его логикой и топтанием на месте? В те несколько недель он извёлся от снедавшей его тревоги, но всё это время работал с необыкновенным подъёмом и очень много написал. Он был убеждённым агностиком, но что-то в душе его сопротивлялось неверию, а иногда, думал он, надо слушаться и голоса сердца. От природы очень сдержанный во всём, что касалось его самого, он переменился тоща настолько, что этого нельзя было не заметить, и пораженные близкие недоумевали: неужели неожиданную опору он нашёл именно в духовности, пусть и в самых прекрасных её проявлениях? Когда анализы, сделанные в лаборатории неподалёку от дома, оказались отрицательными, у него с души словно камень свалился. Но поэзия мистиков, которой он насквозь пропитался, сделала своё дело: и без того склонный к замкнутости, чурающийся шумного общества, он ещё больше ушёл в себя. Была ли его мизантропия противоядием от удобного и довольного собой мира, в котором он жил? Как-то она сказала: «Живя с тобой, свыкаешься с одиночеством. Не знаю, благодарить тебя за это или упрекать».
Слова эти, сказанные мягко и невзначай, потрясли его. Постепенно он стал забрасывать книги и всё чаще окунался в жестокость окружающего мира: ездил в осаждённые города, туда, где шла война, на Кавказ с его варварством и неистовством, великолепно описанными Толстым. Она восхищалась его равнодушием к опасности во время этих поездок, и ей не приходило в голову, что причина такого спокойствия - она сама: случись что-нибудь с ним, она бы выполнила все, что он завещал, и заботилась бы о детях. Он слепо верил, что уйдёт со сцены первым, и случившееся застало его врасплох. Будущее, продуманное до мелочей, рухнуло, и он стал уязвим. Теперь он вёл себя совсем иначе - им овладел необъяснимый страх, с которым он не мог совладать: он боялся поездок, боялся упасть на улице, быстро подниматься по лестнице, самым глупым образом попасть под машину. Этот удар камня на камне не оставит от его мистических настроений. Она уже перешла черту, и он - сначала недоверчиво, а потом с болью - убедился в непереносимой правде: её больше не было. Он уже не блуждал в будущем - теперь он вспоминал прошедшее; сны его превратились в кошмары, внутренний мир сжался. исполнился горечи.
***
Была ли его жизнь смешением ошибок и правильных решений? Или правильные решения принимались лишь изредка, в промежутках между ошибками? Вспоминая их общее прошлое, он чувствовал вполне понятную растерянность: время шло, и чем дальше, тем сильнее всё расплывалось. Её записные книжки и блокноты, торопливые, неразборчивые пометки, которые он с трудом разбирал, не помогали ему восстановить события. Подлинным богом было забвение, с всесилием которого ничего не мог поделать всемогущий Создатель, не говоря уже о его недолговечных порождениях.
Их судьба - её, его и всех обитателей платоновской Пещеры - напоминала ему участь репья, образ которого преследовал Толстого. Непокорный, упрямый репей и он пытался найти в горах Кавказа, когда ехал в Шатой на дребезжащей машине по разбитой проселочной дороге. Если напрячь зрение, то внизу, под горою, можно было разглядеть БМП и танки, подбитые и сгоревшие во время боя: они попали тут в засаду, как и царские войска полтора века назад, - снова, в который раз, он убедился, что История повторяется с бессмысленной и тупой жестокостью. В Аргунской долине всё цвело. Солдаты остановили их и начали клянчить сигареты, и тогда через переводчика он попросил показать ему репей. Солдаты не смогли, и потом он повторял эту просьбу на всех блокпостах, попадавшихся им по дороге, но ничего не добился. Дорога шла через лежавшее в руинах село, разрушенное совсем недавно. Это пепелище подтверждало его убеждённость: он принадлежал к самому злобному и опасному виду во Вселенной. Раздавленный репей с его увядшими цветами вырастал до символа: репей переехала та же бездушная повозка, что косила одну за другой человеческие жизни.
***
Прошлое превратилось в цепочку блеклых, застывших образов, как будто их показывали на экране через диапроектор. И отступая всё дальше и дальше во времени, они расплывались, теряли чёткость, делались неузнаваемыми, и тут он был бессилен. Кто это? Всеобщий баловень, ребёнок, которого до войны всегда привозили на лето в семейное поместье, или мальчик, вдруг оставшийся без материнского тепла? Подросток, зачитывавшийся найденными в домашней библиотеке книгами по истории и географии, или воспитанник школы, где отцы-иезуиты забивали ему голову чуждыми и бесполезными идеями? А это? Юноша, притворявшийся верующим и лицемерно причащавшийся, или человек, втайне одолеваемый бесконечными сомнениями? Скептический студент, тянущийся к искусству, или человек, который стыдится своих тайных желаний?
То и дело что-то заедало в диапроекторе, и пустоту экрана заполняла ненасытная тьма. В жизни его отсутствовал стержень: действующие лица появлялись и исчезали поодиночке и компанией, но связи между этими немыми кадрами не было. Он не мог вспомнить их голосов, а когда пытался, они звучали фальшиво и никак не вязались с жестами и мимикой персонажей. Ему хотелось думать о ней, но чтобы оживить в памяти её улыбку или грустное выражение лица, приходилось смотреть на любительские снимки или портреты, сделанные профессиональными фотографами. По не подводила ли его память, преуменьшая её доброту и отзывчивость? Она отступала всё дальше, и неумолимое время, жестокая власть живых над беззащитными мертвыми усиливали его горечь. Напрасно слушал он голос, записанный на плёнку, или искал её в своих снах.
Куда она делась?
Ответа не было.
Сохранились только её письма и отпечатанные на машинке странички, но читать их он пока не мог.
Иногда что-нибудь отвлекало его, тогда диапроектор останавливался: некстати звонил телефон. и, сняв трубку, он слышал голоса из другого мира. Или на экране телевизора возникали изуродованные, обезображенные тела людей, навечно поселившихся на каком-то гротескном кладбище. Вдали воинственно звучала барабанная дробь, призывая к ненависти. Тьма сгущалась вокруг него, и сам он медленно погружался во тьму.
Критика