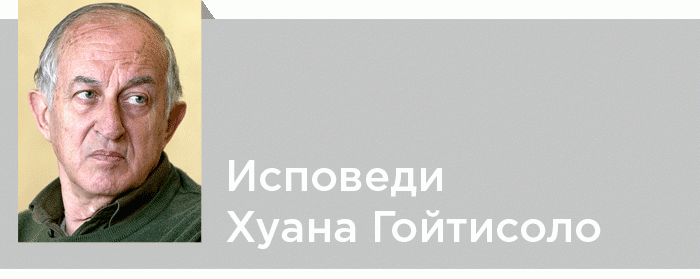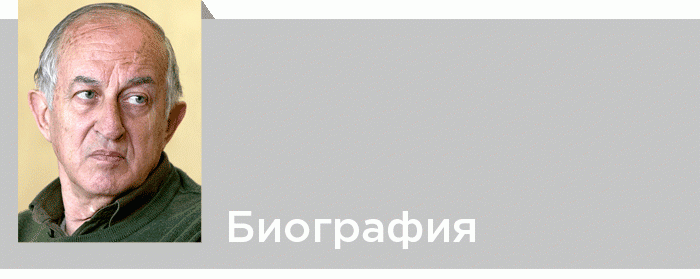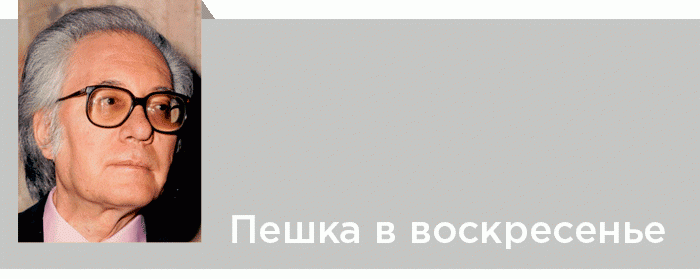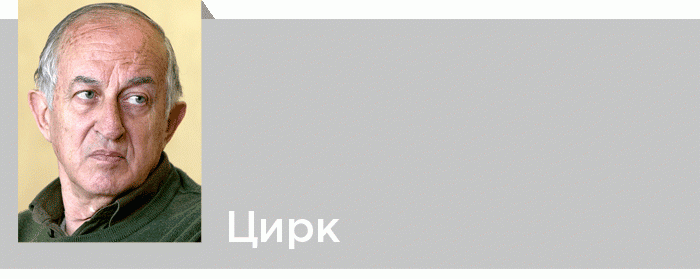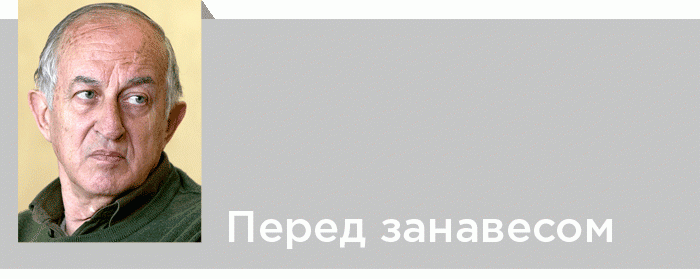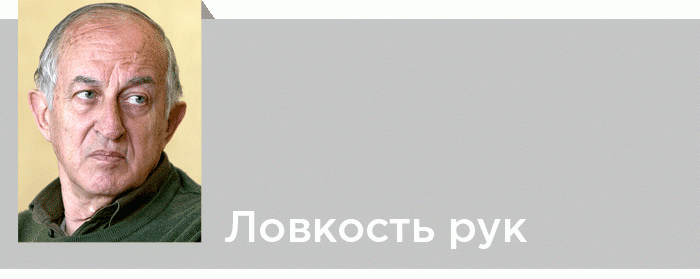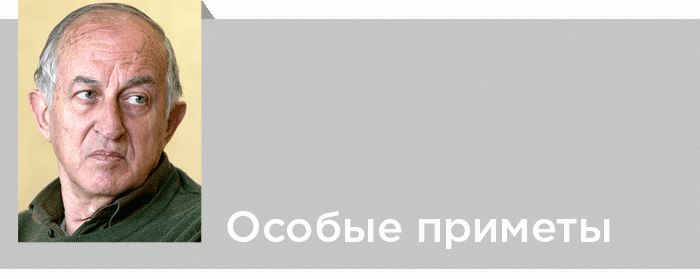Печальные события в Раю (о романе Хуана Гойтисоло «Печаль в Раю»)
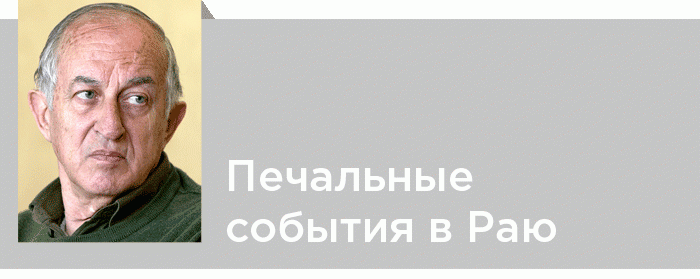
Г. В. Степанов
Весной 1939 г. пала Испанская республика. Закончился первый акт испанской трагедии. Крикливые парады фалангистского сброда явились зловещим прологом ко второму акту. После тридцати с лишним месяцев неравной борьбы испанцам — теперь уже безоружным — суждено было испытать на себе все унижения и кары, которые уготовил им мстительный победитель.
В обстановке всеобщего культурного застоя, под влиянием сознательной политики умственной стерилизации Испания, казалось, утеряла славные литературные традиции. Гарсиа Лорка убит. Антонио Мачадо умер. Мигель Эрнандес брошен в тюрьму. Хуан Рамон Хименес, Леон Фелипе, Хорхе Гильен, Педро Салинас, Рафаэль Альберти — в эмиграции. Умолк оставшийся в Испании престарелый романист Пио Бароха. С внутреннего национального рынка постепенно исчезли романы Бласко Ибаньеса, Педро Маты, Варгаса Вилы и даже Переса Гальдоса.
[…]
Стремление официозных писателей придать своим произведениям некий универсальный характер, по существу, означало отмену национальной традиции и отказ от национальной проблематики. Изгоняя все национальное, традиционное как нечто слишком конкретное, земное и потому вульгарное, аристократы пера расчистили почву для низкопробной националистической литературы. Фальсификация действительности становится ее основным принципом и целью. Ложь преподносится теперь то под розовым покровом официально поддуваемого оптимизма, то под маской лицемерной скорби по идущему к гибели человечеству, то в форме подозрительных гимнов в честь «освобожденной плоти». Казалось, что Испания обречена на долгое и мучительное духовное прозябание.
Поражение германского и итальянского фашизма во Второй мировой войне, рост антифашистских настроений, выступления трудящихся и студенческой молодежи обусловили возникновение в Испании оппозиционной литературы. Но процесс становления этой литературы был медленным и мучительным. Поэтому, когда в середине 50-х годов появился новый испанский роман, так решительно и определенно подхвативший, казалось, уже утерянную национальную прогрессивную традицию, о нем заговорили как о чуде. Особенно чудесной казалась та серьезность и ответственность, которую проявили молодые романисты (самый старший из них, Хосе Корсалес Эхеа, родился в 1919 г., а самый младший, Луис Гойтисоло Гай, — в 1935-м) в художественном осмыслении важнейших противоречий современной Испании. Уже в первом романе Хуана Гойтисоло (род. в 1931 г.) «Ловкость рук», появившемся в 1954 г. (написан в 1952-м), обнаружилась та социальная направленность, от которой совершенно отвык испанский читатель 40-х годов. Автор проявляет чувство тревоги и беспокойства за судьбы послевоенной молодежи, которая видит в современном мире только коррупцию, обман, продажность и пресмыкательство. Та же тема глубоко волнует Р. Санчеса Ферлосио, чей талантливый роман «Воды Харамы» (1955) рассказывает о мрачной апатии, неверии, пессимизме и других симптомах опасной болезни, которая поразила рабочую молодежь франкистской Испании. Появление этих двух романов, так же как и «социализация» поэзии, свидетельствовало о том, что затянувшийся период унизительного конформизма кончается, что истерия ура-патриотических романов и фельдфебельское простодушие километровых поэм, воспевающих все ту же победу, порядком надоели испанскому читателю и что он без особого сожаления расстается с историями из эпохи «героического империализма» четырехвековой давности в пользу правдивого рассказа об Испании середины XX столетия. Травмированные войной и сбитые с толку идеей «всеобъемлющего пацифизма», писатели 40-х годов упрямо декларировали аполитичность своих творений и собственную непричастность к социальной проблематике. Элементы обличительства возникали в их произведениях как бы стихийно, помимо писательской и гражданской воли.
Напротив, представители «поколения середины века», или, как его иначе называют, «поколения без наставников», и в первую очередь высокоталантливый романист и серьезный критик Хуан Гойтисоло, недвусмысленно заявили о необходимости не только насытить художественную литературу социальным содержанием, не только представить окружающий мир таким, каков он есть, но и таким, каким они хотели бы его видеть в будущем. Последний пункт этой смелой и благородной программы пока еще не обрел своего исполнителя. «Поколение без наставников» самостоятельно, по собственной программе, подсказанной жизнью, изучает современную Испанию.
Желание показать подлинное лицо общества, нащупать узлы общественных конфликтов, уяснить себе истинные причины противоречий, раздирающих современную Испанию, заставляет молодых писателей много ездить по стране, внимательно и пристрастно изучать жизнь нищей деревни («Гордецы» (1954) X. Фернандеса Сантоса; «Земля Нихара» (1960) Хуана Гойтисоло), нищего рабочего люда («Гидроцентраль» (1958) X. Лопеса Пачеко; «Шахта» (1960) А. Лопеса Салинаса, нищих городских окраин («Прибой» (1958) Хуана Гойтисоло; «Мотыга» (1960) Антонио Ферреса). Действительность дает писателям все новые и новые обличительные материалы против преступно беспечной буржуазии в послевоенной Испании («Новые друзья» (1959) X. Гарсии Ортелано; «Остров», 1961, Хуана Гойтисоло).
Молодые романисты, очень разные по творческой манере, стилю и почерку, рассматривают жизнь в динамике ее драматического развития, они верят в возможность переделать человека и хотят помочь ему в борьбе с враждебными силами.
Появление нового испанского романа застало врасплох официозную франкистскую критику, и она впопыхах окрестила его «объективистским» (novela objetivista). Нелегкая рука реакционного критика Дамасо Сантоса приклеила ему двусмысленный ярлык. Впрочем, в устах или под пером Сантоса этот невразумительный эпитет может восприниматься как весьма похвальный, поскольку вся нереакционная литература квалифицируется им как «объективистская». Любители ярлыков и этикеток, сами того не ожидая, дали новому испанскому роману высокую и лестную оценку, пренебрежительно назвав его «романом социального задания». Прогрессивная испанская и зарубежная критика большинством голосов присуждает всему новому направлению испанской литературы наименование критического реализма, отмечая как положительные признаки нового романа его тенденциозность, социальную остроту и оппозиционность.
Большинство писателей «поколения без наставников» пишет о современности. Иногда они обращаются к недалекому прошлому своей страны и к своему недальнему детству. Самые старшие из них родились в последние годы диктатуры Примо де Риверы, самые младшие — в первые годы республики и во время войны были еще детьми. Впечатления детских лет не изгладились из их памяти. Тревожный кошмар, увиденный в детстве, властно завладевает писательским сознанием и сердцем, и призраки прошлой войны снова оживают на страницах книг. Самой впечатляющей из них, бесспорно, является роман Хуана Гойтисоло «Печаль в Раю» (1955).
«Печаль в Раю» — роман антивоенный. О своей ненависти к войне Гойтисоло сказал твердо, решительно и сильно. Некогда Гойя потряс мир бешеной экспрессией офортов «Ужасы войны». Обрубленные торсы, головы, насаженные на сучья деревьев, трупы повешенных... Каждый лист ранит сердце, будит совесть, тревожит память. Гойтисоло описал ужасы последствий войны: искалеченные души и судьбы детей.
Основной сюжет развивается по классическому трагедийному принципу единства времени в течение двадцати четырех часов на небольшой сценической площадке — в одном из интернатов для эвакуированных детей где-то неподалеку от Барселоны. Республиканские части уже оставили этот район, а франкисты еще не вступили в него. Ничья земля. Ничьи дети.
Пока отцы и старшие братья вели войну, предоставленные самим себе маленькие испанцы по-своему переживали трагедию взрослых. Рано состарившиеся мальчики продолжали еще по привычке раскрашивать свои лица «под индейцев», но содержание игр изменилось: они приобретали слишком взаправдашний, слишком мрачный характер. Когда-то, очень давно, из мира взрослых в детский обиход пришла жестокая игра «в мавров и христиан». Теперь, в конце 30-х годов XX столетия, мальчики стали играть «в красных и националистов». «Дети всегда за все расплачиваются», — говорит двенадцатилетний герой романа, очень мудрый и очень юный Авель. И он по-своему прав. Двадцатью годами раньше ребята наших городов и волостей тоже несли на своих хрупких плечах тяжелое военное бремя. Гайдаровский Димка («Р. В. С.»), так же как его младшие братья из «барселонской волости», не знал иных игрушек, кроме винтовок, штыков, гранат и патронов. В его жизнь тоже неотвратимо ворвались и горечь утрат, и ужас смерти. Он тоже смутно представляет себе пружины трагических событий в мире взрослых. Не случайно в своих недетских играх он по очереди изображает командиров враждующих армий. […]
Испанские мальчики тоже играли знаменами, орденами и оружием обеих армий. Радио Севильи и Мадрида доносило до их слуха истерические вопли нетерпеливых и жестоких победителей и призывы республиканцев. Война лишила их радости детства и отрочества, война отняла у них, казалось, несокрушимый оптимизм юности, война заставила их принести в качестве последней жертвы жизнь Авеля. В их головах все перемешалось: мир превратился в нечто иллюзорное, границы между добром и злом стали зыбкими. И, пожалуй, самое страшное заключается в том, что дети — жертвы войны — начинают воспринимать и самое войну, и все несчастья, которые ей сопутствуют, как нечто нормальное, обыкновенное и даже обыденное. Совершив чудовищную расправу над своим сверстником, все прошлое которого едва укладывалось в двенадцать мальчишеских лет, дети тоже заканчивают войну, как бы предвещая этим бессмысленным актом начало новых преступлений даже в период так называемого «национального примирения».
Гойтисоло не касается вопроса о том, кто повинен в этой войне, кто ее начал, — и в этом его ограниченность. Испанцы старшего поколения отлично помнят 17 июля 1936 г., тот день, когда генералы-заговорщики подняли в Марокко, на этом учебном плацдарме испанской экспансии, мятеж против республики. Они хорошо помнят, как все это началось и что было потом. Через двадцать четыре часа первые отряды «надежных» марокканцев и легионеров были уже на материке. Демократическая Испания приняла вызов, и антиреспубликанский заговор, начатый верхушкой армии и поддержанный внутренней и международной контрреволюцией — от Гитлера и Муссолини до Леона Блюма, английских тори и американских «демократов» включительно, — скоро перерос в одну из самых кровопролитных гражданских войн, которая когда-либо велась на Иберийском полуострове. Гойтисоло, оставляя за кадром истинных виновников войны, показывает крупным планом ее жертвы и как бы обращается ко всем взрослым будущих времен с предостережением. «Мы все отчасти повинны в том, что случилось, и постараемся не забыть этого, — говорит сержант Сантос. — За мирную жизнь надо бороться каждый день, если хочешь быть ее достоин». Одыако трагедия взрослых героев романа — и тех, кто пассивно ожидает любого исхода (вроде Элосеги), и таких, как обманутый и усталый Сантос, — заключается в том, что они не смогли уберечь сыновей и внуков от прихода того режима, который рожден войной и порождает войны. Эпизодическая фигура лейтенанта Феносы, который не успел вдоволь навоеваться против красных испанцев, приобретает у Гойтисоло смысл зловещего символа воинствующего франкизма.
В книге, посвященной войне, почти нет военных эпизодов. О том, где и когда происходят сражения, сообщается скупо. Бои едва коснулись звуком выстрелов и разрывом двух-трех гранат усадьбы с мирным названием Рай. По листку календаря мы как бы случайно узнаём, что печальные события в Раю произошли 6 февраля 1939 г. Это значит, что пали уже Таррагона и Барселона, что республиканская Каталония переживает свои последние часы, а до падения республиканской Испании осталось меньше месяца. Это значит, что дорога к французской границе забита беженцами, отступающими частями, ранеными. Это значит, что храбрецы армии Модесто и ударные группы - добровольцев-интернационалистов, прикрывая женщин, детей, стариков и республиканские арьергарды, ведут свой последний бой с международным фашизмом на испанской земле. Это значит, что мужественные люди, обретшие здесь вторую родину и оставившие часть своего сердца, через несколько дней вынуждены будут сложить оружие и боевые знамена к ногам французских жандармов и отправиться не домой, а за колючую проволоку концентрационных лагерей. Через несколько дней уйдет в изгнание или станет жертвой репрессий весь цвет демократической Испании.
Гойтисоло ничего не говорит обо всех этих событиях большого мира. И не только по тактическим соображениям, хотя сбросить со счета такую грубую реальность, как франкистская цензура, было бы наивным донкихотством. Умолчание о героизме и трагической гибели своих духовных отцов имеет для Гойтисоло глубокие принципиальные основания. Гойтисоло обращается к прошлому во имя настоящего и будущего. А послевоенная Испания, может быть, как никогда прежде нуждалась в консолидации всех тех социальных групп и прослоек, которые явно или тайно желали демократического пути развития. Объединение этих сил, по мнению Гойтисоло, должно произойти на общегуманистической основе. Выдвижение на первый план абстрактных гуманистических идей не может быть объяснено только ограниченностью индивидуального писательского мировоззрения. Не следует забывать, что обстановка, в которой приходилось работать молодым романистам, была чрезвычайно неблагоприятна для свободного развития их творчества.
Бесчинства франкистской цензуры тяжело отражались не только на писателях, драматургах и кинематографистах, но и на испанском читателе и зрителе. Публика, которая оказывала отечественным романистам все большее и большее доверие, часто была лишена возможности познакомиться с лучшими произведениями испанской литературы последних лет. Писатели нередко вынуждены были издавать свои книги за границей (Мексика, Аргентина) или соглашаться на публикацию изуродованных вариантов, к тому же разрезанных «по живому» на десятки кусков для десятков номеров того или иного журнала. В цензорском заключении по поводу романа Хуана Гойтисоло «Остров» (1961), между прочим, говорилось: «Сеньору Гойтисоло и всем тем, кто пишет так же, как он, не остается ничего другого, как печатать свои книги за пределами Испании, ибо произведения этих ниспровергателей не представляют никакого интереса для испанцев». К концу 50-х годов создалась столь невыносимая обстановка, что большая группа деятелей испанской культуры вынуждена была обратиться с письмом к министру информации и просвещения с требованием прекратить цензорский произвол, который «привел к тому, что большинство писателей и ученых не могут нормально трудиться, живут словно изгнанники в своей собственной стране». Под письмом стояли двести тридцать три подписи.
Свирепости цензуры и общая политика духовного насилия породили теорию так называемого «посибилизма» (исп. posibilismo, от posible — дозволенный, возможный). «Писать только о том, что дозволено» — вот принцип, выдвинутый защитниками оппортунистической легальности. Среди «посибилистов» были честные люди, которые заблуждались, наивно полагая, что «писать о том, что дозволено» — это только вопрос тактики. Они рассуждали по привычной формуле обывательского «здравого смысла»: «Напишешь о том, что можно, — дозволят напечатать, будешь писать о недозволенном — публика вовсе останется без духовной пищи, да и неприятности выйдут большие». Прогрессивные деятели испанской культуры противопоставили оппортунистам теорию и практику «импосибилизма» (исп. imposibilismo, от imposible — недозволенный, невозможный). В современных условиях необходимо писать, говорить и показывать то, что охранительными органами франкистского режима считается недозволенным. Один остроумный критик сравнил деятельность «импосибилистов» с тактической новинкой, которую некогда применил «великий тореро» Бельмонте на арене для боя быков. Знаменитый матадор впервые за долгую историю корриды нарушил строгий регламент, согласно которому тореро не должен был покидать отведенной ему площадки на арене. С риском для жизни Бельмонте стал вести борьбу там, где она до сих пор считалась слишком опасной: в зоне разъяренного быка, — и невозможное до него стало возможным. Впрочем, современным испанским писателям незачем обращаться к истории корриды: недавняя история отечественной литературы дала им великолепные примеры смелых вторжений в опасную зону. Достаточно вспомнить такого «невозможного» для диктаторско-монархической Испании писателя, как Рамон дель Валье-Инклан и его «невозможный» роман «Тиран Бандерас» и Гарсиа Лорку с его «невозможным» романсом об испанской жандармерии.
В романе Гойтисоло «Печаль в Раю» тоже есть много «невозможного»: проклятие, которое он шлет войне, высокие гуманистические идеи, призывы к миру и «невозможные» частности. Следует обратить внимание на то, как Гойтисоло описывает приход франкистских войск. В стихах и в прозе, в статьях и в устных выступлениях, на экране и на театральных подмостках, в картинах и на фотографиях верноподданнически символизировался этот «час возмездия», это «начало новой эры». Хуан Гойтисоло поручает встречу победителей двум идиотически восторженным девам, чье общественное сознание не выше уровня политического сознания воспитанниц испанского пансиона закрытого типа конца прошлого столетия. Все это очень похоже на гротеск. Второй эпизод, связанный с приходом франкистов, скорее напоминает жанровую фарсовую сценку из плутовской повести XVII в. с участием традиционного пикаро, чем, как любила выражаться официальная фалангистская пропаганда, «триумфальное вступление войск генералиссимуса Франко в Барселону». Напомним также, что приход националистских войск ознаменован трагической смертью Авеля: торжественный для националистов день совпал с днем траура и печали для обитателей Рая.
В романах писателей «поколения середины века», так же как и в произведениях «поколения войны», нет положительного героя. Директор одного из франкистских издательств, подсказывая цензорам основания для запрета последнего романа Хуана Гойтисоло «Остров», отмечает: «Отвратительный роман «Остров» должен быть запрещен, как аморальный: в нем нет положительного героя». Само собой разумеется, что цензор-любитель сетует на отсутствие позитивного героя, опираясь на официально франкистское понимание этого образа. В романе «Печаль в Раю» тоже нет положительного героя. Авель, один из самых пленительных детских образов испанской литературы, это скорее идея о положительном герое, которой не суждено стать реальной личностью. Война убила Авеля, а вместе с ним и мечту художника об обновлении Испании. Мрачный, неоднократно повторенный мотив о детях, которые умерли, не успев родиться, сливается с плачем по чудесному ребенку, который умер, не успев превратиться в подлинного героя. Из всех взрослых, пожалуй, только многострадальная нянька Филомена да смешной, не от мира сего, Галисиец скорее сердцем, чем разумом, ощутили трагизм этой невосполнимой утраты. Кажется, будто величие скорби, прорвавшееся в бабьем плаче Филомены, слилось с гулом народных стенаний, которые веками звучали в хижинах испанских бедняков.
Биография Авеля проста и драматична: гибель родителей, сиротские мытарства, ранняя смерть. Гораздо сложнее та идейная нагрузка, которую возлагает Гойтисоло на хрупкие плечи мальчика. Авель живет как бы двойной жизнью: реальной и иллюзорной. Он и предстает перед читателем в этих двух обличьях. Реальная жизнь совпадает с его литературной биографией, и в этом он мало отличается от своих сверстников, литературных и подлинных. Его земная биография похожа на детские годы самого создателя этого образа — Хуана Гойтисоло, который тоже родился в Барселоне, тоже потерял там мать, тоже ребенком встречал конец войны на севере Каталонии, находясь в детском доме вроде вымышленного Рая.
Вторая и более усложненная жизнь мальчика с библейским именем Авель похожа на мученическое житие, которое кажется иногда добровольной расплатой за грехи взрослых. Грубая реальность и иллюзорное бытие переплетаются, меняются местами, переходят друг в друга. Но, как бы полемизируя с кальдероновской универсальной формулой «жизнь есть сон», Гойтисоло подчеркивает, что самый прозаический голод наяву часто служит тем мостиком, по которому мальчик переходит от жестокого бытия в мир иллюзий.
Фигура мальчика почти всегда предстает перед окружающими (и перед читателем) подсвеченной, в каком-то почти мистическом сиянии. Этот свет идет из двух источников. Один — от щедрого испанского солнца, другой мотивирован только внутренним светом. Авель не похож на своих сверстников. Он бесконечно одинок, так же как бесконечно одиноки донья Эстанислаа, Агеда, Элосеги, нищий Галисиец и даже Филомена.
Донья Эстанислаа, в отличие от двоящегося Авеля, живет только в мире иллюзий. Границы реального для нее так смутны, так переменчивы и зыбки, что она сама себе кажется блуждающей тенью в мире воображаемых теней.
Испанская история знала такие трудные периоды, когда «иллюзионизм» получал широкое распространение как особая форма скептицизма. Так было, например, в эпоху Филиппа II. Действительность казалась испанским гуманистам столь неразумной и нелепой, так не соответствовала их гуманистическим идеалам, что они воспринимали и изображали ее как некое наваждение, как обманчивую иллюзию. У прогрессивных гуманистов «иллюзионизм» был скрытой формой социального протеста и никогда не уводил их за пределы реального содержания жизненных противоречий. Вот почему писатели-реалисты вроде Сервантеса, изображая действительность, часто заставляли своих героев — вспомните Стеклянного Лисенсиата или рыцаря Печального Образа — расплачиваться за «иллюзионизм».
Опутанная ложью жизнь франкистской Испании тоже кажется Хуану Гойтисоло кошмарным наваждением, и тем не менее он, как бы борясь с самим собой, развенчивает «иллюзионизм» и как философскую теорию, оправдывающую страдания и мученичество, и как форму житейского бытия. Вся жизнь доньи Эстанислаа предстает перед читателем в непрерывном крушении сменяющихся иллюзий. Сначала разлетается в прах мечта о супружеском счастье — ее муж дон Энрике оказывается не тем, за кого она его принимала, потом смерть первого ребенка уносит надежды на счастье материнства. Ей кажется, что она обрела его с появлением второго сына, Романо, но это тоже только иллюзия. Болезнь «иллюзинизма» столь сильна в этой слабой плотью и духом женщине, что она не хочет видеть очевидного, не хочет поверить в заурядность своего кумира. Ее инфантильное, истерическое сознание, постоянно наталкиваясь на грубые преграды реальности, не обретает опыта, а призрачное видение мира не ограждает от земных опасностей. Приняв венец мученичества, она исступленно несет его, сея вокруг себя опасное смирение и пагубную покорность. Она не только дублирует иллюзорную жизнь Авеля, но и готовит его на казнь. Родственная Авелю по духу и, может быть, потому особенно невыносимая для него, донья Эстанислаа, толкнув мальчика на гибель, становится невыносимой и для читателя: чувство щемящей жалости к ней невольно сменяется желанием избавиться от отупляющего наркоза неистовой и неоправданной жертвенности.
Романтический «иллюзионизм» Галисийца, питаемый расстроенным воображением, вызывает ощущение грусти и безысходности. Хрупкая мечта сумасшедшего о новых красивых и справедливых формах человеческого общежития не имеет никаких других гарантий к осуществлению, кроме веры в чудодейственную силу ломких прутиков орешника. Как и другие взрослые герои романа, старик живет прошлым, только, в отличие от многих из них, в прошлом у него была настоящая жизнь с борьбой и надеждами, с горечью поражений, но с верой в будущее. Потому-то в минуты просветления он и вспоминает о ней, как бы укоряя нынешнее племя в забвении героических традиций далеких дней своей юности. Этот укор адресован солдату Элосеги и ему подобным, тем, кто смирился с поражением, тем, кто пассивно ожидает любого конца, тем, кто готов выменять за «немножко мира для себя» сегодня кошмарное завтра для всего народа. Мартин Элосеги не просто усталый солдат, которому вдруг изменило мужество, он прообраз того усталого поколения, которое в условиях франкистской Испании было поражено болезнью трухлявого безволия, эгоистичного скепсиса и преступного равнодушия. У этого поколения не оставалось даже иллюзий: ни мистических, как у доньи Эстанислаа, ни приземленно бытовых, как у Агеды, ни романтических, как у Галисийца и Авеля.
Всем этим характерам, пораженным в той или иной степени болезнью «иллюзионизма», всем их вымышленным мирам противопоставлен удивительно мудрый мир Филомены. Обаятельный образ этой «чудесной судомойки» как бы олицетворяет многострадальную, но здоровую Испанию простых людей. Филомена с простодушным, почти паническим изумлением внимает рассказам и недетским рассуждениям Авеля, сердится на него, умиляется им, жалеет его и гордится им. Не умея иначе выразить свое восхищение этим чудесным мальчиком, она по своей шкале наивысших похвал причисляет его к лику святых, хорошо угадывая и приподнятую поэтичность его натуры, и обреченность земного существования маленького святого, ввергнутого в страшный водоворот событий мира взрослых.
Жизнь Филомены по какому-то жестокому нагромождению несчастий сходна с житием доньи Эстанислаа, но обе женщины по-разному воспринимают последствия тех мучительных испытаний, которым подвергла их жизнь. Для доньи Эстанислаа они оказались гибельными и привели ее к ревнивому, эгоистичному культу мученичества, для Филомены — это лишенный всякой исключительности жизненный опыт, маленькая частица горя в горьком море общенародных несчастий.
Гойтисоло не высказывает прямо своих политических симпатий и антипатий, он не говорит прямо о том, что значит для Испании гибель Республики и установление фашистского режима, и тем не менее читателя не покидает ощущение какого-то мрачного предчувствия, какого-то щемящего, тоскливого беспокойства за судьбы оставшихся в живых героев, детей и взрослых, и за судьбу охваченной печалью и облачившейся в траур страны. Жестоким толчком Испания оказалась отброшенной к тем временам, когда складывались нелепые, драматичные, печальные судьбы взрослых героев Гойтисоло. Шансы на перемену утеряны. В трагических судьбах героев уже ничего не изменится. И кажется, что детям суждено будет повторить скоротечный жизненный бег по замкнутому, кругу...
Яркие, но все же чуть дрожащие и как бы размытые временем видения детских лет, пропущенные сквозь реалистическую призму гражданского опыта и писательского темперамента, позволили Гойтисоло создать одно из самых примечательных произведений современной прогрессивной испанской литературы.
Хуан Гойтисоло вместе со своими мужественными братьями по крови и по писательскому призванию, Хосе Агустином и Луисом, вместе со своими смелыми собратьями по перу пристально всматривается в панораму современной испанской жизни. Они ввели уже на страницы своих произведений много забытых испанской литературой героев. Теперь они продолжают поиски настоящего положительного героя. Он пока еще не найден, но приход его из жизни в литературу уже предчувствуется.
Л-ра: Степанов Г. В. Язык. Литература. Поэтика. – Москва, 1988. – С. 336-348.
Критика