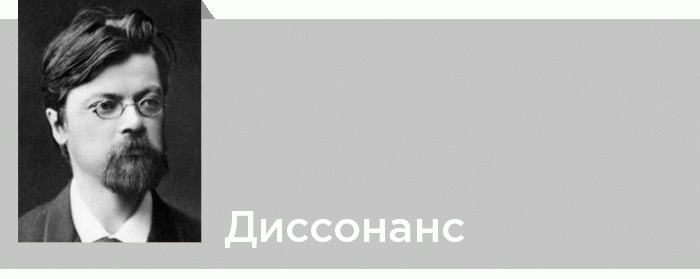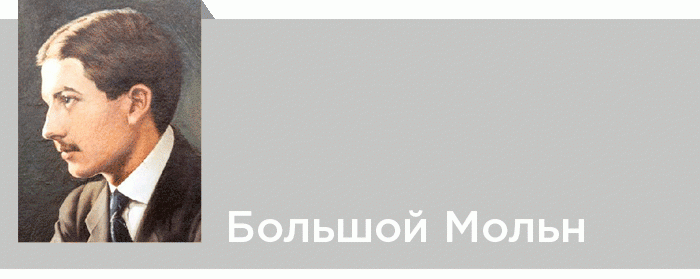Массовая литература 1880-х годов и творчество М. Н. Альбова

Е. К. Созина
Проблема формирования массовой литературы в условиях общественно-политического «затишья» России 1883-х гг. неоднократно рассматривалась исследователями. Однако чаще всего объектом изучения становятся идейно-художественные особенности литературы «переходного времени» как своеобразной питательной среды для достижений реализма 1890-1900 гг. Между тем анализ массовой беллетристики - «литературной, да в сущности и культурной формации» - невозможен без исследования взаимодействия литературы с ее «потребителем» и «востребователем», широкой читательской массой, то есть без изучения своеобразия социокультурного цикла «читатель – автор – художественный текст – читатель» в России последней трети XIX в. Только в контексте такого анализа возможно целостное представление о творчестве восьмидесятников: Ясинского, Щеглова, Баранцевича, Альбова и других, которых история нашей литературы длительное время заносила в безличную вереницу второстепенных талантов «сумрачного» десятилетия, славных лишь тем, что из их среды вышел А. П. Чехов. Историко-функциональный аспект многое проясняет в творчестве «непонятного» Альбова, одного из самых интересных и загадочных писателей того периода.
В работах В. И. Каминского, Е. Я. Поддубной отмечается, что развитие массовой литературы было связано с выдвижением на авансцену читательской аудитории 80-х гг. мелкобуржуазных, средних слоев населения, предъявлявших определенные права в области литературы и искусства, часто идущие вразрез с демократическими традициями русского реализма». Но читательскую массу 80-х гг. нельзя оценивать целиком отрицательно - как сугубо «буржуазного» читателя с реакционно-мещанскими вкусами и потребностями: в ней наблюдались разнородные и противоречивые явления, не отметить которые нельзя.
Массовый, средний читатель к тому времени значительно вырос в культурном, общеобразовательном, даже политическом отношении: опыт прошедших событий в жизни России не пропал для него даром. В литературе он неизбежно хотел сам делать выводы, избегал дидактики и требовал ответного доверия и демократизации со стороны писателей и критиков. «Голос в защиту собственной истины, лично добытой, пережитой, духовно прочувствованной», по словам И. А. Дергачева, уже с середины 70-х гг. начинал определять динамику взаимодействия процессов «производства» и восприятия культурных, эстетических ценностей.
Сознавая, что эпоха героического проходит и наступает затишье, признавая свою неспособность внедрить героическое в повседневную жизнь (да и считая это пока ненужным), читатель-восьмидесятник ждал от литературы ориентации на «массы», отражения ею своих «массовых» запросов, но не желал совсем отказываться от героики и романтики идеалов прошлых лет. Точку зрения такого молодого «среднего» читателя выразил в одной из своих рецензий начала 80-х гг. С. Я. Надсон, которого П. Ф. Якубович именовал «певцом тревоги юных сил», лириком поколения восьмидесятников. В отзыве на статью В. В. (Воронцова) «Учение о нравственности Кавелина» Надсон писал: «Я сам принадлежу к поколению молодому, только что вступившему в жизнь, я весь дышу его интересами и хорошо знаю, как темно и смутно живется ему в наше время, как надоели ему праздные слова, как горячо чувствует он свое святое право любить родину и трудиться для нее и не знает, где найти такое дело, которое, не требуя героических сил и соответствующего нравственного закала, пришлось бы по плечу всей массе».
В 1887 г. позицию уже нашедшего свое дело, но не забывшего об идеях эпохи «Sturm und Drang» «трезвого» восьмидесятника выразил в письме к М. Е. Салтыкову-Щедрину его читатель Н. Н. Луженовский: «Теперь народился новый тип читателя, правда, не особенно многочисленный, но которому предстоит все разрастаться: это люди, родившиеся в конце 50-х, начале и первой половине 60-х годов. Они далеки от розовой благодушности и сытого квиетизма «отцов 40-х годов», но и не так близоруко запальчивы, не так стремительны, но и вовсе не замороженно-холодны, как можно полагать из противопоставления их людям-героям и не-героям нашего «Sturm und Drang’а». Эти люди - будущие работники эволюционной науки и практической техники XX столетия».
Луженовский представлял эту позицию затаившейся по своим углам молодежи как вынужденную и закономерную, но оборотной стороной ее была реакция 80-х гг., не находящая сопротивления в широких социальных слоях, и настроения общественного индифферентизма. Поэтому такая позиция была безусловным шагом назад по сравнению с политически активной, действенной, хотя и грешившей против объективных законов истории позицией семидесятников, полагавших себя субъективно ответственными за ход исторического прогресса и не желавших ждать постепенных, «эволюционных» изменений. Разуверившись в народничестве, и заодно - в самой возможности и необходимости решать вопросы бытия, представляемый Надсоном восьмидесятник уцепился за учение Кавелина о «конкретном» знании индивидуальной души, о конкретной, доступной каждому работе по личному самосовершенствованию, сливающейся с трудом «во благо родины» и позволяющей не думать об общих идеалах и «проклятых вопросах». С этим была связана широкая популярность теории «малых дел» в 80-е гг.; отсюда же вырастали пропагандируемые Р. А. Дистерло идеи «нового литературного поколения»: отказ от «стремления к героическому», попытка «реабилитации действительности».
Требования нового читателя, сдвиги в общественном сознании эпохи вызывали изменения самой литературной манеры писателей 80-90-х гг., неоднократно анализируемые в нашем литературоведении («беспроблемность», отсутствие назидательной мысли автора, фрагментарность, порой - излишняя детализация и т. д.). Чехова, Альбова, Баранцевича, Ясинского, Короленко и других критика относила к «новому литературному поколению», но здесь мы согласимся с В. В. Башкеевой, что если все они сближались по качествам литературного повествования (что не отменяет различий), то далеко не всегда входили в эту категорию по социально-политическому признаку, каковой ставили во главу угла как критик «Недели», так и полемизировавший с ним Н. В. Шелгунов.
В то же время Н. В. Шелгунов довольно точно уловил обывательские, мещанские вкусы «среднего» читателя 80-х гг., ориентированного отнюдь не на социально-острые типы творчества Салтыкова-Щедрина (как восьмидесятник в письме Луженовского), того читателя, который под крылом реакции нашел покой и отдохновение от политических бурь. Они признают «только физический и мещанский идеал и свою боязнь мысли хотят сделать общею, но уже не боязнью, нет, хуже, а руководящим принципом», - писал Шелгунов. Этот обыватель - омещанившийся, обуржуазившийся разночинец, укрепив свое положение в социально-политической и экономической сфере, стремился сделать то же и в сфере культуры. Передовая демократическая литература долго корила его узостью, ограниченностью, консерватизмом - и теперь он жаждал, чтобы его, наконец, оправдали и возвысили в той же литературе, показав, какой он хороши, добрый и совестливый. Поэтому необычайно кстати в середине 60-х гг. пришлась юношеская повесть М. Н. Альбова «На новую дорогу», где таким положительным персонажем представал скромный чиновник Барабашкин, не «страдающий» большим интеллектом, но морально устойчивый. Сходный сюжет разработал в повести «Тихое счастье» К. С. Баранцевич: с претензией на психологическую остроту и романтические страсти здесь рассказывалось о том, как долговязый и нескладный фельдшер Фома Яковлевич, проявляя неожиданное благородство, спасает несчастную девушку, брошенную своим прежним возлюбленным - художником из Петербурга, и женится на ней. Так в литературе 80-х гг. «незаметно для самих авторов происходила своеобразная апология мира маленького человека, который не знал высоких стремлений и не протестовал против господствующей морали и догматов своей среды».
Удовлетворяя потребности такого массового «среднего» читателя, в 80-е гг. постепенно появляется и массовая культура, беллетристика, характерные особенности которой прослежены Е. Я. Поддубной. Эта литература при желании могла и нервы пикантностью ситуаций пощекотать, и удивить романтической экзотикой и необузданностью страстей (как в рассказах на польско-украинскую тематику И. Ясинского: «Катря», «Агата», «Пани Казимира Лабовичева»; «Раба» К. Баранцевича и других), и прельстить тихой идиллией уютного семейного гнездышка, и заставить пустить слезу умиления над сентиментальной «бедной Лизой», которая не хуже дворянки «чувствовать умеет» (а что она мало похожа на реальных бедных Лиз - так на то и «литература», чтобы быть «выдуманной», в «романах» иначе не бывает). Очень четко уловил эту тенденцию массовых читательских вкусов И. Потапенко, своими доброжелательными, мажорными произведениями a la русская классика, то есть перерабатывавшими идеи и образы классической литературы до среднего уровня, весьма способствовавший повышению самооценки среднего читателя-буржуа. Некоторую дань тому же отдал и К. Баранцевич, но в целом его творчество развивалось в несколько ином аспекте: герои Баранцевича задыхаются в быту, стонут и ноют, как сам автор, вызывая сочувствие у такой же погруженной в тину обыденщины малкой интеллигенции» чиновничества, которое непонятно от чего - то ли от «идеалов» молодости, то ли от изредка читаемой «большой» литературы, то ли от зависти к иным, кто повыше и посильнее, - тянется к чему-то другому, упрекает среду и самую жизнь, но не делает ни малейшей попытки, чтобы выйти из «гнилых болот».
Этот взгляд был отчасти присущ И. Леонтьеву-Щеглову, но его мир, в отличие от «зрелого» мирка Баранцевича, - это, скорее, мир юноши, слабого, неопытного, искреннего в своих душевных порывах, вступающего в соприкосновение с пошлостью окружающей среды и теряющего иллюзии. Достоинство Щеглова как раз и состояло, в изображении свежести чувств юного героя, осознающего драму повседневного существования, но не имеющего сил преодолеть ее и себя; с наибольшей полнотой эта точка зрения автора проявилась в одном из лучших рассказов писателя «Миньона», неоднократно издававшейся. Поэтому творчество Щеглова уже требует дифференцированного подхода при решении вопроса об отнесении его к «мещанской» литературе.
Еще сложнее обстоит дело с оценкой творчества М. Альбова, которого Е. Я. Поддубная и В. И. Каминский без всяких сомнений заносили в список «беллетристов-натуралистов». Безусловно, Альбов не мог не учитывать вкусы своего «среднего», отчасти и мещанского читателя: с ним он был кровно связан не столько даже по происхождению, сколько по образу жизни, отражаемой сфере действительности, творческим интересам. Отсюда мелодраматическая окраска историй героинь в «Воспитании Лельки», «Сутках на лоне природы» (1879-1880); попытка воспроизвести во второй повести образ представительницы петербургского «света» (что идет в русле «великосветских» претензий не только В. Маркевича, но и И. Ясинского, И. Потапенко). С апологии «маленького человека» начинал Альбов в 1860-е гг., когда эта тенденция была еще прогрессивным явлением в литературе, хотя уже тогда сопровождалась осознанием узости и потенциальной консервативности данного типа. Впоследствии писатель все более отходит от подобной апологии в сторону критического взгляда на заеденных бытом мелких чиновников и мещан. В повестях «Пшеницыны» (1873) и «День итога» (1879) присутствует «двойная» точка зрения автора на мир мещанской идиллии. Писатель видит его достоинства по сравнению с «деловым», буржуазным Петербургом, признает справедливость стремления своих незаметных героев к простому человеческому счастью, к окультуриванию и эстетизации серого быта, но и подчеркивает ограниченность и псевдоэстетичность такого рода попыток. Характерно резко сатирическое изображение семейного лона чиновника Подосенова в «Воспитании Лельки»: безвкусица и претенциозная пошлость этих «маленьких» людей воплощается для Альбова в их поклонении «фамильной чашке» - образцу мещанского ширпотреба. Затаенное неповиновение маленькой девочки Лельки гнету добродетельного семейства доводится до открытого бунта. Торжество героини подчеркивается заключительной сценой, когда рядом с жалким, потерявшим свою страшную силу Подосеновым, пытающимся шантажировать приемную мать Лельки, аристократку Ремнищеву, рисуется портрет новой Лельки, ставшей уже Helene. Но здесь же, несмотря на «прекрасную демократическую идею» дилогии, на положительный смысл «антимещанского» бунта Лельки, прослеживается точка зрения упоенного столь сладостным финалом обывателя: порок наказан, беззащитное и слабое существо, вызывавшее сочувствие и жалость, обретает заслуженное счастье. Взгляд вставшего на ноги разночинца, получившего право гражданства в обществе, но не совсем пока свыкшегося со своим новым положением, а потому неосознанно ищущего доказательств завоеванного равенства, ощущаемся в описании портрета Лельки-девушки в начале повести «Сутки на лоне природы»: «Глядите на нее, глядите на эти очертания изящного личика, культивируемого в холе барских привычек, глядите на эту спокойную грацию движений благовоспитанной девушки – и вульгарная кличка замрет у вас на устах...».
«Happy end» судьбы унижаемой, оскорбляемой, но протестующей героини был жизненно необходим такому читателю, которого назвать простым обывателем и мещанином было бы слишком легко и, наверное, не вполне заслуженно. Ориентация на такого читателя вызывала сходное решение судеб героев в романах А. К. Шеллера-Михайлова («Лес рубят - щепки летят», «Жизнь Щупова, его родных и знакомых» и другие).
В этой связи очень показательно отличие «детских» рассказов Альбова от рассказов Баранцевича. По мнению А. Э. Якуниной, Альбов и Баранцевич, при некоторых несходствах, все же разрабатывали общий тип «противоречивого» ребенка, опираясь на традицию Достоевского и следуя ей в общем довольно удачно. Мы воздержимся от оценки (ее вынесло время), но отметим разность авторских позиций в произведениях о детях указанных писателей. Жалость Баранцевича по отношению к несчастным маленьким страдальцам (о которой пишет Якунина) не была свойственна Альбову. В Лельке, в «птенце»-гимназисте из очерка «На точке» (1885), в Косте Новоселове из повести «Приключения одного скитальца («Снежок и Картошка»)» (1897) он видит прежде всего личность, полностью суверенную и автономную, а потому равную взрослым людям, хотя и совершенно иную по внутреннему миру. Взрослый и ребенок для Альбова - это две субстанции, и потому дети в его произведениях «не удостаивают» того, чтобы их жалели: им можно лишь сочувствовать. Жалость может возникнуть у читателя, но и то - не к личности ребенка, а к его несчастному положению; сам же автор подобных чувств никак не высказывает и не выражает. Добрый рождественский дядя из рассказа Баранцевича «Девочка», смиривший в себе жестокие сладострастные чувства и одаривший бедного «мотылька» ассигнацией, - для Альбова вещь невозможная. Он признает только такой «happy end» который не унижает достоинства ребенка (то есть личность бедного человека): ведь Лелька в его дилогии сама спасает Ремнищеву, а не является лишь объектом сердобольных, унизительных забот. Здесь отразился тот подъем «чувства личности» разночинца, который, вполне естественно, определял многое в творчестве разных художников второй половины XIX в.
Из современной Альбову литературы его Лелька более всего сопоставима не с типами и судьбами детей в произведениях Баранцевича, но с героиней рассказа М. И.Ясинского «Наташка» (1881), посвященного Альбову и представляющего своеобразный отклик на «Воспитание Лельки». Сюжет рассказа, достаточно частый в русской литературе XIX в. и постоянный в массовой беллетристике: история бедной девушки, содержащей больную мать и вынуждаемой обстоятельствами вступить на «путь порока». Ясинский искусно комбинирует здесь мотивы Альбова и Достоевского: его Наташка - характера гордого и неуступчивого «не по положению». Такова альбовская Лелька, в чем бесспорно сказалось влияние Достоевского: «тип рано развившегося, болезненного, самолюбивого ребенка» стал едва ли не общим местом в произведениях восьмидесятников о детях. Ориентация на характер Достоевского, прежде использованный Альбовым, сочетается с «перепевом» Гаршина - и вновь Достоевского. «Покупатель» Наташки пытается пробудить в ней «чувства нежные», взывает к ее нравственности, хотя одновременно вполне признает правомерность ее шага и необходимость в обществе таких, как Наташка... Оживает образ «гадкого мальчишки», проповедовавшего Надежде Николаевне в рассказе Гаршина «Происшествие» «что-то очень туманное» и «лестное» о «клапанах общественных страстей»; правда, персонаж Ясинского еще пошлее и столь «высоких» слов не употребляет. Однако Наташка, не сумев сломить себя, убегает; избитая, в крови и слезах, блуждает она по городу, пока не замерзает на улице, а перед смертью видит во сне «хорошенькую» девочку, подающую ей кусок черного хлеба с солью. Этот заключительный мотив предсмертного вознаграждения несчастного маленького героя (героини), до которого на всем белой свете никому дела нет, после святочного, рассказа Достоевского из «Дневника писателя» о мальчике у Христа на елке был неоднократно использован в творчестве второстепенных беллетристов: кроме Ясинского, можно указать, например, Баранцевича с рассказом «На волю Божью». Что у Достоевского было выражением искренней боли и протеста против бесчеловечного общества, органической частью его концепции о цене прогресса, то в массовой литературе 80-х гг. превратилось в повод для сентиментальных вздохов и надежд на воздаяние в «мире ином», оправдывающее, по сути дела, пассивность общества. Рассказ Ясинского насколько выделяется из потока «детской» беллетристики 70-80-х гг. не только правдивостью автора, отсутствием сиропного миндальничанья (присутствующего у Баранцевича), но и своеобразно разработанным характером героини (хотя и не без влияния Альбова).
О том, что для Альбова мотив всепрощения и «христианской любви» был неприемлем, говорит попытка писателя создать свой вариант «святочного рассказа». В 1886 г., в ревельском «заточении», Альбов работает над рассказом «Кошмар. Святочный случай» (в черновой редакции - «Под сумрачным небом»), но ничего похожего на действительно святочные рассказы писателей-современников или «рождественские» рассказы любимого им Ч. Диккенса у Альбова не получилось. В начатом рассказе вечером сочельника встречаются двое одиноких, никому не нужных людей. По приглашению мужчины «она» идет к нему в дом. Мужчина высказывает гневную тираду в адрес сочельника, праздничных елок и... детей: «А знаете ли, что я убежден в совершенно обратном и считаю неестественным чувством любовь к чужим детям... Привязанность отца и матери - дело другое. Это - просто зоологическое чувство животного к своему порождению... За что могу я любить чужого ребенка? В каждом из них мы видим массу отвратительных свойств, не говоря уж про то, что все они в общем поголовно несносны. Все эти маленькие ангелы всегда эгоисты, жадны, жестоки...».
Далее следует обрыв как беловой, так и черновой рукописи: видимо, даже пребывая в Ревеле в самом мрачнейшем состояний духа, Альбов не смог «перевоплотиться» в нечто вроде злодея князя Валковского (хотя рисовка героя перед незнакомкой здесь очевидна, и под его громко-безобразными фразами скрывается изуродованное ненормальностями жизни сердце). Вера в доброту и нравственность человеческой природа, и прежде всего ребенка, победила: писатель больше не обращался к своему сумрачному «святочному случаю». Но эта попытка пойти вразрез с извечным представлением о ребенке как о существе невинном и чистом, корни которого уходят вглубь всей христианской культуры, весьма характерна не только как показатель духовного тупика одного из восьмидесятников в «безвременье» политических «потемок», но и как естественная реакция честного художника на струю сентиментального, пассивного умиления в творчестве писателей-современников, отчасти сливающуюся с проповедью толстовских идей смирения и покорности судьбе.
Судя по целому творчеству Альбова, он не был склонен к приукрашиванию и идеализации суровой действительности, к сглаживанию острых углов; а эта тенденция, как мы помним, была достаточно сильна в массовой литературе восьмидесятников. Счастливый финал судьбы Лельки в дилогии «До пристани» - случай, поистине единичный для произведений писателя, начиная с ранних рассказов 1860-х гг. По отношению к общей концепции дилогии он вытекал из гуманной задачи автора - показать, что и болезненная мстительность, и злость Лельки обусловлены отсутствием «согревающей ласки» в ее жизни, изначально же она добра и мила, и потому закон человеческого существования в холодном и враждебном мире может быть лишь один - сочувствие и доброта людей друг к другу, внутренние, нравственные узы сердечной любви. Самое существо положительного идеала Альбова обнаруживает связь с идеалами просветительства, с присущими многим писателям XIX в. нравственными, мировоззренческими идеями братства, любви, духовного единения людей.
И утверждение этого идеала в жизни Альбов видит не в практически-революционном преобразовании мира, а в примирении противоречий в душах людей, то есть, в сущности, там же, где (при всем их отличии друг от друга и от Альбова) видели его Л. Н. Толстой и Ф. М. Достоевский. Позднее, в трилогии «День да ночь» (1886-1903), через недописанный «святочный случай» Альбов придет к выводу, что идеи братства и родства душ в реальном мире не срабатывают, что даже проявление участия человека к человеку не всегда ведет к установлению истинных связей и к разрушению футлярчиков отчуждения и одиночества людей. А за пресловутой «согревающей лаской» должно стоять еще что-то - сила человеческого достоинства и деятельного утверждения принципов взаимоуважения в жизни (мы имеем в виду историю Глафиры Хороводовой и ее разочарование в личности столь привлекательного в начале Равальяка).
Однако, как мы показали ранее, сюжетное развитие в дилогии, венчаемое торжеством «слабого», удовлетворяло запросам массового читателя-разночинца, его внутренней потребности в самоуважении и самоутверждении. Не идя на поводу у вкусов «толпы», Альбов был весьма чуток к социально-психологическим изменениям в духовном климате эпохи. А в 80-е гг. поиск выхода из душевного тупика в установлении внутренней связи с «другим» был реальным спасением для многих. «То было время обостренного внимания к этическим вопросам, к построению нравственно-утопических концепций», - пишет о периоде 80-х гг. А. Б. Муратов.
Множество противоречивых, но диалектически переплетающихся тенденций обнаруживается в массовой литературе 1880-х гг.: здесь и функциональная связь с потребностями разных слоев и типов читательской аудитории, и учет особенностей их восприятия произведений искусства, и регистрация общественно-психологических изменений в стране, и реагирование на сложности конкретно-исторической обстановки, и внутренние, эстетические сдвиги в развитии литературного процесса... Установить своеобразную «иерархичность» факторов, влияющих на массовую литературу восьмидесятников, может помочь анализ «социодинамики культуры» французского исследователя А.Моля.. «Семантическая оригинальность или культурная ценность сообщения определяется отнюдь не реакцией публики (на которую почти исключительно влияет форма сообщения), а массой факторов, под влиянием которых на уровне микросреды эволюционизирует сам автор, - факторов политического, экономического и эмоционального характера, действующих с весьма значительным отставанием...». Иначе говоря, обратное влияние на искусство со стороны «потребителя», по мнению Моля, идет главным образом на «форму» сообщения, под которой понимается его эстетическая ценность, определяемая эффектом «обольщения» публики. «Семантический» же план: идеи, философская позиция автора, собственно содержание произведения - остается более или менее независимым от механизма обратной связи. Отмеченный закон мы обнаружили и при кратком анализе некоторых произведений Альбова 80-х гг. «Форма» его гуманистической идеологии, воплощенной в повестях о Лельке, выстраивалась по линии обратной связи с определенными слоями читательской массы, хотя сама «семантика» произведения основывалась на идеях, коими вечно была жива русская литература XIX в., которые оказались наиболее актуальны в социально-политических условиях России 1880-х гг., применительно к «микросреде» и мировоззрению автора. Хотя в силу содержательности самой «формы» искусства тот и другой аспекты произведения не могли не влиять друг на друга. В период написания дилогии они объективно пересеклись для Альбова; впоследствии же, будучи трезвым художником-реалистом, а не ремесленником-поденщиком, он отходит от абстрактной утопичности идеи нравственного единения людей, преодолевающего любые социальные, сословные, политические перегородки в тесной, семейственной связи, - несмотря на массовидность, до определенной степени, даже спасительность этой идеи на фоне кажущейся вечной беспросветности и бесперспективности времени 80-х гг.
Мы только наметили некоторые пути исследования сложного феномена массовой литературы конца прошлого века. Предварительно можно сказать, что массовая литература восьмидесятников нормировалась не просто под облагораживающим влиянием русской классики, не столько в русле приспособления ее идей и образов к усредненным вкусам толпы, но сама несла духовную традицию отечественного реализма в массы, в творчестве иных из своих художников порой препятствовала вульгаризации и опошлению великих идеалов. Для создания полноценного представления о движении историко-литературного процесса второй половины XIX в. недифференцированный, оценочно-социологический взгляд на массовую беллетристику губителен. Благодаря признанию ценности человека с его индивидуально-личностным сознанием и свободной волей (кардинальная идея русской культуры) массовая литература так и на смогла принять механический детерминизм и однолинейную психофизиологичность натуралистических концепций. Однако вопрос о художественном методе крыла восьмидесятников заслуживает особого разговора.
Л-ра: Типология литературного процесса. – Пермь, 1990. – С. 90-103.
Критика