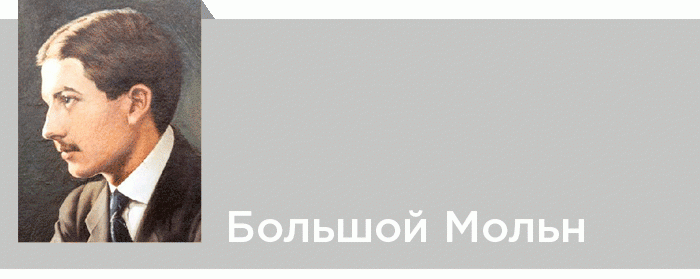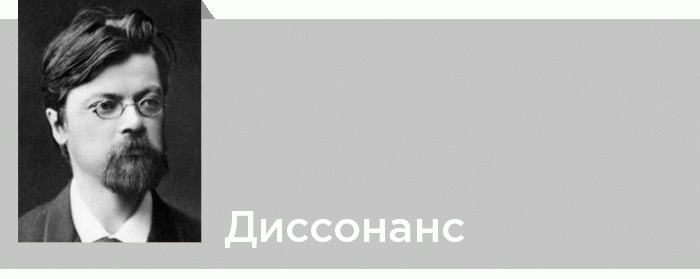Михаил Альбов. На точке

(Отрывок)
Очерк одного исчезнувшего типа
На свете счастья нет, а есть покой и воля.
Пушкин
I
ФИЛИПП ФИЛИППЫЧ
Был душный майский полдень. По узенькой пыльной улице, где лепились по обеим сторонам маленькие одноэтажные домики, тротуаров не полагалось, и местами росла густая трава, шел мальчик лет тринадцати в гимназической форме.
Это была одна из отдаленных окраин южного города Пыльска, о чем свидетельствовал характер построек, состоявших сплошь из мазанок, крытых черепицей и даже просто соломой. На самой середине улицы, где в дождливое время стояло целое озеро грязной воды, а теперь блестела, как кусок разбитого зеркала, отражая в себе клочок бирюзового неба с таявшим неподвижно маленьким перламутровым облачком, длинная лужа, сладостно млела, выставив лучам облепленную черною лоснящейся грязью спину свою и томно похрюкивая, тучная и, вероятно, уже пожилая свинья... Стены мазанок резали глаз ослепительной своей белизною... Раскаленный воздух не шевелился... "Кукурику-у-у!" - неслось со всех дворов вперебой.
Гимназистик шел по теневой стороне, стараясь держаться ближе к стенам домов, в видах защиты от солнца. Ему было жарко. Новенький, синий, щеголевато сидевший мундирчик свой он расстегнул нараспашку и помахивал, как опахалом, снятою со стриженой головы фуражкою в белом чехле в свое розовое миловидное личико, на котором блестел крупными каплями пот, и черные волосы на висках слиплись в виде косичек.
Он был задумчив, даже уныл, и шел не поднимая глаз от земли, со сдвинутыми над переносьем густыми и тонкими, точно проведенными кисточкой бровками, которым позавидовала бы любая девица. Вообще в нем было много женственного, начиная с невинного взгляда до грациозной несмелой походки,- все являло в нем признаки благовоспитанного и скромного мальчика, из тех, что называют "маменькиными сынками".
Дойдя до конца улицы, по которой лежал его путь, он надел фуражку и застегнулся. Теперь он стоял перед домом, скрытым в тени трех росших перед ним тополей, высоко реявших в небе своими пирамидальными маковками. Этот дом был поновее и пощеголеватее прочих, с черепитчатой крышей и раскрытыми настежь окошками, с горшками фуксий, герани и кактусов. Оттуда неслась, замирая в недвижимом воздухе, нежная мелодия флейты...
Этим домом заканчивалась улица. От него шел, под углом, высокий забор, и желтела на широком пространстве песчаная отмель, вдаваясь правильным мысом в широкую, но мелководную, знаменитую своими крупными раками речку Смородку. На том берегу волнистой каймою тянулась, купая в воде свои бледно-зеленые, как бы запорошенные пылью ветви, левада, перемежаясь веселыми стройными сосенками, а дальше, сливаясь с линией горизонта, дремал синий лес.
Мальчик толкнул скрипучую калитку, прошел чистенький, маленький дворик, поднялся на крыльцо, миновал прихожую (дверь в дом оказалась незапертой) и, очутившись в большой, с низким потолком, комнате, остановился на пороге.
Посреди этой комнаты, спиной к нему, стоял невысокий, плотный человек, в белых парусиновых штанах на одной подтяжке и ночной сорочке, из-за ворота которой виднелся багровый, напружившийся затылок, и, подавшись всем телом вперед, выводил затейливую руладу на флейте.
Он делал как раз в это время паузу, поэтому уловил ухом едва слышный скрип половицы под ногами вошедшего мальчика. Он крикнул, не оборачиваясь:
- Ты, Параска?
- Нет-с, это я, Филипп Филиппыч,- тоненьким голоском отозвался гимназист.
- А, птенец! - весело воскликнул плотный человек и обернул к нему медно-красное, без усов и бороды, пожилое лицо с крупным носом и целою копною нечесаных русых волос.
Он бережно положил свой инструмент на окошко, взмахнул высоко на воздух мясистой ладонью и стиснул в пей тоненькие пальчики гостя.
- Здорово, птенец!
Мальчик шаркнул ножкой и сказал, застыдившись:
- Извините, Филипп Филиппыч... Я вам помешал...
- Сие не суть важно! Как здоровье мамаши?
- Merci, она здорова.
Мальчик сел на диван и потупился, вертя в руках фуражку.
- Жарко! - воскликнул Филипп Филиппыч, садясь против гостя, и шлепнул по своей смуглой, с мохнатою шерстью груди, тяжело вздымавшейся под расстегнутым воротом грязноватой сорочки.- Вон и Фальстафке жарко! Жарко, Фальстаф?.. Мм, подлец!
Большой косматый пес, белый, с рыжими подпалинами, изнеможенно лежавший вдоль стенки, свесив на сторону длинный язык и коротко и быстро дыша, при своем имени сделал из вежливости слабое движение пушистым хвостом, лениво полуоткрыл на хозяина мутный желтый зрачок и снова закрыл, как бы. желая сказать: "Ах, отстань, Христа ради; видишь, кажется, сам!"
Мальчик молчал, блуждая взором по обстановке.
Стены были обмазаны бледно-лиловою краской. В углу белелась вальяжная изразцовая печка. Стулья - старинные, красного дерева, с сиденьями из выцветшего ситца, с рисунками в виде крупных букетов и жесткими спинками - были расположены как попало. Вдоль стены, у окошек, помещался таковой же диван, а перед ним овальный стол со следами давно оконченного чаепития в виде потухшего самовара, крошек белого хлеба и остатков крепчайшего чая в стакане. Но что больше всего бросалось в глаза - это огромный старомодный письменный стол, возвышавшийся, как саркофаг, у противоположной стены и загроможденный ворохами каких-то тетрадей, книг и газет, представлявших собою самый живописный хаос. Это был священный угол во всей квартире Филиппа Филиппыча, ревниво оберегаемый им от дерзновенных вторжений щетки и тряпки полногрудой девы Параски, в качестве кухарки и домоправительницы владевшей неограниченной властью во всех пределах этого дома. Сверх груды томов "Словаря" Владимира Даля2 ниспадал, держась одним уголком, нумер "Нового времени" (пачка этой и других газет, вероятно, была недавно получена с почты, сохранив по местам бандероль), придавленный свежими книжками толстых журналов, красиво пестревшими палевым и ярко-оранжевым цветом обложек своих и увенчиваясь сверху соломенной шляпой хозяина, рядом с которой попала и одна из подтяжек... Посредине стояла лампа с колпаком в виде шара, прикрытым абажуром из зеленой бумаги, и тут же чернильница с песочницей, с бронзовыми крышечками, изображавшими оленей. Со стенки смотрела на всю эту картину коллекция фотографических портретов писателей, русских и иностранных. Рядом, занимая всю остальную часть стены, высились лестницей полки, плотно уставленные русскими, французскими и немецкими книгами, в переплетах и просто в обложках, всевозможных толщины и форматов. Тут были и Шлоссер, и Тьерри, и Гизо, и Соловьев с Костомаровым3. По критике виднелись полные собрания сочинений Белинского, Добролюбова и Аполлона Григорьева4; из французских - Тэн и Курье5. По отделу изящной словесности - русские корифеи были все налицо. Из английских - Вальтер Скотт, Диккенс и Теккерей имелись почти полностью; Шекспир занимал почетное место; Гейне, Гете - тоже присутствовали. Меньше всего замечалось по части французской беллетристики - и, за исключением только Гюго, которого все капитальные вещи имелись, на долю его соотечественников досталось не много места: по-видимому, литературу французскую хозяин не особенно жаловал...
Филипп Филиппыч много и прилежно читал, преимущественно по ночам, лежа в постели. Вот и теперь, через отворенную дверь в соседнюю комнату, имевшую назначение спальни, где виднелось изголовье кровати, с растянутым по стене красным дешевым ковром с изображением желтого льва, можно было заметить на круглом маленьком столике с полусгоревшею стеариновой свечкой в низеньком медном подсвечнике и графином с квасом, которого оставалось только немного на донышке, лежащую вверх корешком какую-то книгу, прикрытую четвертушкой писчей бумаги, с карандашом, надо полагать, для отметок.
Но иногда Филипп Филиппыч изменял этой привычке. Тогда он, раздевшись в обычный свой час и всунув босые ноги в мягкие шлепанцы-туфли, зажигал на письменном столе лампу, в соседстве с которой ставился и снятый с ночного столика графин, наполненный с вечера усердной Параской доверху квасом. Потом он делал тщательный осмотр комнаты. Убедившись, что дверь в прихожую притворена плотно и шторы на окнах спущены низко, он, в одном белье, садился за письменный стол и, выдвинув один из ящиков, доставал оттуда толстую тетрадь писчей бумаги, сшитую в формате листа. Она была почти до половины исписана мелким и тщательным почерком. Разложив тетрадь перед собою, он принимался ее перелистывать, останавливаясь на некоторых местах, перечитывая и делая на полях заметки карандашом, пока не доходил до последней строки, откуда начинались пустые страницы. Там он прочитывал последний абзац, склонялся нахмуренным лбом к руке, упиравшейся локтем в колено, и погружался в сосредоточенную и глубокую думу... Просидев так минут с десять или с четверть часа, он вдруг откидывался на спинку кресла и, потерев руки одну о другую, приступал к работе...
Тихо, торжественно снималась крышка с изображением оленя с чернильницы, в которую погружалось перо, и на рукописи, под последней строкою, появлялось мелко и тщательно выписанное первое слово. Рядом с ним лепилось другое, еще и еще, выходила строка, под нею другая, третья, четвертая,- и медленно, плавно, без скачков и перерывов, двигалось перо Филиппа Филиппыча, нанизывая ровные, красивые строчки... По временам он откидывался на спинку кресла, свертывал и курил папиросу или, не покидая пера, брал со стола графин с квасом, делал, прямо из горлышка, несколько могучих глотков - и снова принимался строчить... Лицо его горело сосредоточенным вдохновением работы... Тихо вокруг, только разве Фальстаф, свернувшийся клубком на своей подстилке у печки, глухо пролает во сне, потревоженный какою-нибудь своею собачьею грезой... Но вот, внезапно, пронзительно прокукурикал петух на дворе... А перо Филиппа Филиппыча все знай себе непрерывно и однотонно поскрипывает... Вот и воробьи уже проснулись и подняли свое хлопотливое щебетанье за окнами, шторы порозовели в лучах восходящего солнца, и матовый ламповый шар все пуще и пуще краснеет, тускло светя на страницы рукописи Филиппа Филиппыча, как бы в смущении перед наступающим владычеством дневного светила, и петухи со всех уже дворов кричат вперебой - а Филипп Филиппыч все пишет и пишет...
Что он пишет, когда он начал эту работу и когда окончит ее?.. Об этом знали лишь грудь да подоплека Филиппа Филиппыча!.. В эту тайну он не посвящал никого, она касалась только его одного да тех самых портретов, которые неподвижно и безмолвно, в ночной тишине, смотрели со стенки на эту работу...
II
ГОРЕ ПТЕНЦА
- Ты откуда ж так рано, птенец? - задал Филипп Филиппыч вопрос своему молчаливому гостю. Тот уныло смотрел в это время на блестящие пятна, которые рисовал на полу солнечный свет, проникая сквозь окна с млевшими в них неподвижно цветами.
Мальчик вздрогнул слегка, скользнул робким взором мимо сидевшего против него на диване хозяина, как бы избегая взглянуть ему прямо в лицо, и с тем же убитым видом уставился в золотистый столб света, перерезывавший наискось комнату, с крутящимися в нем миллионами блестящих пылинок и неугомонно снующими мухами. Лицо его выражало страдание, намерение что-то сказать и нерешительность...
- Да ты что же это такой?.. Случилось, что ли, с тобой что-нибудь? - спросил с беспокойством Филипп Филиппыч, прочитавший в чертах гимназиста все эти чувства.
- Нет... ничего... То есть да... То есть я хотел... Гм... гм!..
Голос маленького гостя пресекся, он побагровел и сделал судорожное движение пальцами, которые держали фуражку, как бы в тщетном усилии ее разорвать. Глаза его были теперь полны слез...
- Да что ж это в самом деле, Саша? - совсем уж встревожился Филипп Филиппыч, кладя руку ему на плечо и пристально засматривая в глаза.- Да что же случилось-то? А? Да ну, говори же... Что с тобой? А?
Миловидное личико мальчика искривилось тою некрасивою гримасой, которая предшествует плачу. Действительно, в ту же минуту из глаз его хлынули слезы, и он пролепетал сквозь рыдания:
- Про-ва-лил-ся!
- Хм, вот оно что! - протянул Филипп Филиппыч.- Ты, значит, с экзамена... Да, теперь вспомнил: у тебя сегодня латынь... Так? Из латыни?
- Из... ла-ты-ни!
- Как же ты это так, братец, а?
Саша, сквозь слезы, принялся рассказывать.
В extemporale {сочинение, литературная импровизация (лат.).} было пять ошибок... Это "плевать"! За extemporale он получил тройку,.. Подгадил устный ответ! Он хорошо проспрягал plusquamperfectum conjunctivi от глагола "facio" {давно прошедшее сослагательное... делать (лат.).} в страдательном залоге (a verbo: fio, facius sum, fieri). Он перечислил, почти без ошибки, все имена существительные 3-го склонения, оканчивающиеся на is, по исключению мужеского рода: Много есть имен на is masculini generis...{мужского рода (лат.).} Он думал, что "чех" тут его и отпустит. Держи карман! "Чех" стал пробирать его из "оборотов". "Чех" нарочно придрался, чтобы его провалить, потому что не любит его. Во-первых, он спросил, что значит "accusativus cum infinitivo"? {винительный падеж с инфинитивом (лат.).} Как перевести фразу: "Я убежден, что душа моя бессмертна"?.. Саша знал, что после "persuasus sum" ("я убежден") нужно поставить ut с сослагательным. Он сказал с ut. Он знал, что тут может быть употреблен и оборот accusativus cum infinitivo. "Чех" велел употребить accusativus cum infinitive Следовало сказать: Persuasus sum animam meam... {Я убежден, что душа моя... (лат.).} a он перевел: "anima mea", потому что он постоянно смешивает accusativus cum infinitivo с оборотом ablativus absolutus {абсолютный творительный надеж (лат.).} и никогда, никогда, во всю жизнь, не привыкнет к этим проклятым "оборотам", и "чех" это знает и нарочно спросил, чтобы срезать, а потом раскричался, стыдил и поставил ему двойку!
Мальчик рассказывал все это торопливо и с жаром, как то бывает при воспоминании недавно пережитого горя. Слезы его уже высохли, и лицо разгорелось. Филипп Филиппыч пристально и с участием слушал.
- Н-да, плохо дело! - сочувственно вздохнул он напоследок.- Значит, осенью у тебя две переэкзаменовки: из математики и латыни?..
Саша ничего не ответил, опустил низко голову, и оживленное выражение на лице его вдруг заменилось прежним видом тупого отчаяния. Филипп Филиппыч счел нужным пролить в его душу бальзам утешения.
- Ну, ну! Чего унывать! - хлопнул он по плечу своего юного гостя.- Эка беда! Лето велико... Успеем и погулять, и на лодке поездим, и в лесу нашляемся вдосталь... А там приналяжем на книжки как следует - и четвертый класс от нас не уйдет!.. А ты уж и нюни сейчас распустил?.. Э-эх, птенец, птенец! Нужно быть молодцом!
Но быть молодцом, по крайней мере в данную минуту, оказывалось, по-видимому, свыше Сашиных сил. Отчаяние не покидало его, и в то же время казалось, будто в душе мальчика происходит борьба между необходимостью еще что-то поведать и бессилием на это решиться, что выражалось в его неимоверных стараниях оторвать козырек от фуражки...
- Да полно же, ну! Экий ты, братец! - продолжал убеждать Филипп Филиппыч, свертывая тем временем толстейшую папиросу.- Перейдешь, и все будет ладно!
- Не перейду!..- возопил вдруг гимназист таким отчаянным голосом, который бывает в тех случаях, когда одним геройским усилием сбрасывается с души долго и мучительно ее угнетавшая тайна.- Я не могу перейти, и... и... (тут слезы опять хлынули у него в три ручья) я оставлен на второй год!!
- Как?! - изумленно воскликнул Филипп Филиппыч, успевший уже окутать себя густой пеленой табачного дыма.
Широким взмахом руки он очистил вокруг себя воздух и уставил неподвижно вытаращенные глаза на уничтоженной фигуре "птенца".
Тот тяжко и прерывисто всхлипывал, вследствие чего в течение некоторого времени не мог вымолвить ни единого слова. Мало-помалу, однако, всхлипыванья заменились глубокими вздохами, и он, с запинкой и паузами, поведал наконец свое горе.
Суть была вот в чем. Экзамен из латыни оказался решающим. Саша раньше не выдержал из математики. Относительно экзамена из немецкого он давно еще беспокоился, так как не был уверен, поставил ли "немец" ему удовлетворительный балл, потому что он никогда не показывает, сколько поставил; поэтому Саша ни мамаше, ни Филиппу Филиппычу об этом ничего не сказал, а сам про себя только мучился, и вот лишь сегодня узнал в канцелярии, что "немец" поставил ему тоже двойку, а потому он оказался провалившимся из трех предметов... А главное - "чех"! Саша так был уверен, что должен выдержать из латинского! Он и в году занимался, и к экзамену зубрил с утра до ночи, и вот всю эту ночь сидел напролет! Он никак, никак не ожидал, что "чех" его срежет!
- Голубчик! Миленький! Добрый!- воскликнул в заключенье птенец, схватывая внимательно слушавшего его Филиппа Филиппыча за руку.- Пойдемте к нам! Ради бога! Вы расскажете мамаше! Я не могу ей так объяснить! Скажите ей, что это ничего, пустяки, что я на второй год остался, что я буду стараться! Она, я знаю, думает теперь, что я выдержал! Она вчера в церковь ходила богу молиться, и ночью я слышал, как она не спала я к дверям подходила, на цыпочках, пока я сидел и зубрил, и все что-то шептала,- и вдруг вот теперь я приду и скажу, что остался, и она будет плакать! А я не умею ей так сказать, чтоб она не плакала, и сам заплачу! А вы можете, добренький! Вы скажете так, что выйдет все хорошо!.. Голубчик!.. Пойдемте!.. Сейчас же, сию же минуту вот и пойдемте!
- Ну, ну, хорошо, хорошо, успокойся, птенец! - проговорил Филипп Филиппыч, вставая.- Пойдем к мамаше. Только сам-то ты не волнуйся! Все будет отлично!.. Ах, дети мои, дети, куда мне вас дети? - вздохнул он благодушно, остановясь против Саши, который, бледный, огасший и даже как будто вдруг постаревший, сидел с глазами, устремленными пристально в землю.- Ну, ну, нечего нос вешать на квинту! - прибавил он весело, взъерошивая на голове Саши волосы, и, снова вздохнув, отправился в спальню.
Он вышел оттуда, смотрясь в большое складное зеркало, которое держал обеими руками, и, остановившись в дверях, спросил сам себя:
- Побрыться чи нет?
(Как чистокровный "кацап", Филипп Филиппыч хохлов недолюбливал и, несмотря на свое довольно давнее проживание в Пыльске, говору их не научился, но приобрел зато привычку вставлять иногда в свою русскую речь малороссийские фразы, по большей части их беспощадно коверкая.)
После короткого, но пристального созерцания себя в зеркале он решил:
- Треба побрыться!
С этими словами Филипп Филиппыч поставил зеркало на стол с самоваром, принес и приготовил что нужно и, сев на диван перед зеркалом, сосредоточенно занялся бритьем. -
- Добре! - воскликнул он наконец, затем встал и унес обратно в спальню бритвенные принадлежности.
Скоро оттуда послышались плесканье воды и фырканье Филиппа Филиппыча, совершавшего свое омовение. Спустя короткое время он предстал перед Сашей аккуратно, причесанным, в чистом, только что из стирки, парусинном балахоне, широко сидевшем на его могучих плечах, таковом же жилете и вышитой малороссийской сорочке. Сняв со стола и нахлобучив на голову свою соломенную широкополую шляпу и вооружившись толстою палкой, он сказал гимназисту:
- Ну, птенец, трогаем!
Затем свистнул собаке:
- Фальстаф, фю-фю!
В темной прихожей Филипп Филиппыч крикнул куда-то в пространство:
- Параска! Дверь зачини! Обидать не буду!
Солнце палило еще свирепее. Филипп Филиппыч шел вперевалку, грузно опираясь на свой толстый посох, и молчал. Саша тоже молчал, идя понурившись бок о бок с Филиппом Филиппычем, и воспроизводил в своей памяти все роковые перипетии этого грустного утра... Фальстаф неохотно, лениво плелся позади, перекладывая с одной стороны на другую свой длинный, повисший как тряпка язык, и размышлял про себя:
"Экая жарища, господи!.. И чего, на кой ляд понесло их?.. Черт знает!.."
Критика