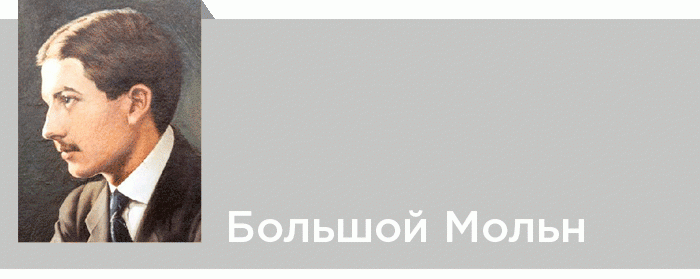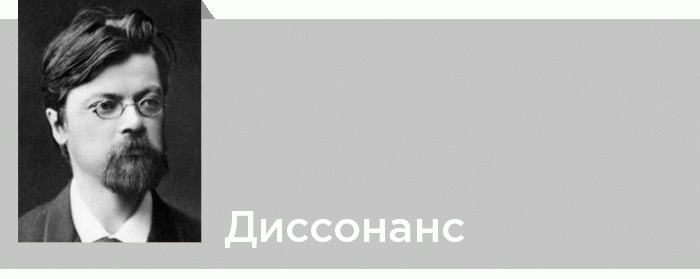М. Н. Альбов (Творчество писателя в литературном процессе второй половины XIX века)

А. Б. Муратов
В рецензии на собрание сочинений Альбова А. В. Амфитеатров писал: «Кончина М. Н. Альбова заставила перечитать его полузабытые повести, а чтение заставило забывших с изумлением увидеть, как много ему обязана происхождением и тоном своим литература девяностых годов; насколько он в ней —„предок"». Забытый уже в конце XIX века, Альбов был второстепенным, но интересным и по-своему значительным явлением в истории русской литературы. И Амфитеатров был прав, отметив, что мимо Альбова не должен в будущем пройти «безразлично ни один историк общества, культуры и литературы русского XIX века». Однако историки литературы писали об Альбове мало и слишком обще.
Мы попытаемся несколько восполнить такой «пробел» и выявить, какие историко-литературные проблемы встают при изучении жизни и творчества этого писателя.
Альбов родился 8 ноября 1851 года в семье дьякона церкви почтового департамента. Мать его (она умерла, когда Альбову было полтора года) — «полудворянского рода, по бабушке происходившая из Ярославской губернии. Отец — новгородец, сын сельского причетчика», «получивший эту фамилию, как и два брата его... в духовном училище. Первоначальная его, как и их, фамилия была Озерской». Альбов органично связан с этой средой. Она сформировала его сознание и определила темы его творчества. Он до конца своих дней останется разночинцем, которому близок и дорог духовный мир «маленьких людей», их беды и радости, их борьба за существование и ежедневные заботы, их настроение и мироощущение, обусловленные этой борьбой и этими заботами.
Рассказывая о своем детстве и о том влиянии, которое имели на него прочитанные тогда книги, Альбов вспоминал: «Я жил постоянно в мире, наполненном лицами мною прочитанных книг, и всякое живое лицо обставлялось мною с тем или иным фантастическим образом. Вообще я был ужасный мечтатель (от какового недостатка, должен покаяться, и теперь еще не совершенно избавлен). Конечно, это нужно приписать моему одиночеству, в котором я рос (до моего рождения у отца были две девочки, которые умерли — одна двух лет, другая — нескольких месяцев), сверстников у меня не было, играть с другими детьми на улице мне не позволялось: берегли меня, как зеницу ока, а ведь мало ли что может статься от уличных мальчишек, — поколотить могут, обидеть!..» Условия, в которых формировалось сознание Альбова, конечно, исключительны. Но в определенном смысле они и типичны. Не случайно далее Альбов замечает, что развившиеся в таких условиях «нерешительность и слабохарактерность» были «наследственными» чертами его характера: он «заимствовал» их от отца. Это те черты психологического склада разночинца и «маленького человека», которые столь очевидным образом отразились, например, в «Бедных людях» Достоевского; о них же Некрасов писал в стихотворении «Застенчивость»:
Знаю я: сожаленье постыдное,
Что как червь копошится в груди,
Да сознанье бессилья обидное
Мне осталось одно впереди...
В 1860-х годах они же, а не только неумение найти свое место в борьбе за лучшее будущее народа, обусловили специфический тон многих произведений демократической литературы: «кладбищенство» Череванина, героя романа Н. Г. Помяловского «Молотов», отчаяние и неверие Потесина, героя его же романа «Брат и сестра», «озлобленность» Н. В. Успенского, «мрачный тон» произведений Ф. М. Решетникова и пессимистические ноты в очерках и рассказах А. И. Левитова. И хотя конкретное содержание пессимистических настроений шестидесятников и Альбова различно, общие причины, их породившие, — близкие. Они — от жизненных обстоятельств, от среды. Альбов всегда ощущал свое кровное родство с жизнью «маленьких людей» — чиновников, вдов, сирот, одиноких бобылей, жителей петербургских окраин, вероятно, потому, что сам всегда жил так, как жили эти люди. «Обстановка наша была обстановкой людей среднего достатка, без выраженных черт духовного быта», — писал Альбов. Впоследствии, в ответ на вопрос анкеты Ф. Ф. Фидлера о том, каково было его материальное положение, он написал: «Не бедствовал». Однако этот ответ скорее отражает непритязательность и скромность запросов Альбова, чем истинное его положение. Он жил только литературным трудом, который давал минимум средств к существованию.
В 1862 году Альбова отдали во 2-ю Петербургскую гимназию. Учился он с большим трудом: оставшись в четвертом классе на третий год, был исключен и по экзамену принят в 1867 году в 5-ю Петербургскую гимназию, которую закончил лишь в 1873 году. Причина тому — поразительно рано проявившаяся страсть к сочинительству. Лишенный общения со сверстниками, он с ранних лет пристрастился к чтению. «Читал без разбора, что попадалось, по беллетристике», — вспоминал Альбов. Он жил в мире прочитанных им приключенческих и исторических романов; Робинзон Крузо, Давид Копперфильд, Чичиков были для него «отнюдь не созданиями фантазии, но взаправду живыми людьми», и уже во втором классе гимназии Альбов попробовал написать «юмористическую» повесть «Растрепалкин», навеянную «похождениями Чичикова». Затем последовал «исторический роман» из эпохи Людовика XV «Маркиза Бренвилье», «фантастический роман» «Путешествие на луну» (совместно с товарищем по гимназии К. С. Баранцевичем), роман «Английский матрос», «сколок с „Монтекристо" и „Лондонских тайн", в котором действие происходило одновременно в Англии, Испании, Америке, изображена была даже испанская инквизиция».
Но литературные интересы юного Альбова не ограничивались подобного рода «переделками» и «перепевами». Его опубликованные тогда произведения посвящены иным темам и обнаруживают интерес начинающего писателя к другому кругу чтения.
Маленький чиновник, снимающий убогую комнату в подвальном помещении, влюбился в соседку, которая тоже обратила на него внимание. Но вскоре выяснилось, что она содержанка графа и принимала ухаживания влюбленного юноши, чтобы развлечься. Таково содержание первого напечатанного рассказа Альбова. Во втором его рассказе повествуется о судьбе бедной девушки, Маши Мармеладовой, которая, чтобы купить лекарство заболевшей матери и заплатить за квартиру, вынуждена продавать себя. Рассказ этот, по признанию самого Альбова, был написан «под наитием Достоевского», т. е. под влиянием романа «Преступление и наказание», печатавшегося в 1866 году в «Русском вестнике». Близкий ему по содержанию сюжет и в первой напечатанной повести Альбова «На новую дорогу». В ней рассказывается о дочери бедного чиновника Елене Цепкиной, которая получила образование в институте, но вынуждена смириться с участью «бедной девушки». Она соглашается выйти замуж за недалекого чиновника Барабашкина, но в это время с нею случайно знакомится молодой ловелас Плавунцов. Он увлекает Елену перспективами «новой жизни» в светском кругу. Вскоре, однако, Плавунцов бросил Елену, и она в конце концов оказалась на улице. Лишь случайная встреча с Барабашкиным спасает ее от позора. Эти наивные и в литературном отношении подражательные произведения заслуживают внимания с точки зрения генезиса творческого метода Альбова.
Юного автора интересует мещанская среда, при этом — специфически петербургская. Он повествует о своих героях неторопливо, с массой бытовых и жизненных подробностей, среди которых важное место занимают ретроспекции в прошлое, описания домов, улиц, кварталов столичных окраин, погоды. «Истинно петербургская дождливая ночь», осень, уличные фонари и «маленькая каморка в одном из бедных домишек Выборгской стороны» — такова обстановка действия в рассказе «Петербургские мизерабли». Она создает соответствующее сюжету настроение. Сам же сюжет этого, как и других произведений Альбова, подчеркнуто прозаичен, будничен и трагичен. В нем можно без труда увидеть зерно будущих его романов, повестей и рассказов: пристрастие к изображению определенных героев. Альбов явно ориентируется на Достоевского, в творчестве которого его привлекает тема людей «униженных и оскорбленных», психология и мироощущение «бедного человека», его незащищенность от мира зла. Он наследник Достоевского, но в том смысле, в каком автор «Преступления и наказания» смыкается с «Петербургскими трущобами» В. В. Крестовского, с «Московскими норами и трущобами» А. И. Левитова и М. А. Воронова, с незаконченным романом Помяловского «Брат и сестра». Рассказы и повесть Альбова — это как бы «сниженный» вариант темы «бедных людей», разработанной этими писателями. И дело здесь не только в том, что он писатель совсем юный, робко ищущий свое отношение к жизни и свой творческий почерк. Первые произведения Альбова появились в эпоху реакции 1860-х годов, которая внесла существенные коррективы в творчество шестидесятников, например Левитова: она вызвала ощущение, что надежды на изменение жизни народа рушатся, и усугубила мрачный тон их произведений. Альбову было знакомо отразившееся в поздних произведениях шестидесятников настроение — чувство беспомощности и одиночества бедного разночинца. Оно и стало доминирующим в «Записках подвального жильца», «Петербургских мизераблях» и в повести «На новую дорогу». Альбов близок к тому же Левитову тоном своих произведений, хотя причины, вызвавшие этот тон, у писателей разные. Левитов пережил трагедию неоправдавшихся надежд. Альбов, как человек другого поколения, ее не пережил. Он остался в стороне и от модных в конце 1860-х годов естественнонаучных и политических идей. Отсюда и иной, «сниженный» характер его пессимизма. Он — отражение настроений «массового» разночинного сознания.
В этой связи закономерно, что Альбов начал печататься в «массовых» петербургских газетах. В «Петербургском листке» и «Петербургской газете», где появились все три названных произведения Альбова, широко освещались городские новости и жизнь городских низов; фельетон, в котором печатались и беллетристические произведения, был посвящен тем же темам. Рассказы и повесть Альбова удачно вписывались б эту тематику: это были картинки жизни «бедных людей», населявших окраины столицы — Выборгскую и Петербургскую стороны; они были достоверны, так как рассказывали о часто встречающихся фактах и типичных, будничных ситуациях. Такой достоверностью и типичностью будут отличаться и поздние произведения Альбова.
Первым из них был роман «Пшеницыны», опубликованный в 1873 году в журнале «Дело». В нем рассказывалось о маленьком, внешне ничем не примечательном чиновнике, который потерял взятые на дом для переписки деловые бумаги, был уволен, тщетно искал новое место и в конце концов повесился. Но эти трагические события — лишь основа романа. Главное в нем — подробно и обстоятельно рассказанная история жизни героя, небогатая событиями, но обладающая своим духовным содержанием. Автор не перевоплощается в своих героев. Он наблюдатель этой жизни, причем наблюдатель не бесстрастный. Альбову знаком быт таких людей, близки и понятны их заботы, их психология и переживания. Углубленным психологическим анализом сознания бедного чиновника «Пшеницыны» ближе всего стоят к «Бедным людям» Достоевского. Но этот роман — не запоздалый вариант повести о бедном чиновнике. Описание бытового уклада, своего рода лирическая хроника жизни «маленьких людей», объективное повествование об их духовном мире — все это характерные черты уже определившейся художественной манеры Альбова, отличающейся от творческого метода Достоевского.
Они сближают «Пшеницыных» с демократической литературой 1860-х годов. На это по существу указал М. В. Авдеев, посвятивший несколько строк роману Альбова в обзоре текущей литературы. Рассуждая о причинах участившихся самоубийств и задавая себе вопрос, «не навевается ли нам склонность к самоубийству скукой, бездарностью и монотонным завыванием нашей литературы», Авдеев упомянул в качестве образца такой литературы новый роман Альбова. Когда-то читатель с интересом относился к произведениям Н. Г. Помяловского, В. А. Слепцова, Ф. М. Решетникова и Г. И. Успенского. Но теперь «им на смену выступила бездарная, хотя и честная посредственность — общество отвернулось от нее» (Н. Ф. Бажин, Альбов, А. К. Шеллер-Михайлов, И. В. Омулевский). Сам Альбов очень точно определил причину столь сурового отзыва: Авдеев «был вообще против начавшегося уныния в тогдашней литературе, интереса к серой обыденщине и мелким людям». Но связь «Пшеницыных» с демократической литературой 1860-х годов, прежде всего — с беллетристикой журнала «Дело», Авдеев уловил верно.
Авдеев отметил и еще одну особенность «Пшеницыных» — «растянутость» романа. На нее обратил внимание и М. Б. Салтыков-Щедрин. Альбов отнес роман в «Отечественные записки», и Салтыков, прочитав рукопись, сказал автору: «Предмет интересен, но длинноты нестерпимые». Альбов не последовал совету сократить текст, и «Пшеницыны» вскоре были опубликованы в журнале «Дело», впрочем, тоже «с некоторыми сокращениями». Как справедливо указал А. П. Могилянский, подобная «настойчивость молодого писателя» знаменательна: «... важные для описания однообразной жизни городского мещанства мелочи и даже повторения писатель отстаивает в качестве существенной стороны своей литературной программы».
То, что «Пшеницыны» появились в «Деле», тоже показательно. Журнал последовательно отстаивал мысль о том, что литература должна правдиво рассказывать о фактах современной жизни, исследовать эти факты и тем самым выносить верные суждения об актуальных общественных вопросах. Роман Альбова был воспринят в «Деле» как произведение, в котором обстоятельно исследованы общественные причины, порождающие трагедию «бедных людей» (редактор беллетристического отдела Шеллер-Михайлов дал роману подзаголовок: «Из истории забитых людей»), а следовательно — как произведение, отвечающее программе журнала. В «Деле» впоследствии будут напечатаны многие произведения писателя.
Ко времени появления в печати «Пшеницыных» Альбов был уже студентом юридического факультета Петербургского университета. Окончил он его, однако, лишь в 1879 году. В апреле 1877 года Россия объявила войну Турции, и Альбов, прослушав краткий курс первой помощи раненым, с лета 1877 года по весну 1878 года находился в качестве брата милосердия в Дунайской армии. Он стал участником того широкого добровольческого движения, которое захватило русское общество во время русско-турецкой войны. Но заметных следов в творчестве писателя этот период его жизни не оставил. Не сыграл он особой роли и в духовной биографии Альбова. Война не приобщила его к тем «больным» вопросам общественной жизни, которыми терзался, например, Гаршин. Впоследствии Альбов рассказывал И. И. Ясинскому, что «особых впечатлений он с войны не вынес». Вот характерные строки из письма Альбова к Баранцевичу от 23 октября 1877 года: «Сидит во мне, глубоко и назойливо сидит, какой-то проклятый червь, которого никакими способами не выкуришь! Господи, боже мой! Посмотришь на всех, кто окружает тебя: все-то довольны, все-то делают свое дело и в ус себе не дуют — ты один ходишь как тень какая и только смущаешь напрасно чужое благодушие...» Альбов остался на войне тем же одиноким человеком, каким он сформировался в конце 60-х годов.
Окончание университета тоже не повлияло на дальнейшую судьбу Альбова: он впоследствии никак не воспользовался своим юридическим образованием и лишь короткое время, в 1886-1887 годах, служил в Ревеле при эстляндском акцизном управлении. Интересы Альбова были целиком сосредоточены на литературе.
Альбов вспоминал, что суровый отзыв Авдеева о «Пшеницыных» «поверг» его «в полное отчаяние» и он потерял на время уверенность в своем литературном призвании. «Может быть, я бы так и застыл, — писал он Венгерову, — если бы не встреча с одним человеком... Я говорю про Нельсона, которого Вы, вероятно, несколько помните. Его дорогое, сердечное слово сделало то, на что были бы бессильны всякие убеждения, доказательства, встряхивания. Благодаря только ему, его влиянию, одобрению, советам, я не погиб окончательно. Хорошо или плохо, но я все-таки пишу — и, опять-таки повторяю, благодаря только ему! Это была редкая, светлая личность, непонятая никем из его окружающих, непонятая даже и мной, в тогдашнее время, несмотря на всю нашу близость». Речь идет о Н. А. Нельсоне, второстепенном писателе, в начале 60-х годов поместившем в юмористическом журнале «Заноза» серию очерков «Картины из московской жизни», впоследствии — сотруднике «Дела», «Русской речи» и «Русской газеты». «Под влиянием» Нельсона была написана повесть «День итога» (1879), которая принесла Альбову известность. «Каждая написанная мною страничка неукоснительно ему читалась, обсуждалась самым обстоятельным образом и переделывалась сообразно его указаниям. Начало было написано до русско-турецкой войны. Дальнейший план сложился в период службы моей в Красном Кресте, и совершенно закончено в течение лета и осени, по возвращении в Россию».
«День итога» был опубликован в журнале «Слово». Первоначально повесть была отвергнута А. А. Жемчужниковым, но И. И. Ясинский, принявший от него заведование редакцией журнала, нашел, что «День итога» — одно из «замечательных произведений». Он прочел повесть кружку литераторов (среди них был, например, С. А. Венгеров), она произвела «впечатление потрясающее» и была напечатана. Вскоре Альбов принял самое активное участие в редакционных делах этого демократического журнала. «Альбову за редактора подписываться больше не позволяют, а редактором не утверждают, и книжка (майская) лежит в типографии две недели», — сообщал. Н. В. Шелгунов в письме к Е. Ардовой-Апрелевой от 11 июня 1881 года.
С. А. Венгеров справедливо отмечал, что в «Дне итога» «впервые сказался широкий размах» таланта Альбова. Повесть установила за ним репутацию подражателя Достоевского, но это мнение «совершенно несправедливо и дает ложное представление об источниках творчества нашего беллетриста». Достоевский исключителен, продолжал Венгеров, и «не создал школы», ибо «в ней очень трудно учиться» и «нужны совсем особые, редко попадающиеся способности, чтобы преуспеть в ней». «Нет, Альбов не подражает Достоевскому. Он только пишет в том же самом роде, потому что душевный мир, стоящий на границе психологии и психиатрии, ему вполне понятен. Он здесь у себя дома и подмечает такие изгибы, которые совершенно недоступны обычной художественной наблюдательности».
Альбов сам дал повод к таким суждениям. Подзаголовок «психиатрический этюд» как будто прямо относил читателя к произведениям Достоевского, тем более что некоторые страницы повести своей психологической манерой и даже стилистически напоминали «Записки из подполья» или «Преступление и наказание». И все же Альбов действительно не был подражателем. Он привнес в манеру Достоевского свой элемент, тот, который необходим для разработки собственной проблематики, весьма отличной от круга идей Достоевского.
Герой «Дня итога» — самолюбивый, одинокий, своего рода «подпольный» человек, которого «заела» рефлексия. Он беспощадно анализирует свою жизнь и, подводя ей итоги, как бы переживая ее заново, решает покончить самоубийством. Это решение не мотивировано каким-то особым стечением обстоятельств или событий. Пессимизм и метания Глазкова, его социальное одиночество и «безмолвная, ожесточенная, самолюбивая и самоуслаждающаяся грызня», самая логика его мысли рождены эпохой. Герою «Дня итога» недоставало сил, чтобы сделаться полезным, ему помешало обостренное самолюбие, замкнутость, эгоизм, он был безволен и всегда «только бессознательно, слепо покорялся какой-то неведомой, непонятной, от него независимой силе, которая вела и теперь ведет его неуклонно к одной, для него в свое время невидимой цели». Самоубийство его имеет своим источником тот же психологический комплекс, который отличает и героя гаршинской «Ночи», с той лишь разницей, что «Альбов ограничился показом гибельности социального одиночества, Гаршин наметил путь активного выхода из него». Его герой «приходит к выводу о необходимости жить и служить „общему горю"».
«День итога» не случайно понравился Гаршину. Он писал: «Дурак Буренин говорит, что это Достоевский, разыгранный как „Фрейшиц, перстами робких учениц", но это по-моему чистое вранье. Некоторая неловкость изложения есть, это правда, но по-моему такой ясности и точности анализа у Достоевского не было». Гаршин обратил внимание на существенную сторону стиля Альбова.
«День итога» — внутренний монолог героя, который вскрывает трагедию одинокой личности, через страдание пришедшей к мысли о самоубийстве. Эта личность подчеркнуто субъективна, но не знает компромиссов, беспощадна к себе и потому приходит к крайним выводам. Не философия страдания, как у Достоевского, а страдание конкретное, реальное, взятое в момент наивысшего душевного напряжения человека и «ясно», «точно» проанализированное автором, — вот что должно было импонировать Гаршину. В этом смысле «День итога» соответствовал принципам его реализма.
Но любопытно, что те же самые черты литературной манеры Альбова, которые выделил Гаршин и которые он счел за достоинство «Дня итога», были отрицательно оценены Короленко. В неоконченной статье о «Повестях и рассказах» Альбова он отмечает, что «День итога» — произведение «верное действительности», но в то же время оно «совершенно выходит из сферы художественности». Альбов — «лирик пессимизма и отчаяния», его произведения отличает «мрачный лиризм разлагающейся и больной души», и это делает их несоответствующими высоким требованиям к искусству: «Тут уже художник не отражает, не изображает, а пишет скорбный лист собственной души, не поучает, а заражает читателя».
Короленко полагал, что одна беспощадная правда, только «верность действительности» не способна создать истинное произведение искусства. Искусство должно подниматься над жизнью, заставлять верить и надеяться, будить общественную активность, говорить о героическом, о «возможной реальности». «Эстетические требования от художественного произведения, — писал он, — в сущности сводятся на требования элементов оздоровляющих, укрепляющих душу, подвигающих ее к положительному действию, так же, как эстетика телесных форм требует здоровья, силы и грации...» Этого-то и нет в правдивых сочинениях Альбова. Ограниченные кругом беспощадной правды жизни, они ведут к пессимизму, «заражают» читателя этим пессимизмом.
С такими требованиями Короленко подходил и к творчеству Гаршина: его смерть явилась прямым следствием пессимизма, все усиливавшегося под воздействием впечатлений от жизни и «безотрадных размышлений» о ней. Гаршин был «яркий, жизненный талант», чуткий к самой жизни и ее больным, «проклятым» вопросам, но его сгубило «смертельно-мрачное мировоззрение». Если сравнить оценки, данные Короленко Альбову и Гаршину, то окажется, что разница между ними лишь в большей или меньшей субъективности тона. Короленко невольно обнаружил, что грань, отделяющая одного писателя от другого, весьма зыбка. Хотя эта грань безусловно есть.
Впоследствии Короленко несколько смягчит свои оценки Гаршина и сделает вывод о том, что «Гаршин разделял со своим поколением нерасположение к пессимистическим обобщениям», что «в произведениях Гаршина основные мотивы этого времени приобрели ту художественную и психологическую законченность, которая обеспечивает им долгое существование в литературе». Действительно, Гаршин, а не Альбов стал выразителем главных тенденций и настроений эпохи: отмеченная Короленко резкая субъективность «Дня итога» Альбова означает и то, что в произведениях этого писателя жизненные проблемы отступают на второй план, а в центре оказывается сама «разлагающаяся и больная душа» человека отчаявшегося, который закономерно приходил к «последним выводам законченного пессимизма».
Впрочем, в этом пессимизме героя «Дня итога» тоже отразились характерные настроения эпохи. Одинокий, видящий мелочность интересов окружающей среды и не находящий отзвука в ней, он может быть назван, по мысли С. А. Венгерова, «лишним человеком» 1870-х годов. «Это уже не тихая, безнадежная меланхолия человека сороковых годов, совершенно отчаявшегося в том, что когда-нибудь мрак рассеется, это уже была не приниженная готовность признать себя побежденным силами тьмы. Приниженность заменило гордое презрение к окружающему мраку и гордая уверенность в своей предстоящей победе...» В этом смысле в герое «Дня итога» отразилась «одна из ярких черт психологии тех дней». Венгеров даже полагал, что «в портретной галерее лиц, созданных русским романом, Глазков непременно должен иметь свое место».
Но в «Дне итога» нашла свое выражение лишь одна линия творчества Альбова. В начале 1890-х годов, когда имя писателя уже было хорошо известно русскому читателю, А. М. Скабичевский выделил в его литературном наследии две относительно самостоятельные тенденции — «субъективно-рефлекторный элемент», который наиболее полно проявился в «Дне итога», и «элемент чисто объективный», несущий на себе следы манеры «протоколизма французских натуралистов». Наиболее известным из произведений второй группы была «хроника» «Конец Неведомой улицы» (1881-1882). Это история жизни Егора Бергамотова, сына прачки и вольноотпущенного дворового человека, отданного в учение к портному. Предприимчивая и прижимистая дочка хозяина женила его на себе и полностью поработила его волю. Робкие попытки Егора выбиться из-под супружеской опеки, протест, выражавшийся в беспробудном пьянстве и скандалах, бегство из дома и шатание по Петербургу, окончившееся смертельным запоем и поджогом дома, — все это и составляет сюжет произведения, разворачивающийся на широком фоне жизни Неведомой улицы — захолустной окраины Петербурга. Закостеневший провинциальный мир, далекий от территориально близкого к нему центра русской столицы, определяет судьбу Бергамотова. Изменить этот мир нельзя, как нельзя изменить и жизнь его обитателей; его можно лишь уничтожить, хотя это уничтожение в сущности ничего не изменит: Неведомую улицу поглотит поток «цивилизации» и «культуры» и она станет неотъемлемой частью петербургской жизни с ее каменными домами, газовыми фонарями и городовыми.
Безрадостен итог и другого произведения Альбова, написанного в «объективной» манере, — дилогии «О людях, взыскующих града» (1879-1881). Это две повести о воспитании и о важности человеческого сердечного общения.
В первой части дилогии, «Воспитание Лельки», рассказана история одинокой сироты, «бедной, оскорбленной, гонимой всеми малютки, уже испытавшей злобу людей». Лелька из милости живет в доме дальних родственников. Она терпит обиды, озлобляется и отчуждается от людей. Ее душа грубеет, хотя в ней и живет еще потребность любви. После жестокого наказания за шалость Лелька убегает из дома. Случай помог девочке: разочарованная эгоистка Елизавета Аркадьевна Ремнищева берет ее к себе.
История самой Елизаветы Аркадьевны — содержание второй части дилогии «Сутки на лоне природы». В этой истории было многое: «падение», проклятие отца и замужество, чтобы покрыть «позор», метания, разочарования, раскаяния, желание «обновления», «хмельной угар» любви и охлаждение. Но невозможна борьба «против законных инстинктов природы, заявлявших права свои, которых не в силах заглушить ни предписания морали, ни строгая нравственность, ни сознание долга». Это трагический бунт человеческой натуры. «Спасение» для своей героини Альбов находит только тогда, когда «сольются» воедино души двух несчастных людей: «одна изнеженной, утопающей в роскоши, но измученной в поисках счастия барыни, другая — этой грязной и бедной уличной замарашки-ребенка».
В дилогии Альбова последовательно проводится мысль о хрупкости человеческой жизни. Враждебный человеку мир способствует развитию нездоровых инстинктов; в нем есть доброта, стремление к счастью, но хорошие человеческие чувства и побуждения — удел одиноких и несчастных людей; они «взыскуют града», но испытывают на себе удары судьбы и неумолимость страшных законов природы и жизни. Спасает человека соединение, взаимопомощь, «родство душ», которое поможет ему удержаться на краю гибели, как оно помогло Лельке и Елизавете Аркадьевне.
«Конец Неведомой улицы» и «О людях, „взыскующих града"» действительно отличаются от «Дня итога». С. А. Венгеров считал, что благодаря этим произведениям Альбов «является одним из немногих представителей у нас жанра в прямом смысле этого слова»: «Здесь главное не изображение горя и тягот мещанской жизни, à Stilleben, то, что составляет особенность живописи мастеров фламандской школы». Это мнение впоследствии оспорил К. И. Чуковский. «Он вовсе не жанрист, — писал критик, — как принято говорить о нем, — а большой и тонкий психолог». Чуковский признавал, что ряд произведений Альбова, в том числе и «Конец Неведомой улицы», — «шедевры жанровой живописи — в них столько юмора и такое богатство метко схваченных черточек быта». Но «пафос Альбова вовсе не в этом. Он если и подходит к серому человеку, то только тогда, когда этот серый возненавидит свою серость и свою мелкость и возжаждет какой-то злости, бури, огня — т. е. когда он вовсе не серый. Не застылое, а бурное всегда тайно манило М. Н. Альбова, не Stilleben, a Sturm und Drang, — пусть и смешной, пусть и жалкий, — но бунт. Когда все идет вверх тормашками, сгорает, и начинается какая-то новая даль». Ту же мысль Чуковский развивал в статье, помещенной в приложении к журналу «Нива».
Она критика были по-своему правы. Венгеров обратил внимание на различия «Дня итога» и «Конца Неведомой улицы» и точно определил их характер. Чуковский, признавая эти отличия, настаивал на единстве идейных и творческих устремлений автора. Оно действительно было, и потому обе идейно-стилистические тенденции, обозначившиеся в творчестве Альбова в начале 1880-х годов, могли органично сливаться. Пример тому — роман из жизни духовенства «Ряса», опубликованный в 1883 году. Перед самым выходом из Петербургской духовной академии Петр Елеонский решил бросить духовную карьеру и жить независимо, но, полюбив дочь священника, все же принял духовный сан. Однако умирает жена, и отец Петр, священник скромной кладбищенской церкви на окраине столицы, остается одиноким человеком. Сомнения, колебания и раздумья героя изображены с той же тщательностью психологического и психиатрического анализа, которой отличался «День итога». Как и в прежней повести, поступки, вытекающие из таких раздумий, кажутся немотивированными. Но эта немотивированность намеренная: герой «Рясы» сознает, что имеет право на счастье, но не может его достичь; его окружают люди, с которыми он не находит взаимопонимания, он живет в среде, которая близка ему от рождения, но которая чужда ему; когда счастье он обретает, какие-то роковые силы вторгаются в его жизнь. Весь этот круг идей входит в роман потому, что внутренний мир героя показан на широком фоне будничного бытия русского духовенства, в той манере, которую Венгеров назвал «жанром».
Н. К. Михайловский в рецензии на сборники повестей и рассказов Альбова и К. С. Баранцевича писал: «Для обоих писателей, очевидно, одна и та же сторона жизни мрачною тенью ложится на все, к чему они прикасаются пером: одиночество, при наличности каких-то тяжелых, ненужных уз: Благодарная тема, и я не буду предлагать молодым беллетристам сойти с избранного ими пути. Это, действительно, одно из самых больных мест нашей современной жизни. Не добро быти человеку єдину, это давно сказано, но еще хуже быть человеку єдину, когда он в то же время связан». Михайловский имел в виду «День итога», «Конец Неведомой улицы» и дилогию «О людях, „взыскующих града"». Но эти слова в полной мере справедливы и в отношении «Рясы».
11 (23) сентября 1881 года Щедрин писал Михайловскому: «Говорят, что Альбов хорошо пишет. Я ничего не читал, но хвалят. Нельзя ли его привлечь в „Отечественные записки". Коропчевский говорил мне... что он готовит большую повесть». Эти слова — свидетельство популярности Альбова. К середине 1880-х годов он уже известный писатель, обладающий своим взглядом на мир и своей художественной системой. У него свой круг читателей, свои поклонники и противники. Оценки творчества Альбова исходят из уже обозначившихся в критике суждений; одно из наиболее устойчивых — мысль о зависимости автора «Дня итога» от Достоевского. Эту мысль подробно развил Михайловский в рецензии на сборник повестей и рассказов писателя, ее повторил и Щедрин несколько лет спустя в письме к М. М. Стасюлевичу от 6 января 1885 года, отметив, что Альбов «имеет громадный недостаток быть подражателем Достоевского». Щедрин обсуждал со Стасюлевичем редакционные дела «Вестника Европы», и эти слова — его реакция на намерение Стасюлевича опубликовать в журнале повесть Альбова «Филипп Филиппыч». Стасюлевич, видимо, не согласился со Щедриным, и повесть Альбова была опубликована.
Основания не согласиться с мнением о подражательности Альбова у Стасюлевича были.
В повести «Филипп Филиппыч» рассказана типичная для Альбова история одинокого человека, отставного учителя русской словесности, живущего в глухом провинциальном городе. Ни в Петербурге, где он учился, ни в Пыльске, где он учительствовал, Филипп Караваев не нашел связей с жизнью. Кажется, что «он счастлив своим личным покоем, книгами и полной ни от кого независимостью», но ему знакомы «приливы глубокой и безысходной тоски одиночества». Они неумолимо свидетельствуют о том, что жизнь его кончена, что он «старый байбак», несущий в своей душе невоплощенную мечту о прекрасном, об идеале, о котором постоянно напоминает ему красота природы и великие творения писателей. Герой повести замкнут в узкой сфере обыденщины, но преодолевает ее. «... Здесь, в этом „подпольном байронизме", в этом микроскопическом бунте микроскопических людей есть та особая примета Альбова, с которой он навсегда перейдет в историю русской общественности». Та тоска по идеалу, которую сочувствовали в произведениях Альбова многие читатели, в повести «Филипп Филиппыч» становится главным содержанием духовной жизни героя.
[…]
С середины 80-х годов Альбов предпринимает попытку объединения своих стилистически разнородных произведений. Повесть «Филипп Филиппыч» была первой в ряду задуманных писателем повестей и рассказов под общим названием «Силуэты». Подзаголовок «Силуэты» носит и повесть «Фауст и Маргарита». Впоследствии Альбов включил «Филиппа Филиппыча» в сборник «На точке» (СПб., 1888), объединив его с повестью «О том, как горели дрова». В свою очередь эта повесть должна была войти в книгу под названием «О людях, „взыскующих града"»; в нее кроме упоминавшейся дилогии («Воспитание Лельки» и «Сутки на лоне природы») Альбов включил повесть «В потемках». Завершится этот процесс созданием трилогии «День да ночь». Альбов явно ощущал идейно-тематическое единство своего творчества и объединением сюжетно разнородных произведений хотел подчеркнуть типичность изображенных им героев, повторяемость жизненных ситуаций и известную универсальность чувства одиночества и тоски в жизни современного человека. Так, повесть «О том, как горели дрова» (1887) развивает круг идей, намеченных в «Дне итога»: безверие и эгоизм героя делают его жизнь бесполезной; он признает себя неспособным ни к обычному человеческому счастью, ни к служению «общему делу»; для него тоже наступает свой «день итога», и он, переживая заново свою жизнь, стреляется. Герой повести «В потемках» (1886) — социалист. Он был осужден, теперь выпущен на свободу и приходит сказать своей матери, что надолго уезжает. Нет сомнения, что он будет продолжать свою деятельность. Альбов пояснил, что «самое „что-то“, к коему готовится выведенное в отрывке лицо, „страха ради цензорска", обвито туманом таинственности». Однако повесть написана не ради прославления стойкости революционеров. Ее герой тоже должен покончить жизнь самоубийством, и этим, по логике Альбова, он близок герою повести «О том, как горели дрова». «... Оба героя — два духовных между собой близнеца, даже, если хотите — одно и то же лицо, как один из распространеннейших типов тогдашней „эпохи безвременья", изображение коего и было главнейшею задачей в замыслах автора». Один герой хочет начать новую жизнь и приходит к мысли о самоубийстве; другой служит «общему делу» и кончает тем же. Прав был А. А. Измайлов: «Его (Альбова, — А. М.) фигуры — типичные фигуры печальной реакционной эпохи, притуплявшей общественные идеалы и превращавшей живых людей в унылых сирот, не дерзавших не только на борьбу за идейное дело, но даже на личное счастье, на захват женщины, на строительство семьи». Эти слова нуждаются, может быть, только в одном уточнении: даже тогда, когда герой Альбова дерзает на «борьбу за идейное дело», он остается человеком несчастным, ибо не может преодолеть социального одиночества. Это характерная черта психологии русской интеллигенции 80-х годов.
Герои Альбова замкнуты в относительно узкой сфере личной жизни. Все, что связано с общественной жизнью России, даже с хроникой петербургской жизни, оказывается для них чем-то внешним, посторонним второстепенным по сравнению с их собственными сомнениями, терзаниями и печалями. Не случайно Альбову не удавались произведения в публицистическом или фельетонном роде. Яркий пример тому — роман «Вавилонская башня» (и продолжение его — «Таинственный незнакомец»), печатавшийся в 1886 году в воскресных номерах газеты «Новости». В этом романе «в комическом виде фигурируют под прозрачными псевдонимами деятели существовавшего в Петербурге в начале 80-х годов „Пушкинского кружка" — разного рода литературная мелкота, вообразившая себя заправскими писателями». Альбов сам вскоре признал, что ему не следовало браться за такое дело.
«Тон у нас совершенно не выдержан, — писал он 28 сентября 1886 года своему соавтору Баранцевичу, — то шутовство, то серьез, то реторика, сентиментальность. Нечего и говорить уже про то, что нет и помину о каком-либо плане: дисгармония и нестройность полнейшие!» Неудача с юмористическим романом по-своему показательна для характеристики литературного дарования Альбова. Публицистика и фельетон требовали более широкого, более свободного отношения к миру и жизни, отношения, которое выводило бы героя из его одиночества в сферу общественную. Но такой возможности герои Альбова по существу лишены. Они живут вне «злобы дня» даже тогда, когда писатель повествует о людях «идейных».
Автор ставит себя в положение бытописателя таких людей, впрочем, не безразличного. Он сопричастен духовному миру своих героев, хотя и «отстранен» от них. Его интересует не столько то, что происходит, сколько то, как реагируют на происходящее все они. Он психоаналитик, подвергающий их жизнь детальному анализу и изображающий события через призму сознания всех героев, в них участвующих. В этом смысле Альбов и говорит, что он «ничего не выдумывает». При этом логика самих событий, по убеждению автора, предопределена законами, познать и понять которые оп не может. «Он не может сказать, чем каждый из них (героев, — А. М.) должен кончить, ибо не предрешает событий, а лишь наблюдает, как они, эти события, сами слагаются, помимо его авторской воли, и потому в его работе отсутствует то, что называют сюжетом, в смысле наперед определенного плана». Сюжет слагается из совокупности эпизодов в жизни каждого из героев.
Она «совсем не отличается быстрой сменой новых явлений, но изобилует монотонным повторением одних и тех же событий». Когда случай вмешивается в их жизнь, люди, ничего не знавшие друг о друге, могут быть вовлечены в общее событие. Тогда обособленные «группы» героев становятся «одной человеческой группой». Это, по Альбову, закономерно. Почти не связанные друг с другом, герои трилогии объединяются принадлежностью к категории людей маленьких и одиноких. Они отъединены от общей жизни и друг от друга, замкнуты в пределах своего обособленного и обыденного мира, в одинаковой мере испытывают на себе действие всеобщих законов бытия, страдают и не знают, как изменить свою жизнь. Но случай ставит их в связь друг с другом, их социально-психологическая общность обнаруживается, и это когда-нибудь поможет им разорвать круг одиночества. Так перекрестились жизненные пути Глафиры и Равальяка; по замыслу автора, и Елкин, «скользнувший раньше мимолетной тенью» в «Тоске» и «Глафириной тайне» (он покупает табак в лавке Хороводовой), должен «силой вещей сыграть немалую роль» в дальнейшей судьбе Глафиры и ее сестры.
Герои и сюжеты большинства произведений Альбова специфически петербургские. И сам он — «дитя Петербурга», писатель, которому были созвучны настроения, мечты и страхи жителей петербургских окраин. Вне Петербурга Альбов чувствовал себя как-то неуютно, хотя климат русской столицы был губителен для его здоровья (Альбов был болен чахоткой). Характерное свидетельство тому — творческая история трилогии «День да ночь». Первую ее часть Альбов завершил в 1893 году, а в 1894 году, по предложению доктора Е. В. Святловского, переселился в Полтаву. На юге он прожил несколько лет (с 1897 года в Екатеринославле), но именно этот период в жизни Альбова оказался наименее продуктивным. Прекращается и работа над трилогией. Лишь возвращение в Петербург стимулирует творчество писателя: в начале XX века он задумывает и осуществляет ряд новых произведений, а главное — довольно быстро заканчивает работу над второй и третьей частью трилогии.
Впрочем, их появление критика встретила довольно равнодушно. Альбов для начала XX века явно устарел, и сам ощущал это. В уже цитировавшемся предисловии к трилогии «День да ночь» он писал: «Автор, с нелицемерным смирением, должен сознаться в своей полной отсталости от современных течений». Он действительно остался все тем же «певцом интеллигентного бобыля, одиночества, сиротства, тоски людей большого города, оторванных от живого общественного дела», каким он заявил о себе в «Дне итога». В начале XX века Альбов был выразителем идей и настроений уже отошедшей в прошлое эпохи 80-х годов и совершенно закономерно оказался вне литературной борьбы нового времени. Почти демонстративная приверженность Альбова к этим идеям и настроениям обнаружилась особенно наглядно тогда, когда он пытался откликнуться на актуальные идейно-эстетические движения времени. Полемизируя с «Крейцеровой сонатой» Л. Толстого, Альбов пишет «роман на старый лад» «Хитрый план Мамаева» (1899). В повести «Превыше мира и страстей» рассказывается о человеке, который сохраняет чистоту души и спокойствие в лихорадочном и суетящемся мире; он счастлив «сознанием, что для человечества это абсолютно не нужно, — и всех одинаково любит». Характерно, что эта «повесть из недавних лет» начинается с полемики против «новейшей формации романистов», напрасно отказывающихся от «усвоенных литературой приемов».
Герой этого произведения напоминает Филиппа Филиппыча Караваева, идеального героя ранней одноименной повести Альбова, а в «драматическом этюде» «Поэт» Караваев, этот «старый вымирающий тип идеалиста», «чистейший провинциальный антик, каких теперь немного найдешь», вновь становится героем. Его идеализм и благородство Альбов на сей раз противопоставляет фальшивости декадентства.
Альбов не принял нового искусства. Но он явно его подготавливал. Не случайно близкой ему по теме и даже настроению оказалась «Яма» Куприна. «... Он целыми часами рассказывал мне, — вспоминал К. И. Чуковский, — какую „Яму“ хотел он написать лет 20 тому назад». Такой сюжет органичен для Альбова, и нет ничего удивительного в том, что Чуковского «богатый замысел» писателя поразил «обилием красок».
Альбов — не предшественник литературы XX века, а одна из ее «предтеч», как справедливо заметил Амфитеатров.
Он предугадал некоторые черты типов, ситуации, психологические положения, которые будет развивать литература XX столетия. Об этом свидетельствует и его опубликованная посмертно повесть «Ночная жуть». В ней нет сюжета. Автор как бы вводит нас в странный мир ощущений, вызванных полубессознательными переживаниями томимого бессонницей человека: лихорадочные догадки о случайно встреченных людях, о жизни соседей, о тех, кто жил в этом доме когда-то; воспоминания об умершей жене и об оскорблении, которое он ей нанес, перерастающие в страшную фантасмагорию; ощущение реальности галлюцинаций и сновидений, их «осязательность» и рядом — попытки осмыслить и объяснить всю эту «ночную жуть». Повесть Альбова соотносима с идейно-художественными концепциями 70-80-х годов и с литературой начала XX века, но она органична для творчества писателя. Герой ее — все тот же одинокий петербургский житель. «...Тут имеются страницы в полном смысле великолепные, в альбовском духе, с замечательной реалистической отделкой деталей, которые, как живые и наглядные, выступают с нарисованного полотна», — таково было безошибочное впечатление К. И. Чуковского, слышавшего «Ночную жуть» в чтении автора и рассказавшего о ней на похоронах писателя.
Альбов умер 12 июня 1911 года забытым писателем. «... Грустно, что все последние годы Альбов был уже как бы умершим, — писал А. А. Тихонов Баранцевичу 13 июня 1911 года. — Писатель гораздо более значительный, чем так легко и легкомысленно рекламируемые в наше время „молодые", захвативши» базары, площади и улицы, он слишком рано ушел в свою хату, от солнца жизни, в тень и темноту, и умер в тени и в тиши. Я любил его как писателя еще задолго до знакомства с ним лично к. не говоря уже о других его произведениях, помню, что его „Конец Неведомой улицы" я читал с эстетическим наслаждением, как произведение скорбящего юмора, тогда как все современны» изображения „ям", потрафляющие инстинктам автора и только, мне только противны». В этих словах есть, может быть, доля преувеличения, но гораздо больше истины. В том, что Альбов оказался забыт, была своя логика. Он был писателем одной темы и одного героя. «Альбов в сущности только и делал, что ставил его в различнейшие положения, наряжал в различнейшие одежды». Актуальный для 1880-х годов, этот герой и эта тема оказались для XX века несовременными и «старомодными». Почему Альбов был забыт — объяснимо, но исторически несправедливо. Это почувствовали почти все критики уже в год смерти писателя. Его роль в истории русской литературы скромна, но по-своему и значительна.
При жизни Альбова о нем часто писали как о маленьком Достоевском и писателе-натуралисте; в современном литературоведении он рассматривается как один из писателей «чеховской поры», которые были неспособны даже приблизиться к их великому современнику. Но ни то, ни другое мнение нельзя признать верным. Альбов явился прямым наследником писателей-демократов 1860-х годов и Достоевского, он стал современником Гаршина, близким ему многими мотивами своего творчества, но оригинальным. Отсюда его влияние. «Он, действительно, влиял, — писал Амфитеатров. — Перечитывая его произведения, с изумлением видишь, сколько его забытых образов и слов перешло, тем бессознательным, органическим усвоением, которое определяет литературную эпоху, к Потапенке, Чехову, Горькому, как много андреевского сказано им раньше Андреева... В трех строках „Суток на лоне природы" мне вдруг осветилось воскрешающим отражением давно забытое происхождение первого моего беллетристического дебюта, повести „Отравленная совесть". Думаю, что многие писатели-ровесники, возобновляя в памяти альбовскую литературу, испытают то же самое. Альбов не был для нас „властителем дум", но товарищем дум — несомненно. Без него было нельзя». К. И. Чуковский, в свою очередь, проницательно отметил, что Альбов — психолог, «исследующий во всех своих романах одну специальную, чрезвычайно его интересующую сторону человеческой души, один специальный строй ее переживаний и достигший в этой области очень ценных, незабываемых художественных результатов»: «Психологическая область Альбова — это исследование духовной трагедии маленьких, незаметных людей, заключающейся в разладе между крошечным, дряблым сердцем и огромным, великим чувством, порой наполняющим его», это «бунт отчаявшегося бессилия» и «трагедия великого чувства в ничтожной душе». Этой стороной своего творчества Альбов был близок писателям начала XX века.
Он был бытописателем, но особым. Подробное воспроизведение жизни маленьких людей было нужно ему для того, чтобы понять, чем вызвано настроение и сумеречное состояние души такого героя. В итоге реальный мир вещей и обстановки, окружающий человека, преобразуется воспринимающим сознанием и «самая действительность воспринимается как сон и путается со снами и галлюцинациями». Здесь Альбов «в своей стихии, и ему словно легче, когда стираются в сознании четкие грани жизненных явлений, распадаются звенья их причинной зависимости, и бессвязные образы, заимствованные душою из внешнего мира, окрашиваются в фантастические краски вырвавшейся на свободу мечты». Л. Я. Гуревич, которой принадлежат эти слова, тоже воспринимала творчество Альбова сквозь призму литературных вкусов XX века. Но тем самым она лишь резче подчеркнула то, что в рассказах, повестях и романах полузабытого писателя оказалось созвучно новому литературному поколению.
Л-ра: Русская литература. – 1988. – № 4. – С. 120-134.
Критика