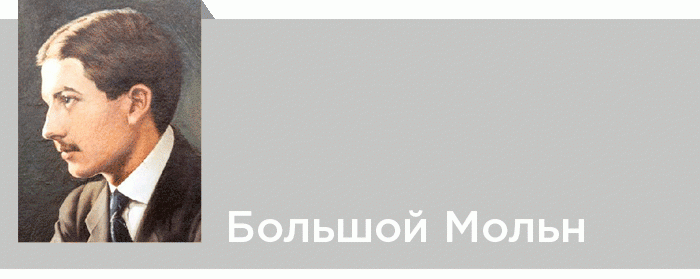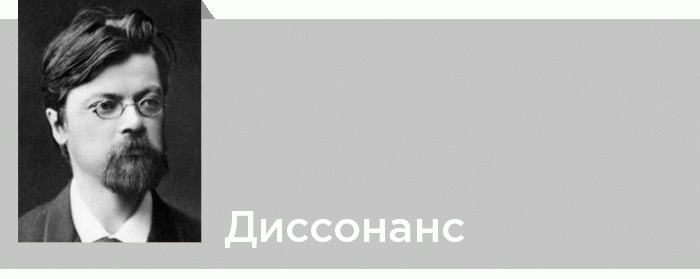Модификация одного литературного типа в творчестве М. Н. Альбова

Е. К. Созина
«Вечные» типы или «сверхтипы», по удачному выражению Л. М. Лотман, имеют в истории человеческого духа живую, не прекращающуюся жизнь. Воплощая в себе некоторые коренные свойства натуры человека, они несут их через века каждый раз в новой, исторически своеобразной оболочке, порой весьма значительно удаляясь от своего исходного прообраза.
Одним из таких сверхтипов мировой общественно-философской и художественной мысли является тип Гамлета в антитезе и неразлучной паре с образом Дон-Кихота. Немалую роль в вовлечении этих творений фантазии Возрождения в контекст размышлений по следующих поколений сыграла статья И. С. Тургенева «Гамлет и Дон-Кихот», закрепившая за ними в сознании людей XIX в. определенные психологические типы личности, комплексы душевных качеств и стереотипы поведения.
Характеру Гамлета особенно «повезло» в отношении разного рода истолкований и полемических переосмыслений. По указанию Ю. Д. Левина, его образ был наиболее значимым из всех героев мировой литературы для русской общественной жизни XIX столетия. Во второй половине века становится широкоупотребительным понятие «гамлетизм», обозначающее нравственно-психологический облик шекспировского типа в том виде, как его понимало новое поколение интерпретаторов бессмертной трагедии. Генетически исходной клеточкой гамлетизма явились присущие Гамлету, хотя и не единственные в нем, качества непрерывной рефлексии и вечного самоанализа сознания человека, подвергающего сомнению и критике на пути сопряжения своей индивидуальности с бытием мира, законами истории все привычные пути и способы действия. Сохраняя внутреннее ядро шекспировского образа, гамлетизм выступает своего рода проекцией борений духа датского принца на жизнь новых поколений. В каждый исторический период он наполняется новым смыслом в соответствии со своеобразием духовной атмосферы эпохи. Еще И. С. Тургенев и А. И. Герцен замечали, что особо пристальное внимание к Гамлету и всплески гамлетизма в общественном сознании наблюдались в «промежуточные эпохи», — и одним из таких этапов истории оказываются 1880-е гг. Зарождающиеся недрах политических «сумерек» тех лет новые общественные силы и течения мысли виделись далеко не всеми слоями российской интеллигенции, ощутившей исчерпанность прежних идеалов и в недоумении перед неясными историческими перспективами переживающей мучительное состояние хаоса, душевной дисгармонии.
Анализу концепций гамлетизма 80-х гг. посвящены многие работы современных литературоведов. В них отмечается, что в рассматриваемый период укрепляется традиция «видеть в Гамлете только выражение бессилия, пессимизма и никчемности, то есть творить по его образу и подобию людей 80-х годов». По словам другой исследовательницы, «амплитуда колебания русского гамлетизма уже в начале 80-х годов» была следующей: «от трагического героя, потерпевшего поражение борца — до подделки под Гамлета, пародии на Гамлета».
Однако до сих пор различные типы гамлетизма героев русской литературы этого времени, за исключением чеховского варианта, остаются не до конца прослеженными в науке, и в том числе гамлетизм, представленный в творчестве М. Н. Альбова. На гамлетический характер персонажей писателя впервые обратила внимание современная ему критика. А. М. Скабичевский писал о том что «гамлетический, рефлективный элемент играет большую роль с произведениях Альбова». Каково место гамлетовского комплекса альбовских героев в ряду других вариаций сверхтипа, насколько он удаляется или приближается к Гамлету Шекспира, своеобразному критерию при анализе гамлетизма, оставаясь в то же время в исторической данности своей культуры, — вот вопрос, интересующий нас в пределах статьи.
Первым представителем этого типа среди персонажей Альбова является П. П. Глазков, герой повести «День итога». В данном отношении мнение А. М. Скабичевского и С. А. Венгерова, рецензировавших произведения писателя в 80-е гг. и сопоставлявших Глазкова с Гамлетом, совпадает с утверждением советского литературоведа К. И. Ровды: «В рассказе М. Альбова «День итога» выведен герой, напоминающий Гамлета».
Альбов представляет нам Глазкова в последний день его жизни, в период острейшего внутреннего кризиса, но, используя принцип ретроспективного повествования, посвящает читателя в перипетия житейской и душевной драмы героя, приведшей его к печальному финалу. Когда-то он «подавал надежды» в сфере университетской науки — но сжег свое дипломное сочинение и бросил курс, недоучившись; когда-то был вхож в кружок студенческой молодежи, настроенной якобы революционно, — но увидел мизерность и прагматичность их устремлений и решительно порвал с ними. Был искренне увлечен — и с ответным чувством! — прелестной девушкой Варенькой Охотской, но, усомнившись в возможности личного счастья, не осмелился на объяснение и упустил свою «синюю птицу». Его безмерно любит бедная швея Катя Ершова (тип кроткого и безответного смирения), готовая ради него на любые жертвы, - он же бежит ее любви и преданности, в неистовой злобе на себя самого и на ее безупречную верность топчет это страдающее сердце. Одинокий и тоскующий, мечется он по улицам Петербурга, пока не находит свой конец в водах Невы.
Повесть «День итога» несет много прямых и скрытых реминисценций из произведений Ф. М. Достоевского, и гамлетизм ее главного героя оказывается тесно связанным с особенностями сюжета и образной системы в творчестве гениального вдохновителя Альбова. Автор сознательно дает соответствующую установку читательскому восприятию, предваряя повесть посвящением «Великой тени Достоевского» и подзаголовком «Психиатрический этюд»: герои Достоевского часто воспринимались современниками как люди, не вполне нормальные психически. Подобно его ведущим персонажам, Глазков занят разрешением поглощающей все его существо идеи — страсти, мучительные раздумья над которой порождают сложный психический феномен раздвоения сознания личности. Напряженность интеллектуальной драмы подчеркивается введением образа «двойника», выросшего из галлюцинаторных видений Глазкова и воплощающего неведомую силу, неподвластную человеческой воле и понуждающую его к самоубийству. Диалогом героя с «двойником» и открывается повесть, сразу погружая нас в недра расщепленного сознания, в глубины больной психики Глазкова. «Он покоряется с ненавистью и боится его, а — что самое главное — не смеет никому сказать про него. Эта тайна составляет центр его жизни», — узнаем мы о роли «двойника» в судьбе Глазкова.
Страстность и длительность мыслительных контроверз сближает Глазкова с Раскольниковым и Гамлетом, типами — символами величия и мучительности мысли человека в мировой литературе. Само построение повести нацелено на характеристику Глазкова как типа гамлетического: один день из жизни героя ставится автором в центр повествования, но какой день! Последний день его земного существования, подводящий «итоги» неудавшихся надежд бывшего петербургского студента, представляющий все «за» и «против» принимаемого решения покончить с собой. Дается полный психологический анализ данного идеологического типа, один день жизни высвечивает его с разных сторон. Подобно ситуации многих произведений Достоевского, душевное состояние альбовского героя «оценивается как психологический адекват определенной философской позиции».
Эта черта художественного метода писателя была отмечена в критике как превалирование «субъективно-рефлективного элемента» в его творчестве и вызвала несомненное осуждение Альбова поздненароднической и либеральной публицистикой за замыкание действия произведения в рамках «интеллигентского подполья». В рецензиях современников Альбова мы находим и неоднократные сопоставления его героя с гамлетическими характерами у Тургенева (главным образом — с Чулкатуриным) по линии их аналитического отношения к жизни, самоуничтожения и неудовлетворенности настоящим. Глазкову действительно присущи некоторые черты гамлетовского сверхтипа в традиции его толкования Тургеневым: «Анализ прежде всего и эгоизм, а потому безверье», скептическое отрицание наличных благ и идеалов, презрение к толпе и погруженность в себя. Но эти черты гамлетиста под пером Альбова обретают тона поэтики Достоевского и уходят далеко за пределы тургеневской «нормы» в описании душевной сумятицы героя. В ориентации на «изломы» и «надрывы» человеческой психики Альбов не только следует за Достоевским, но и пытается превзойти его (вспомним, что повесть имеет подзаголовок «Психиатрический этюд»). «Безмолвная, ожесточенная, самолюбивая и самоуслаждающаяся грызня» Глазкова не прекращается ни на минуту. Она задерживает любое его решительное действие, становится препятствием на пути к личному счастью. Сознавая ненужность размышлений в иной ситуации, Глазков тем не менее не может отойти от них, не в состоянии бороться с тем тайным «червячком», который живет внутри него и отравляет каждый миг существования. «В сущности, что же нужно взвешивать? Разве это какое-нибудь новое прибавление к пище его размышлений? Разве не все уже думано и передумано им в разное время, в тишине одиночества? - спрашивает он себя в связи с историей любви к Вареньке. — А между тем он знал, что так будет, что вот придет он к себе на квартиру, повалится на диван, и начнется опять расписанье себя, с разными мрачными мыслями...».
В процессе созревания «теории» Глазкова (о которой мы скажем чуть позже) рвутся все его связи с людьми, он сам сознает свою жизнь как «какое-то смутное метанье в пустыне». «Минутами ему даже казалось, что он сходит с ума...», но никаких вторжений извне в тот мир, который строился внутри его. Глазков не признает, с злобным негодованием отвергая заботу Кати Ершовой. Ее любовь возлагает на него бремя нравственной ответственности, которой он не желает принимать: «Она просто отдавалась ему целиком, раскрывая всю свою душу, и любовалась им и приникала к нему, как источнику, влившему в ее жизнь новые струи. Это он-то — источник!». Испытание любовью герой не выдерживает, подобно парадоксалисту «из подполья» у Достоевского, но не только по каким-либо идейным соображениям, а и в силу очевидной скудости и замкнутости его душевного мира. Глазков проявляет своеобразную «заботу» о Кате, перед смертью прося ее заплатить за него долг квартирной хозяйке: «Она и так бьется, как рыба об лед, еле сводит концы с концами, и вдруг новая обуза! Безнравственно ведь с моей стороны... А между тем я глубоко уверен, что, взвалив эту тяжесть на Катю, я не мог сделать ей лучшего подарка перед нашей разлукой...». Стоит ли говорить о том, сколь далек этот «благородный жест» Глазкова от бережного отношения к любимой женщине шекспировского Гамлета, даже прикрываемого налетом иронической грубости.
Презрение к людям — несчастным, слабым, «пьяненьким», отчужденность от их житейской суеты не покидает Глазкова во время его скитаний по улицам, гасит подымающееся было сочувствие к горю ближнего. «Ведь вот и эти живут!» — злобно подумал Глазков после одной из случайно увиденных им уличных сценок перед дверьми питейного заведения. Ему такой жизни не нужно, он чувствует себя безмерно выше этих людей.
Но не только в аналитичности натуры героя, в обращенности его внутрь себя кроется гамлетизм Глазкова, но и в самой его позиции, когда от решения им определенной философской дилеммы буквально зависят его жизнь и смерть. Как у Гамлета, терзания мысли Глазкова предшествуют его драматическому действию — финалу. Но — как для Раскольникова — «эксперимент и действие, «приключение» как моральное испытание и «иезуитское» рассечение гордиева узла» сплетаются для него воедино: самоубийство есть одновременно подтверждение и апробация теории Глазкова о «блаженстве поклониться себе» и итоговый поступок, разрешающий его мучительные колебания в диалоге с судьбой.
Самоубийство как возможный исход интеллектуальной драмы просвечивает в рассуждениях Гамлета (знаменитый монолог «Быть или не быть...»). По словам Ю. Д. Левина, «Для Достоевского сама тема самоубийства связывается с Гамлетом». Однако то, что явилось промежуточным пунктом размышлений Гамлета и Раскольникова, оказывается внутренним ядром моноидеи Глазкова, расщепляющей его сознание, предметом спора с полумистическим «двойником». Мысль Гамлета о человеке как «квинтэссенции праха» в ее вариации, близкой идее восстания против «стены» Ипполита Терентьева у Достоевского, терзает героя Альбова, ибо он сам — «аномалия, несоединимое сочетание стремлений орла с суммою сил божьей коровки» и, согласно закону природы, должен погибнуть. Об этом и вещает ему «двойник»: «Ты нарушаешь гармонию! Ты нарушаешь логический порядок вещей! Коль скоро у тебя явилось сознание этого, ты должен знать свое место, обязан сделать поправку в ошибке природы... Повинуйся же тому, что велит тебе честность! Ведь этим ты исполняешь закон. Вот в чем твоя гордость, в чем своя сила...». Тем самым ситуация Гамлета, да и Раскольникова, оказывается изначально сниженной: задача Глазкова и пункт его мучений — не в восстановлении распавшейся связи времен, а всего лишь в поправке «ошибки природы», в уничтожении себя как «аномалии», уродующей рациональную гармонию космоса. Словно сама титаническая фигура Гамлета, будучи перенесенной в «серенькую действительность» мещанского Петербурга, втиснутой в облик маленького, нездорового человечка, теряет обаяние величия и высокий трагизм, свойственные оригиналу Ренессанса.
Герой Альбова бессилен перед детерминизмом природы и знает это, однако он поднимается на бунт, «вечный альбовский бунт слабого человека, бунт Акакия Акакиевича, на мгновение ставшего Прометеем», как писал впоследствии К. И. Чуковский. Он восстает против непоправимости законов Вселенной, против своей, фатально предопределенной, судьбы — и одновременно против мелочных, прагматических интересов своих бывших товарищей из круга Розанова, перед которыми он разворачивает основные постулаты своей теории. «Впрочем, я тебя понимаю: потешиться немножко хотелось, перед самим собой порисоваться, полюбоваться на себя, что вот, мол, каков я... Вы там, дескать, копошитесь в своем муравейнике, а я не от мира сего!» — высвечивает тайные мотивы «выходки» Глазкова на вечеринке у Розанова его «двойник». Герой Альбова бунтует и против той скорлупки мизерного существования, которая уготована ему регламентированным социальным устройством бюрократического Петербурга. Как отголосок жестокости регуляторов поведения личности в буржуазном обществе врывается в его вечерний сон на бульварной скамейке фраза: «Городовые разрешили!». «И какая дикая фантастичность, рядом с глубоким, сокровенным в нем смыслом! Только что значат эти городовые? Что значит: городовые разрешили?» — размышляет герой. Самоубийство, да еще в общественном месте, — поступок, отнюдь не одобряемый социальной системой: не кто иной, как городовой, препятствует стоянию Глазкова на обладающем для него магической притягательностью Николаевском мосту утром того же дня. Однако несогласие с «урезанной» обывательской жизнью не является главным мотивом бунта Глазкова, оно лишь дополнительно привносится в его непокорство той «неведомой, непонятной, от него независимой силе, которая вела и теперь ведет его неуклонно к одной, для него в свое время невидимой цели» — силе, материализовавшейся в образе «двойника».
Мысль о таинственном законе — владыке человеческого существа — преследовала сознание писателя и в 900-е гг. в послесловии к изданию романа «День да ночь» 1903 г. он пишет в своих героях, «управляемых тою неведомой силой, что, не слушая наших хотений, ведет свое тайное и непостижимое дело, которую мы замечаем, когда уже она проявилась вовне, и тогда мы ее называем судьбой или случаем...». Причем здесь эта «сила» выступает не как власть природы, а как не открытый пока людьми культурно-исторический закон, подчиняющий себе их индивидуальные существования.
В «Дне итога», благодаря предметному воплощению данной «силы» в «двойнике» и концентрации повествования на единоборстве с нею героя, интеллектуально-психологическая драма Глазкова обретает фатально-метафизический, экзистенциональный смысл, что приближает Альбова к исканиям западноевропейских и русских модернистов рубежа веков (М. Метерлинк, Л. Андреев, А. Ремизов).
Опору бунта против хода вещей в мире, с коим он не желает мириться, Глазков находит в своей собственной, уникальной и неповторимой личности, которую он выставляет единственным «знаменем» свободы и в поклонении которой находит для себя истинное «блаженство»... блаженство на пороге смерти. Доверие к своей личности ощущал Гамлет, возлагая на себя бремя ответственности за судьбу «расшатавшегося» века. Стремление человека новой, буржуазной формации «опереться не на древние обычаи, обветшалые законы и догматы, а на собственное понимание ценностей, на голос своей совести и моральную рефлексию» изображал Достоевский; в этом и состоит один из основных пунктов преемственной связи Раскольникова с характером Гамлета. Идейную почву теории Глазкова о «блаженстве поклониться себе», которая «не вырабатывается в одиноком мозгу больного человека», а «может быть только плодом коллективной работы, только отзвуком целой полосы общественной жизни», характеризовал С. А. Венгеров в рецензии на повесть Альбова: «...это уже не тихая, безнадежная меланхолия человека 40-х годов, совершенно отчаявшегося в том, что когда-нибудь мрак рассеется. Есть гордое стремление открыто в лицо посмеяться молоху тьмы и поставить себе единственным законом свою собственную, строгую совесть. Есть сознательное игнорирование окружающего болота и твердая решимость соображаться только с тем, что поставило бы человека высоко в своих собственных глазах».
Правомочность самой борьбы мыслящего героя в поединке с судьбой — пусть борьбы отчаянной и неравной — отнюдь не отрицалась. Это и позволяет сближать гамлетизм Глазкова с гамлетизмом гаршинских героев (да и самого писателя), за которым давно закрепился эпитет «трагический», а не относить его к зряшным скептикам и бездействующим рефлектерам, одетым в гамлетовский плащ, коим была полна беллетристика 80-х гг. Снижение гамлетического типа Альбова происходит за счет слабости и бессилия его индивидуальной натуры, перевода драмы героя в план антропо-метафизический (хотя этим и оттеняется трагичность его бунта). Главный же пункт, существенно отличающий Глазкова не только от шекспировского прообраза, но и от Р. Раскольникова, состоит в замкнутости его интеллектуально-психологического кризиса в рамках личной трагедии, подчеркнутой отстраненности от забот мира сего, в отсутствии стремления к нравственным связям с людьми. Наряду с положительными началами бунта Глазкова против вселенской несправедливости он нес и отрицательный заряд, состоящий в вознесении собственной персоны над привычными житейскими драмами «маленьких» людей, ничуть не лучше которых являлся в действительности.
Дальнейшее углубление гамлетического комплекса героев Альбова происходит в произведениях 80-х гг., объединенных автором под общим заголовком «Страницы из книги о людях, взыскующих града». Сюда вошли отрывки «В потемках» (1886) и повесть «О том, как горели дрова» (1887).
Герой первой повести, незавершенной (по указанию писателя), но обладающей идейно-тематическим единством, — молодой чело век со страшным для обывательского уха именем «сицилист», накануне какого-то решительного поворота в своей судьбе пришедший проститься к матери и тетке. О сфере его деятельности мы узнаем из рассказа квартирной хозяйки матери. Занятия молодого чело века поистине ужасны для мирного, погруженного в застойную спячку домика захолустной части Петербургской стороны, обладающего всеми атрибутами мещанской жизни: в домике живет чинов ник, разгоняющий скуку гитарными переборами, — «вечный, исконный тип» чиновника. Все млеет в тихом довольстве среди опрятных кисейных занавесочек, горшков с геранью, пения канареек, привычного жужжания неугомонных мух. И в этот неспешный быт с ночным визитом полицейских, явившихся за Алексеем Ивановичем, врывается вдруг тревожный ветер истории, каких-то больших событий в жизни страны. Ознакомившись со «страшным» человеком в восприятии недалекой Федосьи Николаевны (так величают хозяйку), мы наблюдаем его в гостях у слепой матери — и здесь, из их отрывочных разговоров, вырисовывается облик «сицилиста», изъеденного рефлексией, перед последним шагом сомневающегося в верности избранного пути. Он сообщает родным, что должен куда-то уехать, но куда — сказать не может. «...Я вас не обманываю, и именно, как я вам сказал уже, завтра, в 9 часов, я еду по Николаевской железной дороге, в *скую губернию: И это мне нужно! Никаких бесчестных целей, ничего такого, за что бы мне приходилось стыдиться, в поездке этой не кроется...». Мать понимает сына — и отказывается от расспросов: «Ну, я и спокойна! Да если бы и в самом деле тут было не спроста, так мне ли о том рассуждать?.. Смех сказать!.. Ты сам все знаешь лучше меня, как и что тебе нужно...».
Для догадливых читателей 80-х гг. этих намеков было вполне достаточно. В предисловии к изданию 1906 г. автор отмечал: «Отрывок «В потемках» предполагался быть началом произведения, которое в те времена, когда оно было задумано, вряд ли, по тогдашним цензурным условиям, могло бы сделаться достоянием читающей публики и в виду этого оставлено было в зародыше, а самое «что-то», к коему готовится выведенное в отрывке лицо, «страха ради цензорска», обвито туманом таинственности».
Путь альбовского героя типичен для представителя молодого поколения второй половины 70-х гг. Подобно самому Альбову и Гаршину, он участвовал в славянской компании России на Балканах: ездил в Сербию, что выясняется из монолога матери. И вот теперь пытается найти себя на пути соединения с другим, не менее важным для поколения «делом» эпохи. Можно предположить, что Алексей Иванович пришел к родным с целью «сжечь все корабли», то есть окончательно порвать с прежним образом жизни и перекрыть себе все пути возможного отступления от намеченной, задуманной им цели. Таков был промежуточный этап перед посвящением себя революционной деятельности всех народников 70-х гг., полагавших, что иначе они не смогут до конца отдаться своему «делу». Таким, например, был путь «в народ» Преображенского, героя повести А. О. Новодворского «Эпизод из жизни ни павы ни вороны» (1876).
Но, в отличие от иронического тона повествования Новодворского, Альбов потрясает душу читателя мучительностью и надрывностью сцены расставания с матерью Алексея Ивановича. Писатель словно смотрит на своего героя из скорбных, смятенных 80-х гг., отягощая его характерным комплексом интеллигентского бессилия и углубленного рефлектирования. Облик человека, ради «дела» идущего на разрыв родственных уз, насыщен такими внутренними борениями и терзаниями, которые вновь наводят на сопоставление с гамлетовским типом.
Символично название повести. «В потемках».
В предисловии 900-х гг. писатель указывал, что герой «В потемках» должен кончить тем же, чем кончил главный персонаж повести « О том, как горели дрова», т. е. самоубийством, ибо оба они — «два духовных между собой близнеца, даже, если хотите — одно и то же лицо, как один из распространеннейших типов тогдашней «эпохи безвременья»...». Ситуация второй повести в общих чертах повторяет ситуацию Глазкова, но без психопатологических явлений. Ее герой, носящий имя Алексея Ивановича, как и «сицилист» из отрывка «В потемках», содержит в себе непонятное ему самому зерно тоски и апатии. Этот «истый тип сына 19 века, человека нервного, безвольного, лишенного инициативы», по определению одного рецензента того времени, становится поистине «лишним человеком» на пиру жизни и после очередного подведения «итогов» на промежуточной станции перед прибытием к невесте кончает с собой. Вновь мы вводимся в процесс его размышлений накануне решительного шага; вновь герой в своих раздумьях сталкивается с проблемой постижения некоего вселенского закона, по которому «сменяются одно за другим поколения, создают идеалы в бесплодных усилиях разгадать тайну и цель бытия, страдают и борются, заливают землю потоками крови... исполняя свое назначение безотчетно, бессмысленно, не зная, почему и зачем это с ними творится».
Финал героев Альбова был весьма показателен для литературы и жизни начала 80-х гг. Рецензируя произведения писателя, Н. К. Михайловский писал в 1884 г. о тематике его творчества как одном «из самых больных мест нашей современной жизни ... когда случайностей так много, то они, должно быть, не случайности (имеется в виду история Глазкова, представляемая критикой буржуазно-охранительного лагеря как не характерная для молодого поколения. — Е. С.); должно быть во всем строе нынешней жизни есть что-то такое, какое-то общее течение, определяющее все эти случайности».
Г. А. Бялый указывал, что «участившиеся в конце 70-х гг. случаи самоубийств интеллигентных молодых людей народнического образа мыслей порождались бесперспективностью той борьбы, которую вели интеллигенты-одиночки, оторванные от народной массы». Народническая же литература использовала сочувственное изображение самоубийств для обличения официального строя.
М. Н. Альбов воспринимался современниками как писатель, примыкавший к народническому крылу, однако он не разделял убеждений правоверных народников и остро переживал отсутствие общественных идеалов в себе и во многих людях своего поколения. Отсюда — его порицание пессимистического неверия и скептицизма в повестях 80-х гг., сближающее его с В. М. Гаршиным, искреннее страдание от своего бессилия «вымыслить ничего ни живого, ни прекрасного».
«В сложном течении русской общественной и литературной жизни 80-х и начала 90-х годов гамлетизм как одно из выражений скептицизма был для одних формой перехода к трезвому осмыслению действительности и познанию ее закономерностей через поиски новых путей борьбы, для других тропинкой, ведущей в болото мистики и декаденства», — читаем мы на страницах исследования роли Шекспира в русской культуре. Тот факт, что гамлетизм Альбова не принадлежал к последнему типу, доказывает проделанный нами анализ его произведений. Свидетельством этому служит также жизненный путь и творческая биография писателя. Гамлетизм его героев явился концентратом противоречивости и смутности сознания поколения восьмидесятников, трагическим воплощением оторванности людей от живой, созидающей деятельности. Недаром комплекс мучительного переживания героями своей личностной слабости и социального бессилия содержал в себе «зародыш бессознательного бунта», недовольство наличным бытием соединялось с неиссякаемой неудовлетворенностью собой и находило выход в своеобразных формах протеста против серой обывательской жизни, против готовых рецептов существования. Все это дает достаточные основания для того, чтобы поставить вариант гамлетизма в произведениях М. Н. Альбова рядом с «трагическим гамлетизмом» В. М. Гаршина.
Л-ра: Модификации художественных форм в историко-литературном процессе. – Свердловск, 1988. – С. 72-87.
Критика