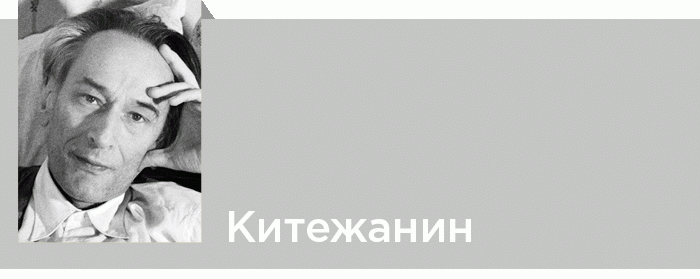Даниил Андреев: «Но чаша лишь одна...»

М. Тимонина
За несколько перестроечных лет мы уже привыкли к появлению новых, возвращению забытых имен отечественной культуры. И все-таки даже в эти годы нечасто перед читателем возникала фигура такой величины... Даниил Андреев. Один из ярчайших представителей особой ветви российской литературы — духовно-философской поэзии. Даниил Андреев — это еще и большая, сложная тема, открывающаяся перед современным литературоведением.
Долго мы читали лишь самиздатовского Андреева. Пришла пора открытого диалога с поэтом-мыслителем. Правда, пока из его богатого литературного наследия широкому читателю доступно немногое; отдельные журнальные публикации стихов, глава из философского трактата «Роза Мира», вышедший в конце прошлого года сборник Избранного «Русские боги», — пожалуй, все. Но, несмотря на краткость знакомства, многослойные, самобытные андреевские тексты уже сегодня вызывают самые многочисленные интерпретации, порой — почти полярные прочтения, выявляющие в нашей литературно-критической действительности существование различных эстетических ориентаций.
Так встретились на страницах этого номера предлагаемые публикации — два образа Даниила Андреева. «Предисловием» назвала М. Тимонина свои размышления о поэте и его времени, о зависимости и противостоянии художника жестокому веку. Ее эссе — вступление к долгому и трудному разговору о феномене Андреева. Автору особенно дорого наследование поэтом давней традиции российского духовного искусства. Отсюда — попытка хотя бы пунктирно наметить главные вехи на исполненном драматизма пути художника в отстаивании своего права на веру, на особое понимание духовности в творчестве и жизнетворчестве как «света Христова, просвещающего всех».
Правда, заметим, сосредоточившись главным образом на анализе этой большой, но не единственной темы в творчестве поэта, автор эссе уходит от осмысления философских сложносплетений андреевской космогонии, от присущей такому мировидению способности ко «всемирной отзывчивости», ко вселенской Розе Мира.
На эти особенности и обращает внимание в рецензии на Избранное Г. Померанц. Расширяя границы жанра, автор не просто анализирует наконец увидевший свет второй, а по сути — единственный полноценный поэтический сборник Андреева. Померанц предлагает собственную интерпретацию личности и творчества художника-мыслителя, решая характер своего героя в духе философской открытости миру, заинтересованного диалога с мистикой Востока, справедливо подчеркивая и социальное значение творчества Андреева в интеллектуальной жизни нашего общества 60-70-х годов.
И все-таки нельзя не заметить, как в определенный момент стройность концепции Померанца оборачивается излишней жесткостью, как отметается все чужеродное возведенной критиком конструкции. Несколько опережает, очевидно, реальную опасность для еще не сложившегося, в общем-то, андреевоведения и предостережение критика в искажении «подлинного» Андреева.
Можно было бы говорить о досадной односторонности обоих материалов — досадной, ибо в «родные пределы» нашей литературы вступил Поэт. Но здесь мы и хотим заметить: подлинное Слово — а именно таким словом, кажется нам, владел Даниил Леонидович Андреев — предназначено вызывать мысль, будить сознание, рождать споры — споры, приближающие к истине.
Пусть же назавтра судьбе меня кинет
Вновь под стопу суеты, в забытье –
Богосыновства никто не отнимет
И не развеет бессмертье мое!
Д. Андреев
История сопровождается и подтверждается литературой — для России, как, быть может, ни для какой иной страны, это утверждение справедливо... Этапам и вехам нашего движения сопутствуют имена прозаиков, поэтов, критиков. Возьмем наугад, 30-е годы: голод, уничтожение крестьянства, интеллигенции, рост ГУЛАГа, рядом — «торжество» пятилеток, новая Конституция... Изгнаны из литературы и не печатаются Сергей Клычков (расстрелян), Николай Клюев (также расстрелян, а не умер странником, как гласила умиротворяющая легенда), молчат Ахматова, Платонов, сослан Мандельштам; в фаворе — Стальский, Либединский, Фадеев... Каждое из этих имен могло бы служить своеобразным символом эпохи, по-своему переработав, преломив ее в себе. Впрочем, как судьба любого человека вообще способна служить метафорой исторического времени. Просто для художника такая связь явственнее, непреложнее. И в том, что голос Даниила Андреева не слился с голосами поэтов-современников — тоже свой смысл.
Хотя судьба его скорее обычна для тех лет, тех поколений, судьба честного человека — умного, мужественного, нравственного.
Биография Даниила Андреева укладывается в несколько строк. Поэт, сын писателя Леонида Андреева, родился в 1906 году в Берлине. Осиротел в двухнедельном возрасте, мать, Александра Михайловна Велигорская, умерла от родовой горячки. Единственный из семьи Андреевых, Даниил остался в России, так как с младенчества был увезен в Москву и воспитывался в семье тетки... Закончил школу, учился на Высших литературных курсах. В университет не был принят как сын писателя Андреева. На фронте — нестроевой — был санитаром, в братских могилах хоронил после боя убитых, затем — по ледовой Дороге жизни Ладожского озера — в осажденный Ленинград. В 1947-м вместе с семьей арестован органами МГБ и после полутора лет следствия на Лубянке и в Лефортове осужден Особым совещанием (тройкой) на 25 лет тюрьмы по 58-й статье. Пробыл десять лет во Владимирской тюрьме (включая время следствия в Москве); в 1957 году был выпущен Комиссией по пересмотру дел политзаключенных, в 1958 году реабилитирован. В 1954 году, в тюрьме, перенес обширный инфаркт миокарда и на свободу вышел обреченным, о чем знал. Скончался в Москве 30 марта 1959 года. Однако за двадцать три последних вольных месяца восстановил уничтоженные при аресте, отредактировал многие стихотворения, несколько поэм, прозаический философский трактат «Роза Мира»... И если сегодня мы имеем возможность что-либо услышать или прочитать из Даниила Андреева, то это благодаря тем месяцам.
Вообще же, при типичности жизненного трагического пути Андреева, его поэтическая судьба поражает непредсказуемостью и парадоксальностью. Дело даже не в том, что, не напечатав при жизни ни строчки (первое серьезное издание Андреева — его Избранное — вышло в конце прошлого года), он нашел своего читателя, причем читателя верного, стойкого.
Трактат «Роза Мира» — необходимый и безусловный фон для любого разговора о Данииле Андрееве. Суть и содержание поэтической космогонии Даниила Андреева очень точно определила в свое время вдова поэта, А. Андреева; «Исходной точкой является концепция автора о многослойности Вселенной и о персонифицированных силах Добра и Зла, сущностей, проявляющих себя в мирах этой Вселенной. Концепция не манихейская. Добро изначально и Зло ему не равно. Слой Вселенной, в котором живем мы, — Энроф, по терминологии Андреева, — средний слой. Ввысь от него идут Миры Просветления, вниз — Миры Возмездия. Вся человеческая история, в своей сути, есть борьба сил Света с силами Тьмы. То, что мы воспринимаем как историю, — отражение этой борьбы в земном слое. Метаистория и метакультура — опорные понятия, вводимые Андреевым.
Каждый народ имеет своего светлого Водителя — Демиурга и свою светлую соборную Душу. Все Демиурги братья, все Души народов — сестры. Демиургу зеркально противостоит в нижних мирах темный Демон государственности — также свой у каждого народа. В высших мирах над каждой страной творится ее небесное проявление, неподвластное гибели, даже если страна и культура погибли на Земле. Проводниками воли светлых Сил на Земле являются люди, в силу врожденных особенностей ведомые Демиургом; в истории — родомыслы, в культуре — вестники.
Через всю книгу проходит идея — одна из основополагающих идей русской культуры — Всемирное Братство и общий путь человечества ко Христу».
Столкновение между высшим и инфернальным на разных уровнях, с непременной убежденностью в победе светлых сил, — вот, собственно, художественное поле исканий Даниила Андреева. Христос и Антихрист, Бог и Противобог, сама идея государственности — светлая в высшей ее части, там, где действуют родомыслы, и темная — в низменной, где действуют тираны и диктаторы...
«Роза Мира» — одновременно и шифр, и ключ к его творчеству. Хотя сочинения Даниила Андреева, доведись им быть изданными полностью, составили бы пятитомник: два тома — прозаический трактат «Роза Мира», том — поэтический ансамбль (определение автора) «Русские боги», далее — драматическая поэма «Железная мистерия» и — книга лирики. Серьезный, обстоятельный разговор о поэте-мыслителе — впереди. Сегодняшние же мои размышления над личностью, судьбой, над книгами Поэта — лишь предисловие, попытка определить угол зрения, не искажающий образы художника и эпохи — какой виделась она Даниилу Андрееву.
В выстроенном поэтом-мыслителем мироздании среди множества необходимых понятий есть одно, которым мы здесь воспользуемся. Вестники... Даниил Андреев называл вестниками художников-избранников, призванных передать тайны столкновений между светом и тьмой. Люди, независимо от своей воли и знания, участвуют в этой земной мистерии, есть среди них и такие, кто специально отмечен для участия в битве. К вестникам, врожденно обладающим способностью воспринимать светлую инспирацию из параллельного нашему миру крылатого человечества — Даймонов, посылается особый личный Водитель, который ведет их по пути выполнения своего долга. Андреев уточняет: в высших своих достижениях вестничеству иногда соответствует художественная гениальность, однако понятия эти не совпадают, Вестничество — нравственный, совестнический срез литературы, оно «дает людям почувствовать сквозь образы искусства в широком смысле этого слова высшую правду и свет, льющуюся из миров иных».
Мы сталкиваемся с каким-то странным самодоказательством верности и глубины андреевских воззрений на мироустройство: поэт-мыслитель говорит о появлении в «игровые» моменты Истории особого человеческого типа — вестников. Но ведь и сам он, Даниил Андреев, для одних — чудак, для других — провидец, рождается и творит свою теодицею именно в такой поворотной исторической ситуации. Кстати, появление художника такого типа ждали в те десятилетия. Русское зарубежье, что удивительно в его странничестве, совершенно отчетливо выразило, обобщило это состояние ожидания — как итоговое состояние русской культуры XX века. И для познания судьбы культуры такое свидетельство бесценно.
Георгий Иванов еще в 1933 году в статье «О новых русских людях» спрашивал: «Новый человек из новой России. Что мы знали о нем до сих пор? Как о темной стороне луны — о Советской России мы достоверно знаем, собственно, только то, что она существует. Все остальное спорно, обо всем остальном можно только гадать.
Между «горем без конца» и «энтузиазмом строительства» есть живая жизнь великой страны, движущаяся вперед по каким-то колеям и слагающаяся для будущего. Что мы знаем о ней? ...За эти пятнадцать лет в советском воздухе сложились миллионы сознаний, в советскую почву проросли миллионы новых корней. Какие-то из этих новых корней — в подспудной, труднее всего поддающейся надзору ГПУ и контролю ЦК — области духа срослись и переплелись не с правоверно-коммунистическими насаждениями, а как раз с ...уцелевшими от всероссийского «корчевания» — корнями старой русской культуры... Всходов — надо ждать.— На них, как будто, можно надеяться...»
В контексте вопроса-утверждения Георгия Иванова принципиально важным представляется сопоставление Д. Андреева с М. Волошиным. Параллель Андреев — Волошин естественна: стихи их связаны определенным формальным сходством — тяготением к «тяжелым» размерам, «поступательным» ритмам, пренебрежением к «игре в слова»; совпадали тематические интересы — история России в движении от дохристианских времен к сегодняшнему дню; главное же — оба поэта ощущали какое-то гибельное движение, инфернальное поглощение России, «угашение огней» духовности.
И все-таки, даже в крымские кровавые двадцатые, Волошин не изменил некогда выбранной им позиции «наблюдателя», созерцателя «между истин»; в жизни, в письмах, в стихах настаивая на том, что находится между двух стихий, белой и красной...
Что это — врожденная аполитичность натуры? Художническая самоизоляция от «дел земных»? А может быть, корни волошинской «срединности», как и его исторического пессимизма, жизненной разуверенности лежат в ...религиозном смятении поэта?.. «И красный май сплелся с кровавой Пасхой, но в ту весну Христос не воскресал» — ведь этот глубокий поэтический образ в действительности — кощунство с точки зрения Церкви, религиозного мироощущения. Д. Андреев сумеет чутко уловить духовную растерянность, муку почитаемого им коктебельского мечтателя. «О, не приблизиться даже к порогу тайны и правды высшей тому, вера чья возлагает на Бога тяжесть ответственности за тьму», — заметит он в поэме «У демонов возмездия». Решающее столкновение между поэтами и произойдет на чисто духовном поле. Град Китеж — один из самых светлых символов неиссякающей веры и надежды. «Нам нет дорог: нас водит на болоте бесовская игра. Святая Русь покрыта Русью грешной, и нет в тот град путей, куда зовет призывный и безгрешный подводный благовест церквей», — напишет М. Волошин. О его Китеже современники отзовутся как о «религиозном святорусском образе». Однако история сама расставит необходимые акценты. Понадобится три десятилетия, миллионы жертв сталинского террора должны будут упокоиться в земле, чтобы возник иной Китеж — оспоривший волошинскую «непостижимую сказку», «неосуществимый сон».
Град цел! Мы поем, мы творим его,
И только врагу нет прохода
К сиянию града незримого,
К заветной святыне народа.
Андреевский Китеж — не город-символ, но — реальность, подлинная и деятельная, спасающая земной мир от состояния абсурда, ирреальности. Здесь Китеж — духовно совершенная община, человеческая святость членов которой, их верное служение Христу, делает возможной ее внематериальную жизнеформу. «Мы поем, мы творим» — в андреевском стихе и значит утверждение деятельной силы молитвы, веры. Слово тождественное делу — так и принято в традиционном Православии.
Здесь предвижу и удивление, и скепсис читателя; здесь ожидаю и недоверие, и непонимание. Творчество Андреева, действительно вызывающее чувства самые противоречивые, требует вполне определенного угла зрения и — особой подготовки. Дело даже не в философской сложности доставшегося нам от Андреева наследия, дело в отчужденности современного читателя от той духовной культуры, носителем которой был Даниил Леонидович. Невольной ли, сознательной ли отчужденности — так или иначе — крайне затрудняющей диалог с поэтом-мыслителем. Андреев был духовным поэтом. Это не метафора, это особый феномен культуры. На сегодня духовная поэзия все еще насильственно исключена из жизни отечественной литературы. Тем не менее, возрождая имя, публикуя книги Д. Андреева, мы должны признать существование такого течения, а признав — попробовать понять. Поэт смотрел на мир глазами православного христианина. «Точка зрения христианского богословия заключается в признании глубинного, но не равноправного характера обеих категорий: Добра и Зла, — пишет И. Шафаревич по этому поводу, — оно, во-первых, исходит из первенствующей роли Добра, из того, что мир создан Единым и Всеблагим Богом, но, во-вторых, понимает и Зло как более глубокую сущность, чем просто недостаток социальной или психической организации, — через концепцию грехопадения ангелов и человека, приведшего к тому, что «мир во зле лежит» (статья «Шостакович»). История же нашего времени убеждает: зло не только «естественный недостаток, несовершенство, само собой исчезающее с ростом добра», оно — действительная, активная сила, владеющая миром, и для успешной борьбы с нею необходимы опоры в ином порядке бытия.
В смутных мечтах о добре и зле
Долго внимаю рассеянным сердцем
Древней, полупонятной хвале
Великомученикам и страстотерпцам.
Это — душа, на восходе лет,
Еще целокупная, как природа,
Шепчет непримиримое «нет»
Богоотступничеству народа.
Духовная позиция Даниила Андреева определяется не «между», не «за», а «против» (Андреев как мистический реалист — «высший реалист», по Достоевскому, — чувствовал, что «за» на данном этапе истории — идеальная абстракция). Отсюда — противодействие, противостояние Андреева самой идее зла, материализовавшейся к середине века в нашей стране в нечто физически ощутимое и конкретное. Отсюда — сама терминология Андреева; так, он часто использует понятие Противобог, тот же Антихрист, что для современного русского языка — ярче и страшнее.
Традиционно тема России в русской культуре XX века связывается с именами Блока, Клюева, Есенина. Россия Андреева — некое откровение для наших современников. Она — тяжеловесна и незыблема, осененная светом Православия. Не мною найдена прекрасная формула такого миропереживания: «Славянское ощущение равенства всех людей и византийское сознание иерархичности при мысли о Боге» (Варягин Г. «Уроки гумилевского года»). В благословенные дни и мгновенья писалось: «Русь! Ты вся поцелуй на морозе», «Русь моя, жизнь моя», «О Русь, малиновое поле»... Само слово «Русь» в тридцатые годы было изъято из употребления. В контексте тридцать седьмого «Русь» и «Россия», «кресты» и «храмы» уже не просто слова, но — дело, действие, противодействие — с почти неизбежной расправой за это. В одном из ранних стихотворений Даниила Андреева говорится о «мареве Блока, туманах Есенина». Но имя Есенина к началу тридцатых годов — не просто «под запретом», за хранение его стихов полагалось десять лет, как за «Закат Европы» Шпенглера...
В гное побоев, на пепле торжищ,
Стынь, одичалая полночь, стынь!
Ты лишь одна из сердец исторгнешь
Плач о предательстве всех святынь, —
писал Даниил Андреев. Вспомним и еще одно имя, непременное в разговоре о поэтах православной России. Николай Гумилев. Духовно близкие, Гумилев и Андреев схоже восприняли и драму своего Отечества, хотя один пал в самом ее начале, другому пришлось прожить в ней всю свою жизнь.
Имя Гумилева неизбежно заставляет обратиться к обстоятельствам Таганцевского дела. Не буду касаться вопроса участия поэта в заговоре, вопроса реальности самого заговора. Случившаяся в двадцать первом году трагедия, забравшая у русской культуры одно из заметнейших действующих лиц, важна в контексте нашего разговора потому, что несет в себе ту реальность, против которой восстал и Андреев, которая во многом определила его историческое видение эпохи.
Петроградский орган «Революционное дело» сообщал подробности о расстреле шестидесяти по Таганцевскому делу: «Расстрел был произведен на одной из станций Ириновской ж. д. Арестованных привезли на рассвете и заставили рыть яму. Когда яма была наполовину готова, приказано было всем раздеться. Начались крики, вопли о помощи. Часть обреченных была насильно столкнута в яму, и по яме была открыта стрельба.
На кучу тел была загнана и остальная часть и убита тем же манером. После чего яма, где стонали живые и раненые, была засыпана землей».
Спустя тридцать лет Даниил Андреев писал из Владимирской тюрьмы жене, в мордовские лагеря: «...K тому же для меня совершенно неприемлемо представление о такой форме существования, где мне пришлось бы лгать перед самим собой или другими. Этого одного достаточно, чтобы я предпочел оставаться там, где нахожусь (если бы это от меня зависело) еще ряд лет. Здесь я могу не лгать ни единым словом, ни единым движением. Здесь я могу не презирать себя. Я могу, хотя бы отчасти, делать то, для чего вообще живу. В борьбе же за прозябание я утрачу все это, хотя и приобрету такую великую радость, как жизнь с тобой».
Реальность, формировавшая православного поэта-мыслителя, была и такой: «...30.4.18. В Пасху, под святую заутреню свящ. о. Иоанну Пригоровскому станицы Незамаевской Кубанской епархии выкололи глаза, отрезали язык и уши; ...связавши, живого закопали в навозной яме. ...9.01.19. Архиеп. Тихон (Никаноров) Воронежский повешен на царских вратах в церкви монастыря Свят. Митрофана. Был участником Собора 1917-18 гг. Вместе с ним было замучено еще 160 иереев. ...Февраль 1919. В г. Юрьеве топорами изрубили 17 священников и епископов ...23.06.19. Епископ Леонтий (Вимпен) Енотаевский и Астраханский расстрелян, брошен в яму и не выдан на погребение. Астраханское духовенство было «ликвидировано» по указанию председателя ревкома Кирова. ...3.09.21. Еп. Никодим (Кононов) Белгородский убит в Белгороде. Перед расстрелом благословил солдат-китайцев, и те отказались стрелять... Зима 1935. В Житомир было согнано все оставшееся духовенство. Арестовали около 200 человек, среди них архимандриты Почаевской лавры о. Алипий, о. Полихроний — расстреляны. Погребали без гробов, привезя убитых на грузовиках...» (сб. «Крестный путь Русской церкви. 1917-1987», «Посев», 1988). Первомученик митрополит Владимир (Богоявленский) Киевский и Галицкий (зверски убит недалеко от Киево-Печерской лавры 7.02.1918) за три месяца до смерти говорил: «Я никого и ничего не боюсь. Я во сякое время готов отдать свою жизнь за церковь Христову и за Веру Православную, чтобы только не дать врагам Ее посмеяться над Нею. Я до конца буду страдать, чтобы сохранилось Православие в России, там, где оно началось».
К середине тридцатых годов власть, казалось бы, должна была подавить страхом расплаты и кары и духовенство, и мирян верующих. 15 мая 1932 года Сталиным был подписан декрет правительства о «Безбожной пятилетке»: к 1 мая 1937 года «имя Бога должно быть забыто на всей территории СССР». К началу 1938 года 95% православных церквей, существовавших еще в двадцатые годы, было закрыто, упразднено 70 епархий, арестовано 40 епископов... Удалась на славу сталинская «безбожная пятилетка» — как равно пятилетки индустриализации, коллективизации, кампании борьбы с оппозицией... Цена этих «акций» — миллионные жертвы...
Одним из немногих поэтов, живших внутри России и видевших развернувшуюся духовную битву, был Даниил Андреев. Даже сегодня, когда мы пытаемся разобраться в происшедшем, освободиться от него путем покаяния, мы почти не говорим о тех жертвах, которые по образу жизни и мысли своей призваны были хранить эту традицию покаяния, передавая ее нам. Да, происходившее в те годы они воспринимали на принципиально ином уровне. Протоиерей Иоанн Восторгов (убит 23 августа 1918 года) писал незадолго до смерти: «Народ наш совершил грех... а грех требует искупления и покаяния, а для искупления прегрешений, для пробуждения его к покаянию всегда требуется жертва, а в жертву всегда избирается лучший, а не худший...» Почему мне хочется, чтобы признание это стало известно сегодняшнему человеку? Почему мне важно, чтобы слова Иоанна Восторгова услышал будущий читатель Даниила Андреева?.. Потому что то был и андреевский уровень восприятия происходящего. Потому что российская культура после семнадцатого года, помимо выделившегося зарубежья, включала и такие, неведомые нам, увы, и доныне, течения духа. Неведомые из-за долголетнего запрета, но — не только. Более бдительным и беспощадным охранником оказалась наша собственная духовная и культурная неразвитость. Сегодня, в последнем десятилетии XX века, мы не готовы вести диалог с пройденными эпохами, для нас закрыт религиозно-философский подтекст произведений Н. Гоголя, Ф. Достоевского, А. Островского, И. Шмелева, Д. Андреева... Ущемленная память порождает историческое одиночество, столь отягчающее человеческое существование.
...Рассудок не вмещает наш.
Что завтра будет взор ученого
В руинах края амраченного
Искать осколки ваз и чаш.
Искать?.. Но чаша лишь одна:
Скорбей и страстного томления,—
К устам дрожащим поколения
Она судьбой поднесена.
Она, как рдеющий кристалл,
Горит и будит понимание,
Что над страной бесшумно встал
Час всенародной Гефсимании.
«Пречистый хлеб», «светоч вселенной», «многоскорбные восхождения», «святорусский Синклит», «Айя-Софии венчанная высь», «к твоим очам, Обитель всеблагая, очами внутренними подхожу», «серебролитный звон церквей», «обескрещенные купола»... В годы кровавого разорения Церкви Даниил Андреев формалистическим приемом — словообразованием — словно пытался восстановить прежнее звучание хорового церковного пения. Но песенность и мелодичность Андреева особого рода — наверное, так, сурово и остраненно, могли петь скитские старообрядцы перед самосожжением или жители разоренного города, молясь в храме под треск выламываемых врат: «...суровых рук персты землистые то стискивали сталь меча, то жар души смиряли истово знаменьем крестным у плеча...» Его стих поражает небывалым, забытым движением: мерный жернов проворачивается, с неумолимой обреченностью, в глухом неостановимом ритме поглощается жизнь духа, чтобы затем восстановиться... Впрочем, процесс словообразования у Андреева — а его стихи перенаполнены непривычной лексикой — содержательно иной, нежели, скажем, создание знаменитых неологизмов Маяковского (сравнение невольно напрашивается ввиду бросающейся в глаза внешней похожести «трансурановых размеров» Маяковского и целого ряда стихов Андреева). В свое время Георгий Адамович заметил о поэме Маяковского «Во весь голос»: «Трагическое, почти некрасовское дыхание, мощная ритмическая раскачка, какой-то набат в интонации: все это могло бы оказаться неотразимо. Но плоский, нищенский текст невыносимо противоречит ритму. Дыхание рвется к небу, а текст упирается в низко нависший потолок... А слова, то есть дословное содержание текста, в поэзии все-таки имеют значение, поскольку она не "проста, как мычание"». «Трансурановые размеры» стихов Даниила Андреева усмиряются философской весомостью, концептуальной осмысленностью.
...Смешав правду
с нагой ложью,
Зерно знанья —
с трухой догмы,
Здесь дух века
мнет ум тысяч,
Росток нежный
эфир душ.
Чтоб в их сердце
кремнем жизни
Огонь пыла
потом высечь,
Швырнуть в город стальной каплей,
В бедлам строек,
в стальной душ...
Громаду алчную ублажая
Ометалличивающейся Москвы...
Своеобразие воззрений на историю, судьбу России в ней, духовные искания православного поэта-мыслителя вполне объясняют и особенности андреевского восприятия Москвы, родного его города.
Видение Андреевым Москвы в общем-то соответствует православной трактовке Москвы как Третьего Рима. Теория Третьего Рима, изложенная в трех посланиях старца Псковского Елеазарова монастыря Филофея (первая пол. XVI века), суммирует положение, которое заняла Москва после Флорентийской унии и падения Константинополя: «...и един православный великий русский царь во всей поднебесной, якоже Ной в ковчеге, спасенный от потопа». Как прежде Рим, так затем и Константинополь пали из-за своего отступления от истинной веры. Сохранившая чистоту веры Русь осталась единственным и, тем самым, главным православным царством, которое — в своей верности православию — не погибнет. Эти воззрения основаны на естественном представлении о связи религиозного и государственного процветания при симфоническом сочетании Церкви и государства и несут ясно выраженный апокалиптический характер, связаны с ощущением близости Второго Пришествия и, таким образом, ставятся в один ряд с более ранними южнославянскими сочинениями, содержащими идею трех последовательных царств. Есть в воззрениях этих, конечно, и культурный, и политический аспекты, которые определяются первичным требованием сохранения чистоты православия. Но в концепции Москвы как Третьего Рима изначально не заложена идея московской экспансии, «экспорта православия», миссионерства (в принципе — вообще не характерного для русского Православия). Надежды на конечное торжество Православия, идущего от России, возлагаются на Промысел Божий.
Но это — сухая теория. Андреевская же Москва — нечто лучезарное, переливающееся куполами и крестами, звучащее медью колоколов. Андреевская Москва — земное выражение духовной энергии русского народа:
Великих дедов возблагодарим,
Помянем миром души славных зодчих:
Они вложили в свой Последний Рим
Всю чистоту и свет преданий отчих.
Тема стабильности, неизменяемости Москвы — прочно вошла в русскую поэзию от Лермонтова до Рубцова. Для Андреева же строительство Москвы не завершено, пока не иссякла созидательная духовная энергия народа... Его Москва — в постоянном процессе духовного созидания, направленного в глубь непостигаемого будущего. Андреев напоминал о том, что духовное делание не прекращается, лишь видоизменяются его формы.
Естественно, что мистическая «подсветка» реальности видится Андрееву и в происходящем на его глазах разрушении Москвы. В русском историческом сознании издавна существовало понятие «намоленности» места: «намоленный храм», намоленный скит монаха-отшельника, но и просто жилая комната — при условии концентрированной духовности, «чистоты» нынешнего или прежнего ее обитателя. В сталинские 30-е для Андреева взрывались не просто здания, но — уплотнения духовности. Разверзшееся бытие, разорвавшееся время — вот что стояло за уничтожением исторического облика Москвы. Еще в начале тридцатых гиперболизированные, гипертрофированные картины поругания святынь — христианских ли, национальных — могли казаться мистическим предсказанием; сегодня пугает реализм, оглушительна реальность этого видения.
...Бренчат гимн отчизне...
Но шаг
вял и туп.
Над сном рабьей жизни, как дух,
Черный куб.
Удивительно это совпадение символов эпохи у двух столь полярных по мироощущению художников: «черного квадрата» Малевича и андреевского «черного куба». Удивительно, но и глубоко; так дерзостно-деятельное кредо одного оборачивалось крестной мукой другого. «Черный квадрат» стал не только ярким самовыражением оригинальной личности, но — активным действием по переводу человеческой жизни на свойственный ему уровень и объем. Как часто писалось в те годы: «Я предлагаю Минина расплавить, Пожарского. Зачем им пьедестал? Довольно нам двух лавочников славить, их за прилавками Октябрь застал...» В андреевских стихах Москва тридцатых годов — гротеск планетарного масштаба: «Радостный Олимп рождающейся расы, борющихся масс желанные миры: десятиметровые фанерные колбасы, куполоподобные красные сыры. ...Кляксами малярными — оранжевые, синие, желтые конфеты цветут, как май, — социалистическая скиния, вечно приближающийся рай. ... Груди распирает ликующая гордость, очи оловянные ходят колесом. И, обозревая с муляжного Олимпа Красную Гоморру, кругом, впереди, — чувствует каждый: красная лампа, весь мир озаряя, горит в груди» («Изобилие», 1931-50). К концу тридцатых у Даниила Андреева появляются и откровенно политические, антисталинские стихи, многие деятели той эпохи портретно выведены поэтом. И все-таки не социально-политические, а религиозно-философские проблемы вставали перед ним во всей своей определенности. В 1937 году Даниил Андреев писал: Сегодня с трибуны слово простое
В громе оваций вождь говорил.
Завтра — обломки дамб и устоев
Жадно затянет медленный ил.
Шумные дети учатся в школах.
Завтра — не будет этих детей:
Завтра — дожди на равнинах голых,
Месиво из чугуна и костей.
Скрытое выворотится наружу.
После замолкнет и дробь свинца,
И тихое зеркало в красных лужах
Не отразит ничьего лица.
«Не отразит ничьего лица»... Русская правда середины двадцатого века... Как тяжела должна она быть народу, знавшему иные строки: «Когда пробьет последний час природы, состав частей разрушится земных, все сущее внизу покроют воды, и Божий лик отобразится в них...» Всего несколько десятилетий — но исход «последнего катаклизма» видится принципиально иным.
...Откуда же брались силы видеть и превозмогать увиденное? И насколько искренне можно рассуждать о человеческом и поэтическом оптимизме Даниила Андреева? И как объяснить, убедить современного читателя его стихов и прозы, что все неправдоподобное и невозможное в творчестве этого художника представляется таковым лишь в рамках атеистического мировоззрения современной нашей аудитории, ее материалистического сознания, человечеству же знакомы и другие истины, иные миросвязи?.. Я думаю и о том, что, даже решившись вдруг судить о ближнем своем на языке, им самим для себя установленном, мы долго еще должны будем овладевать этой азбукой. Правда, такое ученичество — не благотворно ли?..
Да, Даниил Андреев был православным христианином, жил по обряду религиозному, а не социально-политическому. Он представлял собой специфический склад религиозного человека, вера которого «просто есть», и вся остальная жизнь и сомнения лишь укрепляют в ней. Это как «музыкальный слух, как одаренность — одаренность религиозной натуры» (А. Андреева). Поэт, видевший ребенком Свет, не терял его на тяжких земных дорогах.
...Последний штрих к портрету. В июне 1958 года Даниил Леонидович Андреев обвенчался с Аллой Александровной Андреевой по православному обряду. Рассматривать это надо как шаг принципиальный, ибо к тому времени Андреевы были много лет женаты, а до смерти его — смерти ожидаемой — оставалось восемь месяцев.
Даниил Леонидович Андреев умер в 1959 году, исповедовавшись и причастившись у священника Николая Голубцова, своего духовного отца. На его могиле на Новодевичьем кладбище поставлен православный деревянный крест — согласно последней воле Даниила Леонидовича...
И в зелени благоуханной
Родимых таежных мест
Поставь простой, деревянный,
Осьмиконечный крест.
Л-ра: Литературное обозрение. – 1990. – № 5. – С. 9-14.
Критика