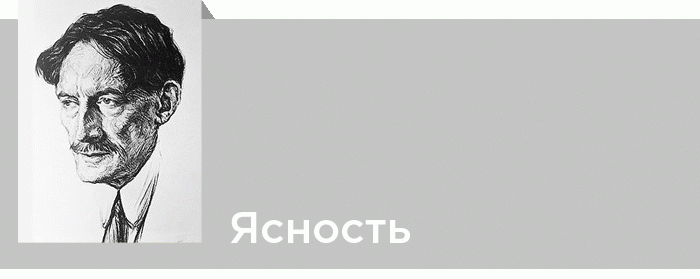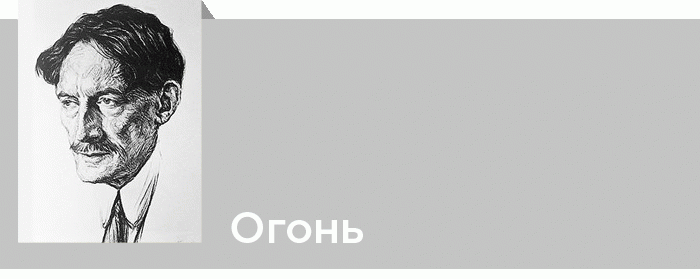Связь времён

Л. Лебедева
Я люблю перечитывать письма Чехова. Не только потому, что в них раскрывается ум, тонкая, деликатная натура этого удивительного человека, не только потому, что чтение этих писем доставляет огромное художественное, эстетическое наслаждение.
В письмах этих непосредственно, глубоко и разносторонне отражено время, в которое жил Чехов. Читая их, понимаешь и ощущаешь черты и черточки тогдашней литературной, социальной, политической жизни с такой ясностью и убедительностью, какой не может дать самое основательное историческое исследование и какую дает далеко не всякое литературное произведение.
И еще одно. Письма Чехова не составляют и не представляют только, так сказать, историческую ценность. Из них мы, люди шестидесятых годов двадцатого века, можем почерпнуть очень много человечески необходимого и поучительного, особенно сейчас, когда с такой серьезностью, с такой общественной значительностью стоит вопрос о моральном облике, о нравственном достоинстве человека.
Наверное, у многих бывает так: читаешь одну книгу и вдруг ощущение какой-то необходимой связи и неодолимой внутренней потребности потянет взять с полки другую. Перелистать последние тома сочинений Чехова, где помещены его письма, мне захотелось, когда я закрыла повесть А. Бруштейн «Весна» — завершающую часть автобиографической трилогии «Дорога уходит в даль...». По-видимому, в основе лежало желание поверить и повторить возникшее от чтения повести ощущение эпохи, отделенной от нас уже более чем полувеком. Было и другое. Книга А. Бруштейн — я говорю сейчас обо всей трилогии, а не только о последней ее части — написана с такой любовью к людям, с такой болью за их страдания и ошибки, что вся она кажется большим письмом к друзьям, дорогим и близким. И, наверное, поэтому, говоря об этой книге, не хочется заниматься разбором литературных удач и недостатков, толковать, например, о композиции, которая строгому критику может показаться несколько рыхлого из-за выбранного автором способа изложения, — а по сути дела выбранного правильно и точно для такой книги.
Если сравнивать «Весну» с двумя первыми частями трилогии, то можно сказать, что эта повесть более публицистична по самой манере изложения и что оттого некоторые главы ее кажутся суховатыми. Но, пожалуй, справедливее будет сказать, что «Весна» строже, что в ней меньше радости и уюта, — кончилось детство героини повести Саши Яновской, она собирается вступить в самостоятельную жизнь, и хотя ее собственный жизненный опыт не слишком велик, ей уже многое пришлось увидеть и понять в окружающем.
Это окружающее властно заявляло о себе и в страстном волнении тех людей, которых Саша привыкла любить и уважать, по поводу так называемого дела Дрейфуса; и в постоянных, обыденных столкновениях «бедных» и «богатых», хотя бы в том институте, где Саша учится; и в «социологических» разговорах Саши с ее учениками Степой и Шниром, подростками, работающими в типографии; и в тех событиях, которые произошли в Вильно после первомайской демонстрации 1902 года...
На страницы «Весны» история врывается более прямо и непосредственно, чем это было в первых двух частях трилогии. Здесь больше событий, точно датированных и точно, порою документально, описанных. А. Бруштейн при этом не только рассказывает о том, что происходило в 1898-м, 1901-м или 1902 году. Она, «разбивая» повествование, заглядывает вперед, иногда далеко вперед, «дорассказывает» происшедшее, подводит ему общественный итог с позиций человека, пережившего не только само событие, но и его исторически необходимые последствия. Читая повесть, задаешь себе вопросы: закономерно ли это, не нарушает ли это целостность образов и замысла?.. Нет, не нарушает. Все это делается с такой внутренне оправданной убежденностью и с такой логикой, что оказывается органичным. И, наверное, сделай автор в подобных главах попытку «беллетризовать» повествование, снять «излишнюю» документальность, произведение проиграло бы, что- то утратило бы из своего обаяния, своей страстности.
Вот один из основных эпизодов повести и одна из последних ее глав. Май 1902 года. Саша готовится к выпускным экзаменам в институте. В городе недавно происходили серьезные события: первомайская демонстрация и затем — отвратительно циничная жандармская расправа с ее участниками, которых но приказу генерал-губернатора фон Валя и в его присутствии секли розгами. За эти подлые розги, за унижение прекрасных своих товарищей хочет отомстить губернатору двадцатидвухлетний сапожник Гирш Лекерт. Он стреляет в губернатора, когда тот выходит из цирка. Лекерта тут же схватили, судили военным судом и приговорили к смертной казни. «Лекерт был повешен 28 мая (по старому стилю) 1902 года, в 3 часа 40 минут утра», — так кончает А. Бруштейн главку о казни, главку, в которой языком скупым точным и внутренне напряженным рассказано о смерти Лекерта. Писательница цитирует дикое, человечески немыслимое письмо добровольного палача из уголовников Филипьева, обращающегося к начальству с претензией: пусть-де ему дадут «работу». Он получил эту «работу» — его специально привезли в Вильно повесить Лекерта...
Письмо Филипьева и все обстоятельства смерти Лекерта стали известны лишь через несколько десятилетий. Пятнадцатилетняя Саша Яновская не знала этого. Должна ли была умолчать об этом А. Бруштейн, чтобы, так сказать, не нарушить хронологическую цельность повести? Очевидно, и не должна была и не могла умолчать, и то, что она написала об этом, и то, как она это написала, подняло повесть, сделало ее значительней и сильней.
Да, Саша не знала тогда, как умер Лекерт. Но она стала случайной свидетельницей того, как ее отец выгоняет вон пришедшего к нему сразу после присутствия на казни тюремного врача. И этот поступок отца кажется Саше совершенно естественным, он не вызывает у нее недоумения или замешательства; она ошеломлена тем, что отец после ухода незваного посетителя... плачет. Этот, как говорит писательница, «беспомощный, неумелый мужской плач, когда слезы стекают по носу и попадают в рот»,— плач отчаяния, это плач человека, который не может помешать совершению подлого дела, хотя он и знает, что есть уже социальная сила, должная уничтожить существующий строй со всеми его подлыми делами и порядками.
Бывает так, что человек в ранней юности, даже еще в детстве сталкивается с несправедливостью, горем, подлостью, что он видит вдруг перед собой зверино-злобную или тупо равнодушную морду мещанства и пошлости. Если сложная совокупность обстоятельств, формирующих ум и характер, складывается так, что никто и ничто не помогает подростку противостоять этим впечатлениям, трудно поручиться, что из него выйдет человек честный и нравственно здоровый.
В жизни Саши Яновской сложилось не так. Вокруг семьи, в которой она выросла, всегда группировались светлые сердцем люди. Они становились близкими друзьями ее отца, шли к нему посоветоваться, поделиться мыслями и новостями, попросить помощи или помочь. Это были разные люди, но главным образом интеллигенты-разночинцы, если и не прямые участники революционных кружков и организаций, то тянущиеся ко всему тому, что опровергает и подтачивает «существующий строй». Необходимость труда для уважающего себя человека, честность и прямота, неприятие барства и кастовости вообще — вот первые «социальные заповеди», которым учат Сашу отец и его друзья, а действительность постоянно доказывает и подтверждает их правоту.
Между тем события, о которых говорится в повести, отнюдь не носят идиллического характера. Об этом, наверное, можно судить даже по тому немногому, что сказано было выше о содержании книги. Доброта, честность, высокая человеческая порядочность не могут быть результатом благостного уединения в тихом и уютном семейном гнездышке, вдали от всех тех передряг, что сотрясают мир. В мире социального неравенства человек с самых ранних лет должен воевать за эти качества в себе и в других — это одна из главных мыслей в трилогии А. Бруштейн. Героиня трилогии Саша Яновская постепенно приходит к пониманию того, что многие и дурные и добрые черты людей социально обусловлены и что все честное и светлое в человеке восстает против общественной несправедливости, против социального уклада, порождающего несправедливость. В том, как показывает это А. Бруштейн, — сила гражданского звучания ее книги, ее актуальность, хотя речь идет о событиях довольно далекого прошлого.
В первой части повести «Весна» говорится о том времени, когда весь цивилизованный мир был взволнован делом о ложном обвинении в государственной измене, а затем об осуждении в каторгу французского офицера Альфреда Дрейфуса. Нет нужды излагать здесь подробности этого нашумевшего, тянувшегося в течение двенадцати лет процесса, — они общеизвестны. Состряпавшие дело реакционеры, конечно, не предполагали, что оно вызовет такой бурный взрыв общественных страстей и противоречий, что эти противоречия достигнут такого социального накала, и не в одной только Франции. Во многих странах, в том числе и в России, общество разделилось в своем отношении к делу Дрейфуса на два резко противоположных лагеря: правящая бюрократия и поддерживающее ее тупое и злобное мещанство всех мастей на одном полюсе; передовая, честная часть общества — революционные рабочие, прогрессивная интеллигенция — на другом. Дрейфур был еврей, и реакция прибегла к одному из излюбленных способов затушевывания социальных противоречий — антисемитским провокациям.
Живо и достоверно воспроизводит А. Бруштейн атмосферу, которая создалась тогда в Вильно. Собирались и взволнованно обсуждали перипетии дела; горячо поддерживали позицию Эмиля Золя, смело выступившего на защиту Дрейфуса; нетерпеливо ждали очередного номера газеты; с жадным вниманием слушали очевидцев, побывавших во Франции...
Так было везде. И когда, окончив повесть, я взялась перечитывать письма Чехова того времени (Антон Павлович был тогда на юге Франции и, таким образом, тоже оказался «очевидцем»), я нашла строки, с которыми удивительно совпадают по тону и настроению первые главы «Весны».
«У нас только и разговору, что о. Золя и Дрейфусе, Громадное большинство интеллигенции на стороне Золя и верит в невинность Дрейфуса... Французские газеты чрезвычайно интересны, а русские — хоть брось. «Новое время» просто отвратительно», — пишет он Ф. Д. Батюшкову.
Через несколько дней Чехов написал письмо А. С. Суворину, издателю «Нового времени», письмо, в котором он подробно изложил свое отношение к делу Дрейфуса и которое, по свидетельству М. П. Чехова, послужило началом окончательного разрыва писателя с его давним издателем.
«...Заварилась мало-помалу каша на почве антисемитизма, на почве, от которой пахнет бойней», — так определяет Чехов существо дела. «Вы пишете, что Вам досадно на Золя, а здесь у всех такое чувство, как будто народился новый, лучший Золя», — говорит он. И дальше: «Вспомните Короленко, который защищал мултановских язычников и спас их от каторги».
Читатели трилогии А. Бруштейн, очевидно, помнят, что во второй ее книге нашло свое место отражение мултанской трагедии, В конце первой части «Весны» писательница говорит: «Вместе с делом мултанских вотяков дело Дрейфуса воспитало в нас глубочайшее уважение к высокому долгу писателя-гражданина — долгу, которому так самоотверженно служили русский писатель Владимир Короленко и французский писатель Эмиль Золя».
Долг писателя-гражданина... Трилогия А. Бруштейн свидетельствует о том, что ее автор в высокой степени наделен чувством такого долга. Рассказывая о прошлом, писательница испытывает ответственность за настоящее — этим пронизана вся ее книга, обращенная (нельзя не подчеркнуть этого) к подросткам, к юношеству. Воспринимать опыт прошедшего или спорить с ним можно, только зная его, чувствуя его. Чтобы оценить тот вред, который приносят в нашей современной жизни остатки старого, собственнического, мещанского (а они, мы это знаем, бывают ой как цепки и разнообразны!), чтобы действительно бороться с этими остатками, надо хорошо знать то, что их породило, а не отмахиваться от такого знания, не делать вид, что их и вообще-то у нас не существует, как это, к сожалению, иногда бывает и в жизни, и в литературе, и в литературной критике.
И чтобы оценить красоту настоящего, надо знать, какою ценой досталась она тебе, надо любить то доброе, светлое, чистое, что было в прошлом.
Всему этому служит книга А. Бруштейн.
Л-ра: Новый мир. – 1962. – № 2. – С. 260-262.
Критика