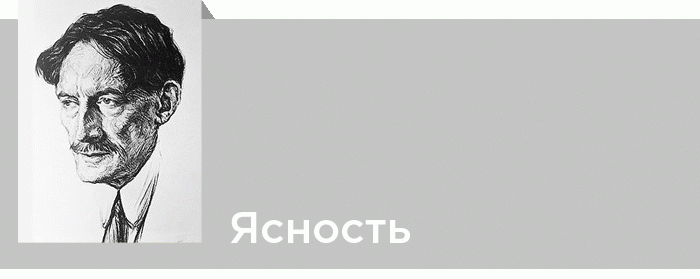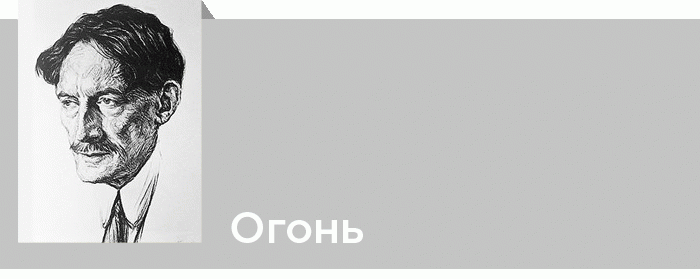В те далёкие годы

О. Зив
Бывало, откроешь в детстве книгу, прочтешь первые строчки, и кончено: уже не оторваться, уже и себя и окружающего не помнишь, целиком уйдя в незнакомый мир, раскинувшийся перед тобой. Замлела рука, ноет шея, но ты ничего не замечаешь, вся во власти той жизни, в которую ввел тебя чародей и волшебник, именуемый писателем. Что общего, скажем, между тобой и далеким американским сорванцом Томом Сойером? Ни тетушки Полли, ни маленького ханжи Сида — благопристойного братца — не попадалось на твоем десятилетнем жизненном пути; и, может быть, сегодня впервые узнал ты, что существуют на земле негры, которых преследуют за темный цвет кожи. Но все равно, чудо уже свершилось. «Придуманные», «сочиненные» люди стали твоими друзьями и врагами, их путь стал твоим путем, их радости и горести — твоим счастьем и твоей бедою. И уже навеки, до самой старости, до смерти, быть может, останутся они в твоем сердце — реальные, трехмерные, живые герои книг твоего детства.
А к скольким из этих книг мы возвращались и возвращались в течение нашей взрослой жизни? Я уж не говорю о «Детстве, отрочестве и юности» Льва Николаевича Толстого или о «Детстве» Алексея Максимовича Горького. Но разве не перечитываем мы и в тридцать, и в сорок, и в пятьдесят лет аксаковские «Детские годы Багрова внука», и «Детство Темы» Гарина, и «Детство Никиты» Алексея Толстого или того же марктвеновского «Тома Сойера»! И разве с каждым новым прочтением не открывали мы в них новую глубину и новую прелесть? Стократ правильно утверждение, что хорошая книга о детстве не имеет возрастного адреса.
Нынешний год принес хорошие и разные книги о детстве. В «Юности» мы читали «Хуторок в степи» Валентина Катаева, в «Новом мире» — «Березовый сок» Степана Щипачева, в «Звезде» — «Открытие мира» В. Смирнова и восьмидесятый выпуск детгизовской массовой серии «Новинка детской литературы» (тот, что в просторечии читатель называет детской роман-газетой) дал автобиографическую повесть Александры Бруштейн «Дорога уходит в даль».
И вот этот «закоренелый», «заядлый» драматург, всю большую жизнь и весь свой талант отдавший детскому театру, на семьдесят втором году жизни впервые выступает как прозаик. Но, едва открыв эту повесть, едва вступив в мир ее образов и круг событий, понимаешь, что «измена жанру» есть не что иное, как расширение творческого плацдарма.
Нет в этой книге ни одного не запоминающегося персонажа, случайной, написанной лишь во имя прелести воспоминания страницы. Нет необязательных разговоров, нравоучений и пояснений, раздражающих читателя.
Повествование ведется от имени девятилетней девочки. Она любознательна, порывиста, впечатлительна. Единственный ребенок в семье, она, как все единственные дети, лишенные постоянного общества своих сверстников, томится мечтой о друге и пытливо присматривается к жизни окружающих ее взрослых.
А окружают Сашеньку Яновскую люди интересные, друг на друга непохожие. Даже самые близкие из них, те, что составляют сашенькин «домашний мир», различны и по своему уровню, и по устремлениям, и по характерам, и по взглядам. Казалось бы, какое опасное скрещение влияний! Но девочка превосходно отбирает плевелы от зерен. Наблюдательный глаз остро подмечает смешные черточки белокурой сентиментальной мещаночки фрейлен Цецильхен, обучающей ее, Сашеньку, немецкому языку. Цецильхен не умеет ответить ни на один вопрос, Цецильхен за полгода пребывания в России не выучила и трех простых русских слов, Цецильхен — «просто ужасная дура». И Сашенька дает ей исчерпывающую характеристику:
«В своей вязаной пелеринке Цецильхен очень похожа на соседского пуделька, которого водят гулять в пальтишке с карманчиками и помпончиками. Цецильхен только не лает, как он».
Совсем другое дело — Юзефа, старая Сашина няня, с приходом Цецильхен ставшая кухаркой. У Юзефы добрейшее сердце, но ее доброта, сочетается с неуемной ворчливостью, а нежная привязанность к семье Яновских — с остро критическим отношением к миру. В доме есть, конечно, верховное существо — красивая и умная мама с ласковыми руками. Однако без Юзефы не было бы у Сашеньки ощущения домашнего тепла, необходимого человеку, как воздух.
Но дороже старой Юзефы, важнее красавицы-мамы самый главный, самый нужный, самый замечательный человек в Сашином мире — это отец. Сашенька боготворит отца и трепетно гордится им.
«Он врач. То он торопится к больному или в госпиталь, то он сейчас только вернулся оттуда — очень усталый.
Вот и сегодня, в воскресенье, рано утром папа, приехал домой такой измученный — сделал трудную операцию, провел при больном бессонную ночь, — что мама нарезает ему завтрак на кусочки: у папы от усталости не слушаются руки.
...Юзефа сидит на кухне, чистит кастрюлю и ворчит на той смеси русского языка с белорусским и польским, на какой говорит большинство населения нашего края.
Другий доктор за такую працу (работу) в золотых подштанниках ходил бы!
В кухне сидит полотер Рафал, — очень осведомленная личность с огромными связями во всех слоях общества. Даже Юзефа считается с мнением Рафала! И он тоже подтверждает, что да, за такую работу — «Я же вижу! Господи Иисусе, и когда только он спит?» — другой доктор на золоте ел бы!
Свирепо закусив губу и словно желая стереть в порошок кастрюлю — зачем она не золотая, а только медная? — Юзефа яростно шипит:
Я скольки разов яму говорила: богатых лечить надо, богатых!
А он? — интересуется полотер.
Как глухой! — вздыхает Юзефа. — Никого не слушает. Ко всем бедакам, ко всем бедолагам ездит. А бедакр что платят? Вот что яны платят! — И пальцы Юзефы, выпачканные в самоварной мази, показывают здоровенный кукиш.
Какая жаль! - вежливо качает головой полотер Рафал».
Вот так, через окрашенный сочным юмором диалог кухарки и полотера, знакомимся мы с главным героем повести «Дорога уходит в даль». Ибо, несмотря на то, что повесть эта о детстве девочки Сашеньки (а может быть, именно потому, что это повесть о детстве!), главным героем ее является светлый и умный человек — доктор Яков Ефимович Яновский.
Взрослым героям современных детских книг долго не везло. Бледными тенями скользили они по страницам повестей и рассказов, произнося назидательные сентенции и иллюстрируя своими поступками те или иные педагогические тезисы. И невольно возникал вопрос: откуда же у этих скучных, унылых людей такие душевно красивые дети? Под чьим благотворным влиянием вырастают они смелыми правдолюбцами, готовыми к свершению героических подвигов? У кого учатся честности, бескорыстию, благородству, самоотверженности?
Книги о детстве, вышедшие в нынешнем году, дают на этот вопрос развернутые ответы. Писатели горячим пером рисуют нам разных по характерам, но схожих по высоким нравственным качествам взрослых, близость к которым не могла не отразиться на формировании детских характеров.
Образ отца Сашеньки раскрывается и углубляется на протяжении всей повести. Мы видим этого человека и дома, в душевных разговорах с дочерью, и в яростных словесных схватках с владельцем пивоваренного завода Шабановым, и в обществе высланного под надзор полиции недоучившегося студента-медика Павла Григорьевича, который готовит Сашеньку к поступлению в гимназию. Мы видам доктора Яновского занятым своим прямым врачебным делом — в темном сыром подвале возле умирающей Юльки Томашовой и у постели жены жандармского полковника фон Литтена. И оттого, что всегда и во всем он оставался верным себе, мы, уже не видя, знаем, как поведет себя доктор Яновский в вечер первомайской демонстрации, расстрелянной полицией, когда прибежит за ним от имени Павла Григорьевича исполосованный казацкой нагайкой мальчишка.
Павлу Григорьевичу отведено в книге места не меньше, чем доктору Яновскому. Это натура сильная, цельная. Первый учитель Сашеньки, первый, встреченный ею революционер-подпольщик, он оставляет неизгладимый след в ее памяти.
Как все дети, Сашенька мечтает о героических подвигах. Побывав в зверинце, посмотрев представление со «смертным номером» — укротительница бесстрашно кладет голову в пасть льва, — Сашенька принимает «твердое решение»: она тоже будет укротительницей. Обо всем этом повествуется с той никогда не покидающей А. Я. Бруштейн чуть насмешливой улыбкой, которая помогает автору избежать всякой ходульности, даже на самых пафосных страницах своей книги.
Глава одиннадцатая называется «Поговорим о геройстве». И действительно, в главе этой происходит такой большой, такой весомый разговор об осмысленной и бессмысленной смелости, о целенаправленном геройстве, что веришь: никогда не забудет этого разговора ни сама Сашенька, ни юные читатели истории ее детства. Навеки останется в сердце девочки суровый рассказ Павла Григорьевича о пятнадцати тысячах верст пешего пути, который проделал он вместе с другими революционерами, приговоренными к ссылке в Среднеколымск.
И словно прозревает Сашенька: так вот каковы настоящие герои! Так вот каков Павел Григорьевич!
«Я подхожу к нему, беру его руку. Смотрю на него, словно в первый раз вижу.
Павел Григорьевич... — бормочу я.— Ох, Павел Григорьевич...
Папа всматривается в меня:
Пуговка! Ты не плачешь?
Нет. Не плачу.
Сейчас, вспоминая свое детство, я не могу вспомнить, чтоб после этого вечера папа хоть раз сказал мне: «Ненавижу плакс!» Рассказ Павла Григорьевича, словно горячее дыхание костра, навсегда опалил мое сердце и высушил дешевые слезы ребячьих обид, пустяковых огорчений».
Так кончается глава «Поговорим о геройстве». Но разговор о геройстве только начат. Если до сих пор автор тонко, без навязчивости подводил читателя к этому главному разговору, то теперь разговор о героичности пойдет во весь голос.
Всем дальнейшим ходом событий, всем поведением действующих лиц повести писатель как бы говорит читателю: гляди, настоящий героизм не может быть показным — по самой сути своей он скромен и бескорыстен. Герой не может не быть стойким, благородным, самоотверженным, иначе он просто не будет способен на высшее проявление человеческого духа — на подвиг. Но помни: стойкость не рождается в одно мгновение, благородство несовместимо с мелочностью, жадностью, лживостью, а самоотверженность — с эгоизмом и хвастливостью. Значит, прежде чем мечтать о героизме, научись быть порядочным человеком.
В десятках мелких и крупных эпизодов, показывая самые разные грани характеров своих героев в самых разных обстоятельствах, писатель приводит читателя к этой мысли.
Спешу оговориться: ни сам, ни устами своих героев ничего похожего не произносит автор. Это лишь подтекст книги, заложенный в высоком нравственном строе чувств и поступков любимых героев, в их повседневном поведении, в простых житейских обстоятельствах действия. Нигде и ни разу не срывается А. Бруштейн на декламационную напыщенность или ханжеское морализирование. Не срывается потому, что верит своему читателю и уважает его.
А. Бруштейн без стеснения показывает смешные черточки своих положительных героев, не скрывает их недостатков и бесстрашно вводит на страницы повести людей, искалеченных жизнью, грубых а темных, а то и просто черствых, подловатых людишек, прячущих свое мерзкое нутро за показным добродушием.
Мир вовсе не состоит из одних хороших людей, как бы предостерегает автор, учитесь распознавать друзей и врагов!
В поисках друга романтически настроенная Сашенька переживает свои первые горькие разочарования. Рита и Зоя, дочери пивовара Шабанова, оказываются вероломными в дружбе. С тревожным изумлением обнаруживает Сашенька, что это удивительно сочетается с черствым эгоизмом их лениво-ласковой матери я со звериной ненавистью к бедноте их отца-черносотенца.
А вот зато больная, неграмотная Юлька, мать которой, поденщица Томашова, недоверчиво-презрительно встречает Сашу, эта Юлька естественно и оправданно, без малейшей авторской натяжки, завоевывает сердце Сашеньки. И возникает истинная, активная дружба, не ущемляющая ничьего достоинства, дружба, равная и обогащающая обеих девочек.
Каждое столкновение Сашеньки с большим миром дает автору повод для показа какой-то новой и важной стороны жизни.
[…]
А как умно, интересно, зримо передает автор ощущение великого братства тружеников-бедняков вне зависимости от того, русские они, поляки, белорусы, литовцы, евреи или французы. Вот крохотный эпизод в вечернем сквере, где доктор Яновский после посещения заводчика Шабанова «кутит» с Сашенькой. Оба с восторгом уплетают золотистые, хрустящие бублики, которыми тут же, возле сквера, прямо на тротуаре, торгует хромая бубличница Хана. А рядом журчит неторопливая речь мороженщика Андрея, присевшего отдохнуть на ту же лавочку. И только успел подивиться Андрей разномастности населения этого города («Господи милостивый, все разные и все друг на друга!»), как на другом конце сквера появляется гроза бедного люда — городовой Кулакович. И вот Андрей, уже не задумываясь о национальности Ханы, спасает ее от общего врага — городового, наводящего «порядок».
Весь эпизод занимает полторы странички, и рассказан он с чуть горькой усмешкой. Сашенька, занятая в этот вечер совсем иными, куда более важными для нее мыслями, ничего еще не понимает в случившемся. Но раздумчивые речи Андрея не раз вспомнятся девочке. Для этого будет немало поводов и в подвале у топчана больной Юльки, куда — наравне с другими бедняками — принесет свой посильный дар, самый золотой бублик, та же старая Хана; и позже, в Ботаническом саду, где Юлька поделится куском хлеба со своим обидчиком-мальчишкой, чей отец остался без работы; и, наконец, в ту страшную ночь с первого на второе мая, когда доктор Яновский отправится в поход по хатам и подвалам, где скрываются раненые демонстранты. Именно в этот час поймет Сашенька великую силу трудового братства. Поймет, глядя на свою старенькую, трогательно смешную чудачку-учительницу француженку Поль, которая без громких фраз (но во имя интернациональной солидарности) покинет теплую постель, чтобы сопровождать доктора Яновского в его опасных ночных странствиях.
Многогланова, многотемна повесть А. Бруштейн. Но тема геройски выполняемого долга, тема душевной стойкости, однажды возникшая в книге, уже не покидает ее. Разве не герой безрукий талантливый художник, выучившийся рисовать ногой, чтобы не умереть с голоду, и выступающий перед равнодушно любопытствующей публикой с демонстрацией своего печального умения? На глазах у пронзенной жалостью и все-таки восхищенной Сашеньки «из нескольких смелых штрихов угля рождается извилистая дорожка в лесу и солнце, поднявшееся из-за деревьев». Потом второй, третий рисунок, и выступление окончено. «Недорого, купите!» — уговаривает художник публику. Но желающих нет.
«Художник стоит неподвижно. Глаза его опущены. Губы крепко сжаты».
И, конечно, Сашенька не выдерживает. И, конечно, она ставит маму в такое положение, что не купить рисунка нельзя. Мама делает это очень тактично: она просит художника выбрать рисунок для ее дочки.
Он говорит сердечно и просто:
«— Пусть маленькая барышня возьмет рисунок «Дорога уходит в даль»... Когда я еще был художником, — а я был настоящим художником, прошу мне поверить! — это была моя любимая тема: «Все вперед, все в даль! Идешь — не падай, упал — встань, расшибся — не хнычь! Все — вперед, все — в даль!»
Рисунок безрукого художника много лет провисел, над кроватью Сашеньки.
«...утром, открывая глаза, я видела дорогу среди деревьев, из-за которых вставало солнце, и вспоминала слова художника…
Ох, как пригодились мне в жизни эти слова!».
Вот так, одною строкой, автор перебрасывает мостик в будущее. Читатель еще не знает, что скрывается за этой короткой и такой тревожной строчкой. Но дело сделано. Далекое-далекое прошлое, (сегодняшним детям среднего возраста оно должно казаться седою древностью!) вдруг стремительно приближается к нашим дням. Достоверные приметы этого прошлого (еще хорошо памятные взрослому читателю), вся атмосфера времени, безупречно и понятно для всех возрастов переданная автором, приобретают особо волнующее содержание, когда они связаны с настоящим.
Их еще немного, этих мостиков (перед нами только первая книга большого произведения), но есть среди этих мостиков один, о котором надо сказать особо.
Переброшен он в самом начале книга, там, где Сашенька, впервые постигающая необратимый смысл смерти, с ужасом и отчаянием допытывается у отца, что значит слова Юзефы о домике в три аршина — единственном собственном доме, на который может рассчитывать врач-бессребренник Яновский.
Но отец уклоняется от ответа. Он готов признать, что домик маленький и что он там будет один, без семьи, но «вы будете приходить ко мне в гости. Вот ты придешь к этому домику и скажешь тихонько — можно даже не вслух, а мысленно: «Папа, это я, твоя, дочка... Пуговица... Я живу честно, никого не обижаю, работаю, хорошие люди меня уважают...» И все. Подумаешь так, и пойдешь себе...»
Опустим дальнейший разговор, хотя в нем и сказаны очень значительные слова. И вот он, «мостик»:
«Папа мой, папа!.. Через пятьдесят лет после этого вечера, когда мы с тобой «кутили», тебя, 85-летнего старика, расстреляли фашисты, занявшие наш город. Ты не получил даже того трехаршинного домика, который тебе сулила Юзефа, и я не знаю, где тебя схоронили. Мне некуда прийти сказать тебе, что я живу честно, никого не обижаю, что я тружусь и хорошие люди меня уважают... Я говорю тебе это здесь».
По-разному читают люди одну и ту же книгу. По-разному будет читаться «Дорога уходит в даль».
Наверно, в книге есть лучше и хуже написанные страницы, наверно, в ней можно найти спорные выражения, «неудачные эпитеты или слабые строки. Но пусть их ищут профессионалы-критики. Мне же, простому мастеровому цеха прозы, в который так празднично вступает драматург А. Бруштейн, хочется лишь во всеуслышание сказать «Добро пожаловать!», поздравляя и самого автора и Детгиз с новой отличной повестью о детстве.
Л-ра: Знамя. – 1956. – № 11. – С. 184-188.
Критика