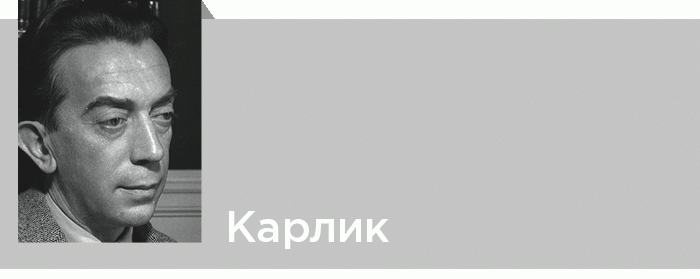Леонид Волынский. Семь дней

(Отрывок)
Глава первая
...Горело сразу со всех сторон,
Все скрылось в черном дыме.
Колокольни с грохотом рушились в прах,
И пламя вставало над ними.
Генрих Гейне. "Германия"
Дрезден
Шофер с трудом ведет машину по извилистым, узким проездам меж груд обгорелого, хрустящего под колесами щебня. Из-за поворота навстречу вырывается мотоциклист. Поравнявшись с нами, он резко снижает скорость и, махнув рукой, успевает крикнуть:
- Сикстины в Дрездене нет!
И уносится дальше, оглушительно треща, окутанный облаком рыжей кирпичной пыли.
Это капитан Орехов из штаба дивизии. Еще неделю назад, сидя на обочине дороги, мы с ним промеряли по карте расстояние до Дрездена, говорили о предстоящем большом наступлении и о том, что может произойти с Дрезденской галереей, если в городе завяжутся уличные бои.
Капитан был большой любитель живописи и знал в ней толк. Он раздобыл где-то туристский путеводитель по Дрездену и носил его в своей планшетке. Мы восхищались великолепными фотографиями и несколько раз возвращались к тому листу, где был изображен Цвингер - музей-дворец, место, известное всему миру. Заветной мечтой капитана, да и моей, было посмотреть "Сикстинскую мадонну" Рафаэля.
И вот четыре слова: "Сикстины в Дрездене нет!"
Что же это значит?
Достаю из планшетки и раскладываю на коленях крупномасштабную карту города.
Итак, нам предстоит переправиться через Эльбу по единственному уцелевшему после американской бомбежки мосту, затем свернуть налево и проехать по Прагерштрассе до Остра-аллее...
Но это всего лишь названия. Перед нами кирпичные джунгли. Никаких улиц. Ни одного из тех зданий, которыми мы так любовались, рассматривая путеводитель.
Повсюду, куда ни взглянешь, торчат обгорелые, закопченные коробки домов. Сквозь дыры в почерневших стенах светится лазурно-синее небо. Маленький красный вагон трамвая стоит, накренившись, на рельсах. В нем живут воробьи. Они вылетают сквозь окна и возвращаются обратно, деловито чирикая.
Вдалеке, над зубчатыми, освещенными солнцем развалинами, высится массивный, как скала, купол. Вероятно, это и есть знаменитая "Фрауэнкирхе" - церковь, построенная в XVIII веке архитектором Георгом Бером. Об этом здании в путеводителе сказано так:
"Торжественно высится могучий каменный купол над застывшим морем крутых старых крыш. Кто видел однажды эту прекраснейшую из прекрасных картин, тот никогда ее не забудет..."
Теперь этот купол расколот надвое будто взмахом гигантского топора. Зубчатый обломок скалы над застывшим морем развалин.
Нахожу на карте "Фрауэнкирхе"... Это недалеко от Цвингера.
Пользуясь расколотым куполом как ориентиром, пробираемся между руинами. Нас трое в машине: шофер Захаров, сержант Кузнецов и я.
Через полчаса мы у цели. Захаров тормозит. Вылезаем из машины. Тихо. Только невыключенный мотор негромко ворчит да еще слышно, как тяжко ухает на юго-западе артиллерия. Перед нами Цвингер. Вернее, то, что еще недавно было и называлось Цвингером. Трудно поверить глазам, но это именно так.
Цвингер разбит.
Где же картины
Стоим в оцепенелом молчании. Захаров поворачивает ключик, заглушает мотор. Щебень печально хрустит под ногами. Проходим сквозь выщербленные, исклеванные осколками ворота центрального входа. Чудом уцелевшие башенные часы с бело-голубым фарфоровым циферблатом показывают без десяти пять. Должно быть, первая бомба остановила их.
Кузнецов на ходу наклоняется, поднимает лежащую среди камней кудрявую, отсеченную от туловища голову статуи - улыбающуюся детскую головку с ямочками на щеках. Он смотрит на нее, хмурится и осторожно кладет на свободное от щебня место.
Идем дальше молча. Только Захаров время от времени тихо чертыхается и бормочет: "Ну и ну!.."
Он на редкость неразговорчив и ухитряется уложить все свои чувства в одно это междометие.
И верно, что еще скажешь? Найдутся ли слова, достаточно сильные, чтобы выразить то, что мы чувствуем теперь, карабкаясь по развалинам Цвингера?!
Под ярким майским солнцем на фоне свежей зелени пышных платанов они кажутся неестественными, нелепыми, как дурной сон.
Темнеют пустые окна полукруглых галерей. Валяются сорванные, скрученные, измятые, как бумага, куски медной кровли.
Обломок стены, повисший на самом верху центрального павильона, покачивается от малейшего ветерка, грозя обрушиться.
Напряженной, окаменевшей улыбкой улыбается фавн, поддерживающий балконный карниз; у него оторваны обе руки и глубоко изранена мускулистая грудь.
От здания картинной галереи остались только иззубренные, закопченные куски стен. Сквозь гигантский пролом в центре виднеется площадь с уцелевшей каким-то образом напыщенной конной статуей - памятником курфюрсту Иоганну.
Пробираемся сквозь этот пролом внутрь здания галереи. Страшно... Так и кажется, что сию минуту увидишь где-нибудь клочья сгоревшей картины.
Но нет. Ничего. Ни клочка холста, ни одного кусочка хотя бы обугленной рамы.
Шаг за шагом обшариваем все, карабкаясь, перебираясь через груды штукатурки и битого кирпича, и наконец вылезаем наружу, перепачканные, вспотевшие.
Кузнецов сбивает пилоткой красноватую пыль с гимнастерки и шаровар. С огорчением смотрит на свои сапоги.
В батальоне он первый чистюля и щеголь. Его изрядно стоптанные кирзовые чоботы никогда не теряют блеска. Для всех нас это загадка проклятая кирза ни у кого не хочет блестеть.
Пояс у него офицерский, с пятиконечной звездой на отдраенной медной пряжке. Старшина Суханов, глядя на него, никогда не упускает случая пробурчать:
- Не положено, а носишь!
Но это так, полусерьезно, любя. В батальоне к Олегу относятся с какой-то особенной, грубоватой нежностью. Вероятно, потому, что его, как говорят у нас, "с того света отозвали".
Дело в том, что до нас он служил в артиллерии, в крупных калибрах, радистом-корректировщиком. На Курской дуге в момент приближения группы немецких танков и самоходных пушек он вызвал залп батареи на себя.
Его нашли через два с лишним часа по кончику антенны, торчавшему из перепаханной снарядами земли. Неподалеку догорали два "фердинанда".
В госпитале он пришел в сознание, попытался что-то спросить, но вместо слов изо рта вырвалось глухое мычание. Олег затих. Более трех месяцев он объяснялся знаками, а по ночам, во сне, стонал и скрипел зубами.
Потом приехал хирург из Москвы. Начальник госпиталя называл его "наш Сергей Сергеич".
Сдвинув на глаз рефлектор, он долго, бодливо клоня лобастую голову, смотрел в рот Олегу, потом сказал: "Так-с", - и ушел.
Назавтра Олега взяли в операционную, а через три дня в палату снова пришел Сергей Сергеич.
- Нуте-с, как поживаем? - спросил он.
- Х-хорошо! - неожиданно ответил Олег.
Он и теперь слегка заикается. У него частые головные боли: от контузии чуть разошлись черепные швы. Кто-то посоветовал ему туго бинтовать голову, и он - наискосок, не без щегольства - перетягивает лоб бинтом. Из-за белой марлевой повязки глядят цыганские черные глаза.
Пообчистившись, он садится рядом с нами.
Закуриваем.
Артиллерия все еще долбит. С юго-запада доносятся тяжкие, ухающие удары. Это наши войска ведут бои с группировкой генерал-полковника Шернера, отказавшейся капитулировать.
Войска Шернера состоят сплошь из эсэсовцев. Головорезы, носящие на пилотках череп с двумя костями, изо всех сил пробиваются на запад. Перед уходом они основательно нашпиговали Дрезден минами. Теперь наш батальон выковыривает их отовсюду, из самых неожиданных мест. Нам же с Захаровым и Кузнецовым поручен Цвингер - это особое задание командования фронта: разведать и попытаться выяснить судьбу картин.
- А их здесь, видать, и не было, - говорит Кузнецов, выпустив длинную струйку дыма и задумчиво щурясь.
- Это точно, - как всегда кратко, откликается Захаров.
Действительно, по всему судя, картин в здании во время бомбежки не было. Но где же они? Где?
- А может, их куда-нибудь в подвал затолкали? - прерывает мои размышления Кузнецов.
Оживившись, поспешно докуриваем. Под зданием Цвингера, конечно же, должны быть подвалы. Надо только разыскать вход...
Мы находим его за грудой обломков. Олег передвигает на грудь автомат. Захаров достает из кармана трофейный фонарик - гофрированную трубку со стеклянным грибком на конце.
Спускаемся по ступенькам. В подвале темно, пахнет пеплом и затхлостью. Луч фонарика прыгает, упирается в пыльные стены. Пусто. Идем осторожно, вглядываясь: чем черт не шутит!..
В самом конце натыкаемся на сложенные аккуратными штабелями фаустпатроны.
- Нашли местечко!.. - цедит Захаров.
Фаустпатрон похож на большую, метровой длины, булаву: длинная рукоятка-труба и тяжелый набалдашник из двух усеченных конусов, сложенных основаниями.
Есть что-то очень мерзкое в том, что название этой штуковины связано с именем Фауста. Впрочем, "фауст" по-немецки значит "кулак"...
Фаустпатрон - оружие ближнего боя, ручной реактивный снаряд. Гитлеровцы возлагали на него большие надежды. В критические минуты они подбадривали себя каким-нибудь новым оружием, обязательно носящим название погромче и пострашнее. Новые танки-"тигры". Самоходные пушки - "пантеры". Летающие снаряды - "фау-айнс", "фау-цвай"...
Возвращаемся молча. В первые секунды яркое солнце слепит, режет глаза. Огибаем груду камней у входа. В противоположном конце двора, в тени, сидит на обломках какой-то человек с открытым плоским ящичком, поставленным на колени.
Первая нить
У него худое лицо, узкие зеленоватые глаза, гладко зачесанные назад темно-русые волосы. Когда мы приближаемся, он встает, заметно бледнея.
- Мы, кажется, помешали, - говорю я. - Извините.
- Нет, нет, ничего, - хмуро бормочет он. Руки его, держащие на весу полированный ящичек, чуть-чуть дрожат.
Давно уже я не видел этюдника, почти четыре года. У меня дома, в Киеве, остался точно такой же. Тоже коричневый, полированный, только изрядно испачканный. Я всегда сильно пачкаюсь красками, когда пишу. Скажем точнее: когда писал.
Свой последний этюд - цветущие каштаны - я написал в мае сорок первого года. В Дрездене тоже много каштанов. Когда мы добирались сюда, я видел несколько усыпанных бело-розовыми свечами деревьев. Здесь они, видимо, зацветают раньше. В Киеве это обычно начинается ближе к середине мая.
Киев после освобождения мне так и не довелось повидать. Мы прошли значительно южнее. Говорят, он сильно разрушен. На Крещатике слева ни одного целого дома...
Быть может, этот немец с этюдником видел разрушенный Киев... Он садится, скрипнув протезом, и Захаров сразу же замечает это.
- Интересно, где он свою ногу оставил? - тихо бубнит он.
Немец смотрит на нас встревоженным, напряженным взглядом. Разговор налаживается туго. Но все же вскоре мы уже знаем, что немца зовут Вилли Шмидт, что он учился в Академии художеств, что он был призван в 1942 году и потерял ногу под Старой Руссой. Вернулся в Дрезден инвалидом…
Он говорит неторопливо и неохотно, скупо цедит слова, хмурится, все время чистит палитру гибким стальным мастихином*. Чуть-чуть оживляется, узнав, что я тоже художник; с любопытством взглядывает на меня, подняв на миг глаза, и тотчас же снова принимается скрести палитру.
* (Мастихин - гибкая лопатка-скребок, применяющаяся живописцами для очистки палитры, для снятия с холста излишних слоев краски, а иногда также для нанесения рельефных мазков на холст.)
- Вот, мечтал посмотреть Цвингер, - говорю я.
- Что ж, смотрите...
Он криво усмехается и делает рукой широкий, приглашающий жест.
Потом он подробно рассказывает о бомбежке.
...Это случилось в ночь с 13 на 14 февраля 1945 года. Перед рассветом люди были разбужены сигналом воздушной тревоги. За четыре с половиной года войны это была уже не первая тревога. Но ни одна бомба не падала на город: самолеты большей частью проходили стороной.
И жители Дрездена свыклись с надеждой, что война пощадит их город, не являющийся ни военно-промышленным центром, ни сколько-нибудь значительным узлом коммуникаций.
Но этой надежде не суждено было сбыться.
Появившись над городом, первая же волна "летающих крепостей" без особого труда подавила малочисленную зенитную оборону. С самолетов были сброшены парашютные осветительные ракеты.
Залитый слепящим светом, лежал в предсмертном оцепенении Дрезден, разделенный широкой полосой Эльбы на две части: западную (Альтштадт) - район жилых домов и культурно- исторических памятников, и восточную (Нейштадт) - современную часть города, где были сосредоточены немногие дрезденские заводы, воинские казармы, склады и прочее.
Можно было предположить, что именно на этот район обрушатся первые удары. Но, как ни странно, Нейштадт оказался почти незатронутым. Вся бомбовая мощь "летающих крепостей" была обращена против Альтштадта.
В течение девяноста минут, налетая волнами, самолеты разгружались над этой частью города. Бомбили "по квадратам", то есть не избирательно, а сплошь, методически уничтожая квартал за кварталом.
Под ударами тяжелых фугасок в прах рассыпались дома, простоявшие более трех столетий. Рушились церкви, памятники, театры, дворцы - все, что снискало Дрездену славу "столицы искусств", "Флоренции на Эльбе". В бушующем пламени бесчисленных пожаров заживо сгорали люди, не находившие нигде спасения.
А вслед за бомбами сыпался фосфорный дождь, дотла выжигая все, что не успело еще сгореть.
- ...Тысяча пятьсот "летающих крепостей", - говорит Вилли. - Триста тысяч убитых. И - вот...
Он обводит взглядом развалины Цвингера. Захаров, то и дело спрашивающий меня, о чем идет речь, теперь молча курит. Олег сидит хмурясь, вертя в пальцах обугленный камешек.
- Видели ведь, куда кидали!.. - говорит он.
Конечно же, видели. Нельзя было не видеть. Пожалуй, не нашлось бы в Дрездене другого сооружения с таким характерным, четко очерченным планом, как Цвингер. Да и самое местоположение его - в сердцевине Альтштадта, у центральной площади, рядом с театром - не могло оставить и тени сомнения у тех, кто сидел над прицельными устройствами "летающих крепостей".
- Но что же картины? Неужели погибли?
- Не знаю, - пожимает Вилли плечами. - Цвингер закрыли еще в январе.
Помолчав, он усмехается:
- Когда гибнет нация, кто станет думать о картинах!
И вновь принимается за палитру.
- Вы и себя, вероятно, причисляете к погибшим?
Он молчит.
- Если так, - говорю я, - то зачем же вот это? - И указываю глазами на этюдник.
- Мой реквием, - усмехается он, глядя на незаконченный этюд: развалины на фоне яркого неба. - Каждый делает что может.
- Это верно, - соглашаюсь я. - Каждый что может... Жаль, конечно, что вы ничего не знаете о картинах.
Мы поднимаемся. Он продолжает сидеть, понуро глядя вниз.
- Кажется, их куда-то вывезли, - нехотя роняет он. - Были такие слухи. У нас в академии, во всяком случае, так говорили... Шепотом, конечно, - прибавляет он усмехнувшись.
- А не остался ли здесь кто-нибудь, знающий об этом подробнее? Кто-нибудь из музейного персонала, из служащих? Кто-нибудь, думающий не только о реквиеме...
Кажется, попало в самую точку. Мгновенный, колющий взгляд. Он краснеет, хмурится. Потом, будто решившись на что- то, медленно говорит:
- Несколько дней назад я еще видел здесь одну женщину...
"Операция "М"
Сквозь дыры в стенах виднеется небо. Поднимаемся по широкой мраморной лестнице, усыпанной штукатуркой, битым кирпичом. Вилли, тяжело прихрамывая, идет впереди. Гулкий пустой коридор. Валяются какие-то книги, куски стекла. Вилли осторожно стучит полусогнутым пальцем в лопнувшую дубовую дверь.
Открывает женщина, седая, узкоплечая, высокая. Светлые глаза за толстыми, выпуклыми стеклами очков. Подносит ладонь к горлу, бледнеет.
- Не пугайтесь, фрау доктор,- хмуро говорит Вилли.- Разрешите...
Выбитое окно затянуто простыней. Куча запыленных книг в углу. Колченогая койка.
- Картины? - говорит женщина. - Не знаю, не знаю... Ничего не знаю.
Она растерянно поправляет очки, теребит дрожащими пальцами застежку черного платья у ворота.
- Очень жаль...
- Я ведь не имела никакого отношения к картинам, - пожимает она плечами.
- Фрау доктор была хранителем Альбертинума, - поясняет Вилли.
Альбертинум... Одно из крупнейших в Европе собраний скульптуры.
- Где же теперь ваши статуи, фрау доктор?
- Ах, боже мой!.. Ничего я не знаю. Я ведь не нацистка. Мне многого не доверяли. Гауляйтер Мучман руководил всем этим. Я имею в виду эвакуацию... - Она снова умолкает, проводит ладонью по лбу. - Вот видите, не могу даже пригласить вас присесть. У меня погибло все, - отрывисто говорит она. - Дом. Семья. После бомбежки я пришла сюда, в Альбертинум. И здесь тоже все кончено. Тридцать пять лет работы. Вся жизнь...
Она машет рукой, достает из кармана платок.
- Вы любите скульптуру? - спрашивает она и вдруг улыбается какой-то совершенно детской улыбкой. Глаза ее под очками еще влажны. - О, я могла бы вам кое-что показать!.. Но теперь... Боюсь, этого уже никто не увидит.
- Почему?
- Видите ли...
Она снимает очки, хмурится, долго протирает стекла платочком. Взгляд ее близоруких глаз застывает, останавливается на чем-то далеком...
Жила-была девочка в добропорядочной немецкой семье. Росла, училась, читала книги. У отца их было очень много. Пяти лет она научилась читать и потом часами просиживала в отцовской библиотеке, забравшись с ногами в кресло.
По субботам к отцу приходили друзья: профессор Шнабель и старый скульптор Лоренц. Они приносили с собой скрипку и виолончель. Отец садился за фортепьяно.
Моцарт, Бетховен, Гайдн... Она любила слушать закрыв глаза.
Как-то дядюшка Лоренц взял ее с собой в Альбертинум. Строгая тишина, живая теплота мрамора, тусклый блеск бронзы - все это поразило ее. Старый Лоренц умел рассказывать. Он мог наговорить кучу интересного о каждой статуе. Он-то и заронил в ее душу первую искру.
Через десять лет она пришла в Альбертинум с университетским дипломом. С тех пор ежедневно, ровно в девять, она слышала, как усатый швейцар рокочет свое "гут морген", открывая перед ней дверь служебного входа.
Здесь она познакомилась с Паулем. По вечерам они гуляли вдвоем над тихой Эльбой. Пауль читал стихи.
Потом настал тысяча девятьсот четырнадцатый, и он ушел, стуча тяжелыми солдатскими сапогами. А через два года почтальон принес ей пакет.
Ах, эта черная кайма!.. У нее сразу же подкосились ноги, а почтальон, склонившись над ней, говорил:
- Не горюйте, фрау, не горюйте! Что поделаешь!.. Не надо так горевать...
Да, не надо так горевать. Она ушла в себя, как улитка уходит в раковину. Водила посетителей по залам Альбертинума. Рассказывала о Фидии и Праксителе, о Лисиппе, о Микеланджело. Рылась в книгах. Писала...
Шли годы. Пробилась первая седина. Под ее статьями в толстых ежегодниках уже стояло: "Доктор Эльвира К... главный хранитель музея Альбертинум". Сорбонна прислала ей почетный диплом.
Потом пришел тысяча девятьсот тридцать третий.
Она не очень вникала в происходящее за стенами Альбертинума. В Берлине горел рейхстаг. Появился новый канцлер. По улицам маршировали люди в коричневых рубашках, их называли странным словом "штурмовики". На Вильдруфферплатц однажды вечером жгли книги. Это было отвратительно, но в Альбертинуме жизнь шла по-прежнему, и, казалось, ничто не могло нарушить установленный здесь порядок.
Но вот однажды директор Хандке пригласил ее в свой кабинет. За его столом сидел человек в светло-коричневом френче, и герр Хандке сказал:
- Вот, фрау доктор, я вынужден покинуть музей и хочу представить вас новому директору.
Фрау Эльвира не могла бы сказать, что сразу все изменилось. Новый директор ходил по залам, поскрипывая блестящими сапогами, рассматривал статуи, путал греков с римлянами и вежливо справлялся о разнице между барельефом и горельефом.
Но через две недели ушла и не вернулась Лотта, любимая ученица фрау Эльвиры: у нее оказалась примесь не арийской крови.
Потом пришли какие-то люди с молотками, сверлами и другими инструментами. Сколотив подмостки, они молча укрепили над главным входом уродливую эмблему, похожую на сегнерово колесо из школьного учебника.
Затем директор пригласил к себе Циглера, швейцара. Старик вышел из кабинета бледный и лишь на следующий день признался фрау Эльвире, что никак не может привыкнуть вместо обычного "гут морген" лаять "хайль Гитлер".
Фрау Эльвира старалась не замечать всего этого. "В конце концов, - твердила она, - у меня свои занятия". И еще глубже зарывалась в книги, еще нежнее ощупывала пальцами шершавый мрамор античных статуй. И ей казалось, что время идет мимо нее.
Так приблизился тридцать девятый. Уже давно были уволены из Альбертинума все "неблагонадежные". Уже давно оставшиеся приучились при встречах с директором выбрасывать вперед правую руку и произносить "хайль". Свыклись с отсутствием посетителей, с крикливыми заголовками в газетах, с топотом солдат и скудными пайками. Научились молчать и ничему не удивляться. И все же события 1 сентября всколыхнули всех.
Весь этот день фрау Эльвира просидела запершись, а вечером пошла к своему старому другу, доктору Фридриху.
В последние годы они редко виделись; причиной этому был, очевидно, Фридрих, замкнутый, угрюмый и - что греха таить! - такой же, как она, одержимый.
Он ничего не хотел знать, кроме своей галереи, с картинами разговаривал, как с живыми, а к окружающим людям относился с той долей высокомерия и презрения, которая делала общение с ним неприятным. Его не любили, хотя и отдавали должное давно укрепившейся за ним репутации знатока старинной живописи.
Фрау Эльвира застала его в тот вечер за чтением. Он сидел в глубоком кожаном кресле среди тяжеловесной, старомодной мебели своего кабинета, где давно уже ни одна вещь не меняла своего места.
- Что ж это будет, Фридрих? - спросила она.
Он вопросительно взглянул на нее поверх очков.
- Опять... война. И с кем? Мы бросаем вызов всему миру! Что будет дальше?
Он досадливо поморщился, захлопнул книжку:
- Я не хочу об этом думать, Эльвира. Я не хочу принимать и малейшего участия в этой пляске сумасшедших, которую почему-то называют политикой. Я хочу быть в стороне, понимаешь? Слава богу, мы-то с тобой имеем эту возможность. Есть еще в этом море безумия островок, где человек может жить спокойно...
- "Есть еще в этом море безумия островок..." Вот чем мы себя тешили. Мы ведь не нацисты. Мы честные, добропорядочные немцы. Мы не держим дома портретов Гитлера, не поем "Хорст Вессель", не убиваем. Мы сидим над книгами, зажав уши. Ведь мы не в силах ничего изменить...
Она надевает очки, обводит взглядом комнату.
- Слишком поздно мы очнулись! - вздыхает она. - Слишком поздно!.. Горькое пробуждение!..
Торопливо, будто боясь упустить самое важное, рассказывает она историю последних месяцев.
24 января 1945 года, после начавшегося большого зимнего наступления советских войск, на дверях дрезденских музеев появились таблички: "Закрыто". Все сотрудники были удалены. Днем у зданий дежурили полицейские.
По ночам же к музеям подъезжали грузовые автомобили-фургоны. Прилегающие кварталы оцеплялись охранными отрядами "СС".
Носились неясные слухи о какой-то секретной "операции "М", связанной с советским наступлением.
"Русские получат здесь смерть, голод и крыс", - так заявил во всеуслышание гауляйтер Саксонии Мучман.
Это был жестокий, корыстный и очень богатый человек. Его втихомолку называли "король Му" и старались не попадаться ему на глаза: прохожие отворачивались к витринам или же забегали в подворотни, когда по улицам мчался, завывая сиреной, его бронированный автомобиль.
Его особняк-дворец на Остра-аллее и две загородные виллы были битком набиты награбленным добром: ценной мебелью, хрусталем, серебром и золотом, коврами и картинами из России, Франции, Бельгии и из польских поместий. Теперь все это спешно заколачивалось в ящики и подготовлялось к отправке на запад: у гауляйтера были свои планы.
А "операция "М" тем временем шла своим чередом. Еженощно к зданиям музеев подъезжали машины и, нагруженные, исчезали под покровом темноты.
...Проходит еще три месяца. Дрезден разбит бессмысленной бомбардировкой. 30 апреля газеты выходят с огромным портретом Гитлера в траурной рамке. Отравившийся фюрер объявлен павшим в бою. Рушится "Третья империя", построенная на крови и лжи. Советские солдаты ведут бои в центре Берлина, штурмуют рейхстаг. Геббельс из своего подземелья в последний раз истерически призывает немцев ко всеобщему самоубийству.
И никто уже в этом аду не помнит о картинах и статуях, о черных фургонах, об оцепленных эсэсовцами кварталах.
Тайна "операции "М" потонула в бурлящем водовороте войны. Остались только догадки; одной из них фрау Эльвира после долгих раздумий поделилась с нами.
...Полуразрушенное, обгоревшее здание Академии художеств над Эльбой. Спускаемся в глубокий подвал. Тяжелые бетонные своды. Угольная пыль под ногами.
Здесь в январе велись какие-то работы. У входа день и ночь торчали эсэсовцы. Вывозили землю - машину за машиной. Подвозили кирпич и цемент. Говорили, что расширяют бомбоубежище. Но потом ничего такого не оказалось; в феврале фрау Эльвира спускалась сюда во время воздушной тревоги. Не видно было никаких следов земляных работ. Все оставалось, как прежде...
Медленно идем вдоль стен, светя фонариком. И в конце концов натыкаемся на квадратное пятно в цементной штукатурке. Оно едва заметно отделяется своими краями от пыльно-серой поверхности стены.
Кузнецов молча постукивает сжатым кулаком по стене. В пределах пятна звук несколько более гулкий.
- Слышите? - шепчет он. Черные глаза его возбужденно блестят.
Простукиваем еще и еще раз, прислушиваясь.
- Толу бы шашечку, товарищ лейтенант, - говорит Захаров.
- "Толу, толу"!.. - язвительно шипит Кузнецов. - Видали сапера? - обращается он ко мне вполголоса, будто опасаясь спугнуть то неизвестное, что притаилось там, за стеной.
Захаров смущенно пожимает плечами. С толом действительно сюда, не разобравшись, соваться нечего. Нужны ломики, киркомотыги, фонари и прежде всего миноискатель.
Обо всем этом пишу подробно комбату, и Захаров уезжает с рапортом в батальон.
Критика