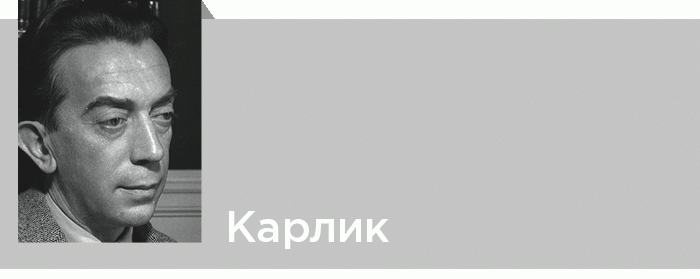Писатель и история живописи

А. Каменский
История искусства — наука синтетическая. Для нее необходимы широкие познания, четкая методология. Вместе с тем она требует от ученого своеобразного литературного дарования. Я говорю сейчас не о том, что книги и статьи, написанные живым языком, читать неизмеримо интереснее, чем монотонные сочинения, изобилующие канцеляризмами. Это очевидно, но тут еще нет никакой специфики. Образность при обращении к явлениям искусства оказывается необходимой в самом ходе постижения истины, ее раскрытия, определения, доказательства.
Словом, существует перекресток, на котором встречаются историк искусства и писатель. Однако дальше они идут каждый своим путем. Как бы блистательно ни была написана работа искусствоведа, она имеет сугубо специальное назначение. Искусствовед, в какой-то мере пользуясь образностью, все же прежде всего стремится создать последовательную и доказательную концепцию творчества мастера.
А для писателя, коль скоро он обращается к материалу истории искусства, исследования ученых служат лишь подспорьем, но уж во всяком случае не примером для подражания.
Бывает, однако, писатель принимается за своего рода переложение материалов истории искусства беллетристическими средствам. Чаще всего в сочинениях подобного рода «дней минувших анекдоты» перемежаются с прочувствованным изложением сюжетов прославленных полотен. Для тех, кто не в состоянии самостоятельно сообразить, куда, к кому и зачем возвращается блудный сын в картине Рембрандта, кого именно не ждали в репинском полотне и какие фрукты запечатлены в натюрморте Кончаловского, подобные книги могут оказаться в известной мере полезными.
Куда более сложную задачу ставит, перед собой писатель, когда он пытается постичь и воссоздать современное восприятие памятников искусства прошлого, подчеркнуть в них то, что особенно дорого людям наших дней. Тут его преимуществом является не только «хороший слог», занятность рассказа и т. д., но и возможность таких образных связей с картинами и скульптурами, таких перелетов из эпохи в эпоху, какие мыслимы только в рамках художественной литературы,
В этом могут убедить, в частности, работы Леонида Волынского, вот уже много лет пишущего на темы изобразительного искусства. Его перу принадлежит книга о русских художниках XIX века («Лицо времени»), биографический очерк о Ван Гоге («Дом на солнцепеке»), только что опубликованная «Юностью» повесть об импрессионистах («Зеленое дерево жизни»), путевые заметки «Краски Закавказья», где разговор идет преимущественно на темы искусства («Новый мир», № 9, 10, 1963).
Вся эта серия была открыта чрезвычайно своеобразной книгой Волынского «Семь дней», давно уже завоевавшей популярность и даже экранизированной. Я не берусь определить ее жанр, ибо она в своем роде необычна и ни с чем не соседствует. Автор выступает тут не только как комментатор истории искусства, но и как непосредственный ее участник. Рассказ о великих художниках и их знаменитых творениях переплетен в книге с повествованием о событии поистине историческом: спасении сокровищ Дрезденской галереи советскими войсками. Л. Волынский знает об этом событии не из вторых рук: он входил в группу офицеров и бойцов, которым удалось разыскать и вернуть человечеству бесценные картины старых мастеров, запрятанные и заминированные фашистами в старой каменоломне, на чердаке башни древнего замка, в подвале арсенала крепости Кенигштейн, в известняковой шахте Покау-Ленгефельд... Авторская интонация в рассказе о незабываемых семи днях поисков и находок спокойна и сдержанна, но тут и не было нужды «нажимать педаль»: события, о которых идет речь, сами по себе так удивительны, что книга от первых до последних страниц держит читателя в напряжении, заставляя заново пережить тревоги и радости этой памятной весенней недели 1945 года.
Становясь участником необычной экскурсии по Дрезденской галерее, когда ее сокровища в буквальном смысле слова возникают из-под земли, читатель, конечно, с особой жадностью и восторгом вглядывается в каждую картину, отвоеванную у небытия. И вполне оправданно и закономерно, что, переходя к непосредственному разговору о дрезденских картинах, Л. Волынский стремится не столько к строго объективной, тщательно выверенной во всех своих деталях исторической оценке, сколько к остроте и силе живого, «сегодняшнего» восприятия старинных шедевров.
Такое восприятие бывает неожиданным, иногда оно опрокидывает более или менее устоявшееся отношение к мастерам прошлых веков и их работам.
К примеру, «Сикстинская мадонна» Рафаэля, пережив период всеобщего поклонения в XIX веке, постепенно стала как-то отходить в тень, обретая репутацию чисто академического идеала. Историки искусства говорили о ней с некоторым холодком, а то и вовсе «с почтением проходили мимо».
Но подобный скептицизм был жестоко посрамлен тысячами людей, с ночи стоявших в очереди у московского музея имени Пушкина, где на время расположилась экспозиция дрезденских картин. Зрители входили в сердечный контакт с великой картиной, постигая ее глубочайшую, возвышенную человечность. Л. Волынский стремятся проникнуть в суть этого общения между современным человеком и образом, взлелеянным эпохой Возрождения.
Так и в других частях книги автор добивается «эффекта присутствия», входит в мир картин, раздвигая рамки времени, перешагивая через ту полосу отчуждения, которая обычно пролегает между зрителем наших дней и произведениями прошлых веков. Идет ли речь о «Девушке с письмом» Вермеера Дельфтского — «мы будто переносимся в опрятный, тихий Дельфт с его размеренно текущей жизнью... и в тишине ощутимей становится беззвучный бег времени»; о «Менинах» Веласкеса — «вы уже позабыли, что находитесь перед картиной, вы сами вошли в этот зал, где рядом с художником, озаренная светом, льющимся из невидимого окна, стоит золотоволосая инфанта Маргарита...» и т. д.
Конечно, у такого приема, при всей его несомненной привлекательности и остроте воздействия на читателя, есть и свои теневые стороны: опасность модернизации в трактовке картин, субъективного своеволия впечатлений. Сомнительно, например, что у папы Иннокентия X на знаменитом портрете Веласкеса «рот убийцы». Явно невпопад звучит утверждение, будто Лиотар нашел для изображения «миловидного лица» Шоколадницы «лучшие, светозарные краски»: лицо девушки на этой картине матовое, фарфоровое, застывшее, оно не озаряет светом, а лишь еле мерцает в спокойном сиянии дня.
Можно было бы пожелать и большей строгости в отборе и изложении разного рода исторических сведений. Иногда они подобраны несколько случайно, иногда и вовсе неверны. Например, Л. Волынский так рассказывает о судьбе картины Рембрандта «Заговор Цивилиса», которую художник выполнил в 1661 году для амстердамской ратуши и вскоре получил обратно для переделки, поскольку она не соответствовала вкусам отцов города: «Несмотря, на крайнюю нужду, гордость не позволила Рембрандту требовать деньги за отвергнутую работу. И тогда голландские шейлоки вырезали в пользу кредиторов четвертую часть из огромного полотна!»
На самом деле деньги за «Заговор Цивилиса» Рембрандт получил. Он отказался переделывать картину — это верно, но платить гульдены за свою принципиальность ему на этот раз не пришлось. А центральная часть композиции была вырезана самим Рембрандтом, который, несколько обработав ее, вновь продал как новую картину. На одном из кусков холста, оставшегося от первоначального варианта «Заговора Цивилиса», художник написал своих знаменитых «Синдиков».
Я говорил, что Л. Волынский стремится взглянуть «свежими современными очами» на произведения художников прошлых веков. Эту цель он преследует и в книге о русском изобразительном искусстве XIX века «Лицо времени».
По-моему, чтобы успешно достигнуть названной цели, литератору, кроме писательского мастерства, необходимо особое умение видеть. Надо опасаться как смертного греха перенесения чисто литературных мерок на живопись с ее специфическими законами построения образа. Мне могут заметить, что такое качество в одинаковой мере нужно и для верных суждений о современном изобразительном искусстве. Совершенно согласен. Но только «в историческом разрезе» становится особо очевидной вся нелепость привычки «читать» картины как газетные фельетоны.
«Лицо времени» Л. Волынского в основном отвечает этому требованию. Умению видеть посвящена даже отдельная глава, как бы вынесенная за скобки повествования. Не понятно, правда, почему тезис «живопись учит нас видеть» в книге о русском искусстве развивается на материале произведений Мазаччо, Тициана и только под конец — Сурикова. Но зато в самом ходе разговора о русской школе живописи прошлого столетия автор многократно и в самой различной связи обращается к зрительной структуре работ отечественных мастеров, к глубокому, разностороннему сопряжению «художественного языка» картин и их образного содержания, идейного смысла.
«Лицо времени» задумано как мозаика, состоящая из фрагментарных заметок об отдельных художниках, картинах, проблемах. Писатель не только не обязывает себя держаться хронологической последовательности изложения, но даже как бы восстает против нее, считая, очевидно, что она сковывает возможности живой, свободной беседы. Возможно, в этом есть свой резон, но тогда на смену канве дат должен прийти какой-то иной стержень повествования. Он есть, например, в первой главе, где все так или иначе связано с Академией художеств и ее воздействием на судьбы русского искусства. Но я не могу понять, почему, скажем, в седьмой главе подряд расположились разделы «Художник и зритель», «Об искусстве видеть», а затем рассказ о картинах В. Максимова и Г. Мясоедова, которые во всяком случае не принадлежат к лучшим шедеврам русского живописного мастерства. Столь же неясно, какие причины побудили автора вместить в одной и той же (пятой) главе очерки деятельности собирателя Третьякова, критика Стасова, мецената Мамонтова, затем пробежку по истории русского портрета, творческую биографию Крамского и, наконец, небольшой этюд о женских образах в русской живописи. Если «историзм восприятия» более или менее сохраняется в пределах каждой отдельной темы, то последовательность их расположения (или, точнее, отсутствие логичной последовательности) приводит к тому, что читатель теряет ощущение исторической перспективы.
Быть может, впрочем, то, что искусствовед, в силу своих неистребимых привычек, сердито оценивает как ералаш, писатель считает вполне допустимым, естественным и привлекательным. В самом деле, разве обязательно, придя в Третьяковскую галерею или Русский музей, начинать с осмотра икон и кончать знакомством с картинами последних лет? Можно ведь и по-другому — побродить без определенного маршрута, задержаться у любимых вещей, миновать другие, поспорить, помечтать. Зрители чаще всего именно так и поступают. И уходят из музеев с чувством доброй усталости, свободного и радостного приобщения к искусству.
«Лицо времени» Волынского напоминает такую вот вольную прогулку по градам и весям русского искусства прошлого века.
Как любая значительная тема времени требует для своего воплощения определенных выразительных средств, точно найденного образного, эмоционального строя, так и литературный рассказ о художнике должен обладать каким-то внутренним родством между самим характером, «музыкой» писательского стиля и жизненным творческим обликом героя повествования. Можно вспомнить великолепные образцы такого гармонического содружества. Например, блистательный этюд Эмиля Верхарна о Рембрандте. Или очерк К. Паустовского о Левитане, где словесные краски ощутимо близки той живописи, о которой рассказывают.
А вот интонация, взятая «не в том ключе», может существенно помешать делу. Именно эго, как мне кажется, произошло в книге Л. Волынского «Дом на солнцепеке». Несомненно, это добротная, интересная книга, стоившая автору большого труда. Ее страницы написаны с искренней любовью к Ван Гогу. Но камерный, спокойный стиль книги резко не соответствует колоссальному, обжигающему напряжению жизни и творчества Ван Гога, одного из самых трагических и самых человечных художников нового времени. Пастелью не изобразишь бурю. А Ван Гог — это именно буря, крик, смятение чувств, высочайший накал страстей.
А вот последняя книга Л. Волынского «Зеленое дерево жизни», главы из которой опубликованы в 1-м и 2-м номерах «Юности» за 1964 год, представляется мне удачей, причем удачей принципиальной. Ее основная причина не в каких-то стилевых новшествах и открытиях — книга написана в достаточной мере живо и образно, но в общем-то вполне традиционна по своим литературным качествам. Главная ценность повести заключена, по-моему, в том, что автор широко и подробно говорит о приемах построения образа в упоминаемых картинах, об оригинальных, характерных особенностях их художественного «языка». Без этого суждения о живописи, очевидно, не могут получить настоящей убедительности.
В «Зеленом дереве жизни» эти качества особенно ценны и необходимы. Ведь в этой книге речь идет об импрессионистах, о которых до сих пор не утихают споры. Значение импрессионистов, как явствует из книги Л. Волынского, заключалось не только в «революции цвета», а разработке нового метода живописной техники, но и в том, чему эта техника служила. А назначение этой техники было в том, чтобы показать красоту зримого мира, преобразующую силу солнечного света, прекрасное в повседневном. Философия радостного, чистого, здорового жизнеутверждения, провозглашенная нищими, затравленными художниками, была брошена ими как вызов холодному, расчетливому прозаизму буржуазного мещанства, его пошлости, лицемерию, слюнявому любованию тошнотворной, салонной «красивостью».
Книга Л. Волынского хорошо, со спокойной, выношенной убежденностью рассказывает обо всем этом.
Прочитав подряд все то, что Волынский написал об искусстве, я пришел к убеждению, что наибольшей свободы, органичности он достигает в жанре очерковых заметок. Именно тут обретает ничем не ущемленное полноправие личный писательский взгляд на вещи. Сегодняшние события, наблюдения, заметы сердца вступают в живую перекличку с образами далеких времен, с размышлениями о путях и перепутьях творческого гения человека. Стыки и сцепления между дневниковыми заметками современника и материалом искусства оказываются тут порой неожиданными и даже причудливыми. Но они не кажутся надуманными. Складывающийся в ходе доверительного, откровенного разговора угол зрения на памятники искусства представляется читателю убедительным, близким, понятным и принципиальным.
Я говорю сейчас не только и не столько о верном выборе жанра, отвечающего особенностям дарования автора. Если взгляд на прошлое освещен пламенем страстей сегодняшнего дня, жадной, ищущей мыслью современника, оно никогда не превратится в мертвую груду бездыханных фактов и дат.
Л-ра: Новый мир. – 1964. – № 3. – С. 255-258.
Критика